2011
История про рассказ к первому января
1 января
Ностальгия — вот лучший товар после смутного времени, все на манер персонажей Аверченко будут вспоминать бывшую еду и прежние цены. Говорить о прошлом следует не со стариками и не с молодыми, а с мужчинами, только начавшими стареть — вернее, только что понявшими это. Они ещё сильны и деятельны, но вдруг становятся встревоженными и сентиментальными. Они лезут в старые папки, чтобы посмотреть на снимок своего класса, обрывок дневника, письмо без подписи. Следы жухлой любви, вперемешку с фасованным пеплом империи — иногда в тоске кажется, что у всего этого есть особый смысл.
Но поколение катится за поколением, и смысл есть только у загадочного течения времени — оно смывает всё, и ничьё время не тяжелее прочего.
Меня окружал утренний слякотный город с первыми, очнувшимися после новогодней ночи прохожими. Они как бойцы, выходящие из окружения, шли разрозненно, нетвёрдо ставя ноги. Автомобиль обдал меня веером тёмных брызг, толкнула женщина с ворохом праздничных коробок. Бородатый старик в костюме Деда Мороза прошмыгнул мимо. Что-то беззвучно крикнул продавец жареных кур, широко открывая гнилой рот.
Город отходил, возвращался к себе, на привычные улицы, и первые брошенные ёлки торчали из мусорных баков. Ветер дышал сыростью и бензином. Погода менялась — теплело.
Я свернул в катящийся к Москве-реке переулок и пошёл, огибая лужи, к стоящему среди строительных заборов старому дому. Там, у гаражей, старуха выгуливала собаку. Собака почти умирала — в богатых странах к таким собакам приделывают колёсико сзади, и тогда создаётся впечатление, что собака впряжена в маленькую тележку.
Но тут она просто ползла на брюхе, подтягиваясь на передних лапах. Колёсико ей не светило.
Мало что ей светило в этой жизни, подумал я, открывая дверь подъезда.
Я шёл в гости к Евсюкову, что квартировал в апартаментах какого-то купца-толстопуза. Богач давно жил под сенью пальм, а Евсюков уже не первый год, приезжая в Москву, подкручивал и подверчивал что-то в чужой огромной квартире с видом на храм Христа Спасителя.
Мы собирались там раз в пятый, оставив бой курантов семейному празднику, а первый день Нового года мужским укромным посиделкам. Это был наш час, ворованный у семей и праздничных забот. Мир впадал в Новый год, вваливался в похмельный январский день, бежали дети в магазины за лекарством для родителей, а мы собирались бодрячками, храня верность традиции.
Было нас шестеро — егерь Евсюков, инженер Сидоров, буровых дел мастер Рудаков, во всех отношениях успешный человек Раевский, просто успешный человек Леонид Александрович — и я.
И вот я отворил толстую казематную дверь, и оттуда на меня сразу пахнуло каминным огнём, жаревом с кухни и вонючим кальянным дымом.
В гигантской гостиной, у печки с изразцами, превращённой купцом в камин, уже сидели Раевский и Сидоров, пуская дым колечками и совершенно не обращая на меня внимания.
— …Тут надо договориться о терминологии. У меня к Родине иррациональная любовь, не основанная на иллюзиях. Это как врач, который любит женщину, но как врач он видит венозные ноги, мешки под глазами (почки), видит и всё остальное. Тут нет «вопреки» и «благодаря», это как две части комплексного числа, — продолжал Раевский.
— У меня справка есть о личном общении, — ответил Сидоров. — У меня хранится читательский билет старого образца — синенькая такая книжечка, никакого пластика. Там на специальной странице написано: «Подпись лица, выдавшего билет: Родина».
Они явно говорили давно, и разговор нарос сосулькой ещё с прошлого года. Раевский сидел в кресле Геринга. Мы всё время подтрунивали над отсутствующим хозяином квартиры, что гордился своим креслом Геринга. На многих дачах я встречал эти кресла, будто бы вывезенные из Германии. Их была тьма — может, целая мебельная фабрика работала на рейхсмаршала, а может, были раскулачены тысячи дворцов, где всего по разу бывал толстый немец: посидит Геринг минуту, да пересаживается в другое кресло, но клеймо остаётся навсегда: «кресло Геринга».
Отсутствующий хозяин действительно вывез это кресло с какой-то проданной генеральской дачи под Москвой.
Участок был зачищен как вражеская деревня, дом снесён (на его месте новый хозяин сделал пруд), а резная мебель с невнятной историей переместилась в город.
Чтобы перебить патриотический спор, я вспомнил уличную сценку:
— Знаете я, кажется, видел Липунова.
— Того самого? Профессора?
— Ну, да. Только в костюме Деда Мороза.
— Поутру после Нового года и не такое увидишь, — Сидоров подмигнул. Сидоров был человек простой, и в чтении журнала «Nature» замечен не был. Теорию жидкого времени Липунова он не знал и знать не хотел.
Меж тем Липунов был загадочной личностью, знаменитым физиком. Сначала он высмеивал теорию жидкого времени, потом вдруг стал яростным её адептом, а потом куда-то пропал. Говорили, что это давняя психологическая травма — у Липунова несколько лет назад пропал сын-подросток, с которым они жили вдвоём.
Липунов пропал, может, сошёл с ума, а может, просто опустился, как многие из тех, кто считал себя академической солью земли, а потом доживал в скорби. Были среди них несправедливо обиженные, а были те, чей срок разума истёк. Ничего удивительного в том, что я мог видеть профессора в костюме Деда Мороза. Любой дворник сейчас может на день надеть красный полушубок вместо оранжевой куртки.
— Ну, дворники разные бывают, — возразил Раевский. — Я вот живу в центре Москвы, в старом доме. На первом этаже там живут дворники-таджики. Не знаю, как с ними в будущем обернётся, но эти таджики мне ужасно нравятся — очень аккуратно всё метут, тихие, дружелюбные и норовили мне помочь во всяких делах. Однажды пришёл в наш маленький дворик пьяный, стал кричать, а когда его принялись стыдить из окон, он отвечал разными словами — удивительно в рифму. Так вот таджики его поймали, и вежливо вразумили, после чего убрали всё то, что он намусорил битыми бутылками.
— Я уверен, что если ночью постучать к твоим таджикам, то ты станешь счастливым владельцем коробка анаши, — не одобрил этого интернационализма Сидоров. (Я почувствовал, что они сейчас снова свернут на русскую государственность) — Говорят, что таджикские дворники на самом деле непростой народ. Помашут метлой, вынут из кармана травы. Вот я поздно как-то приехал домой — смотрю, толкутся странные люди у дворницкого жилья. И везде, куда заселили восточную рабочую силу, я всегда вижу наркоманических людей.
— В Москве сейчас много загадочного. Вот строительство такое загадочное…
— Ой, блин, какое загадочное! — На этих словах из кухни, отряхивая мокрые руки, вылез буровых дел мастер Рудаков. — Золотые купола над бассейнами, туда-сюда. У нас ведь, как всегда, две крайности: то тиграм мяса не докладывают, бутылки вмуровывают в опорные сваи, то наоборот. Вот как-то пару раз мы попадали — то ли на зарывание денег, то ли ещё что. Мы сажаем трубы, двенадцать миллиметров, десять метров вниз, два пояса, анкера, всё понятно. Трубы — двенадцать метров глубиной, шаг — метр по осям, откапывают полтора метра, заливается бетонная подушка с нуля ещё метра полтора — что это?
Я слушал эту музыку сфер с радостью, потому что я понял, кого мне в этот момент напоминает Рудаков. А напоминал он мне актёра, что давным-давно орал со сцены о своей молодости, изображая бывшего стилягу. Он орал, что когда-то его хотели лишить допуска, а теперь у него две мехколонны и пятьдесят бульдозеров. В тот год, когда эта реприза была особенно популярна, мы были молоды по-настоящему, слово допуск было непустым, но вот подумать, что мы будем относиться к этому времени с такой нежностью как сейчас, мы представить не могли. Я почувствовал себя лабораторным образцом, что отправил профессор Липунов в недальнее прошлое, залив его сжиженным, ледяным временем.
Мы все достигли разного, и, кажется, затем и были нужны друг другу — чтобы хвастаться.
Но сейчас было видно, что ни славянофилы, ни западники ответить Рудакову не могут.
Я, впрочем, тоже.
Поэтому буровых дел мастер Рудаков сам ткнул пальцем в потолок:
— Что это, а? Стартовый стол ракеты? Так он и чёрта выдержит, не то что ракету. А ведь через год проезжаешь — стоит на этом месте обычный жилой дом. Ну, не обычный, конечно, с выпендрёжем, но, зная его основание, я вам могу сказать — десять таких домов оно выдержит. С лихвой! На хрена?
Раевский всё же вставил своё слово:
— Легенд-то много, меня-то удивляет другое — насколько легенды близки к реальности.
— Много легенд, да — мы вот на Таганке бурили, там, где какой-то офисный центр стоит. Так нас археологи неделю, наверное, доставали. Сначала пытались работу останавливать, но потом поняли — нет, бесполезно. Трое пришло мужиков средних лет, а при них двое шестёрок, пацаны такие, лет по девятнадцать. Рылись в отвале — а ведь там черепки кучами. Они шурфы отрыли, неглубокие, правда, по полметра, наверное. До хрена — до хрена, много этих черепков-то. Я перекурить пошёл, к ним подхожу: «Ну, чего?». Смотрю, у них там одна фанерка лежит — это двенадцатый век, говорят, на другой фанерине тринадцатый век лежит — весь в узорах. Четырнадцатый и пятнадцатый опять же, а так ведь и не скажешь, что пятнадцатый по виду. Ну там пятьдесят лет назад расколотили этот горшок.
— Удивительно другое, — вздохнул Раевский. — Несмотря на волны мародёров огромное количество вещей до сих пор находится в домах. Какие-нибудь ручки бронзовые.
— Да что там ручки! Было одно место в Фурманном переулке. Сначала мы приехали, стоял там старый дом, только потом его стали сносить. Такой крепкий дом старой постройки, трёхэтажный. Сидел там сторож — мы приходим как-то к нему, а он довольно смурной и нервный. Явилась ночью компания, говорит, три или четыре человека, лет по сорок, серьёзные. А там ведь как темнеет, а темнеет летом поздно, на все старые дома, как муравьи на сахар, лезут всякие кладоискатели, роют-ковыряют.
Этот дом действительно старый, восемнадцатого, может, века, там уже даже рам не осталось — стены да лестницы. И вот как стемнеет, этот дом гудел — по одному и компаниями.
Сторож этот пришельцев гонял, а тут… Тоже хотел шугануть, но эти серьёзные люди ему что-то колюще-режущее показали и говорят, сиди, дескать, нам нужен час времени. Через час можешь что хочешь делать — милицию сна лишать, звонить кому-нибудь, а сейчас сиди в будке и кури. Напоследок дед, правда, бросил им: «Ничего не найдёте, здесь рыщено-перерыщено». Мужики говорят: «Иди, дед. Мы знаем, чё нам надо».
Ну, через час он вышел, честно так вышел, как и обещал, пошёл смотреть. На лестничной площадке между вторым и третьим этажами вынуто несколько кирпичей, а за ними ниша, здоровая. Пустая, конечно.
Было там что, не было ли — хрен его знает. Да сломали давно уж.
На этом месте я пошёл на кухню слушать Евсюкова. Однако ж, Евсюков молчал, а вот Леонид Александрович как раз рассказывал про какого-то даосского монаха.
Евсюков резал огромные узбекские помидоры, и видно было, что Леонид Александрович участвовать в приготовлении салата отказался. Наверняка они только что спорили о женщинах — они всегда об этом спорили — потомственный холостяк Евсюков и многажды женатый Леонид Александрович.
— Так вот этот даос едет на поезде, потому что собирал по всей провинции пожертвования. Вот он едет, лелеет ящик с пожертвованиями, смотрит в окно на то, как спит вокруг гаолян и сопки китайские спят, но его умиротворение нарушает вдруг девушка, что входит в его купе.
Она всмотрелась в даоса и говорит:
— Мы тут одни, отдайте мне ящик с деньгами, а не то я порву на себе платье и всем расскажу, что вы напали на меня. Сами понимаете, что больше вам никто не то что денег не подаст, но и из монахов вас выгонят.
Монах взглянул на девушку безмятежным взглядом, достал из кармана дощечку и что-то там написал.
Девушка прочитала: «Я глухонемой, напишите, что вы хотите».
Она и написала. Тогда даос положил свою дощечку в карман, и, всё так же благостно улыбаясь, сказал:
— А теперь — кричите…
— Вот видишь, — продолжил Евсюков какой-то ускользнувший от меня разговор, — а ты говоришь уход и забота…
Мне всучили миску с салатом, а Евсюков с Леонидом Александровичем вынесли гигантский поднос с бараниной:
— Ну, всё. Стол у нас не хуже, чем на Рублёвском шоссе.
Рудаков скривился:
— Знавал я эту Рублёвку, бурил там — отвратительный горизонт. Чуть что — поползёт, грохнется.
Мы пили и за старый год, угрюмо и неласково, ибо он был полон смертей. И за новый — со спокойной надеждой. Нулевые годы катились под откос, и оттого, видимо, так чётко вспоминались отдаляющиеся девяностые.
У каждого из нас была обыкновенная биография в необыкновенное время. И мы, летя в ночи в первый день нового года над темнеющим городом, принялись вспоминать былое, и все рассказы о былом начинались со слов «на самом деле». А я давно знал, и знал наверняка, что всё самое беспардонное враньё начинается со слов «На самом деле…». Говорили, впрочем, об итогах и покаянии.
Слишком многие, из тех, кого мы знали, не просто любили прошлое, но и публично каялись в том, что сделали что-то неприличное в период первичного накопления капитала. Я сам видел очень много покаяний моих друзей — и все они происходили в загородных домах, на фоне камина, с распитием дорогого виски. Под треск дровишек в камине, когда все выпили, но выпили в меру, покаяния идут очень хорошо.
Есть покаяния другие — унылые покаяния неудачников, в нищете и на фоне цирроза печени. Очень много разных форм покаяний, что заставляют меня задуматься о ревизии термина.
— Мы тоже сидим у камина, — возразил Раевский, — по-моему, наличие дома или нищеты для покаяния не очень важно. Покаяние, если это не диалог с Богом, это диалог между человеком и его совестью. Камин или жизнь под забором — обстоятельства, не так важные для Бога и для совести. Важно, что человек изменился и больше не совершит какого-то поступка. Совесть — лучший контролёр.
— Ну, да. Ему это не нужно. К тому же есть такая штука — некоторых искушений просто уже нет по их природе. То, что человек мог легко сделать в девяностые годы, сейчас он легко не сделает. Зачем садиться снова на Боливара, что не вывезет двоих, можно сказать. «Мне очень жаль, но пусть он платит по один восемьдесят пять. Боливар не снесёт двоих» — и ему действительно, действительно очень жаль. Но по один восемьдесят пять уже уплачено. Не верю я в эти покаяния. Если они внутренние, то они, как правило, остаются внутренними и не выплёскивается на застольных друзей, газеты или в телевизор. А если выплёскиваются, то это что-то вроде публичного сжигания своего партбилета в прямом эфире.
— А что, рубануть по пальцу топором, бросить всё и отправиться в странствие по Руси? Сильный ход.
— Не знаю, ребята. А вот нравственное покаяние, когда жизнь обеспечена, и деньги — к деньгам — вещь куда более сложная для этического анализа.
— Я вот что скажу — все написанные слова — фундамент нынешнего благосостояния. Это такие мешки с долларами, что покрадены с того паровоза, что остановился у водокачки. Как в этом каяться — ума не приложу, вынимать ли из фундамента один кирпич, разбирать ли весь фундамент.
Нет, по мне сжигание партбилета особенно, когда за это не сажают — чрезвычайно некрасивый поступок, но покаяние без полной переборки фундамента тоже нечто мне отвратительное. Это ведь очень давно придуманная песня, старая игра в пти-жё: я украл три рубля, а свалил на горничную, а я девочку развратил, а я в долг взял и не отдал, а я написал говно и деньги взял. И начинается игра в стыд, такое жеманничанье. Друзья должны вздохнуть, налить ещё вискаря в низкие, до хруста вымытые стаканы и выпить. А потом кто-то ещё что-то расскажет — про то, как попилил бабла, и что теперь немного, конечно стыдно — но все понимают, что если бы не попилил, то мы бы не сидели на Рублёвке, и после бани не пили хороший виски. И вот все кивают головами и говорят, да-да, какой ты чуткий, братан, тебе стыдно, и это так хорошо. И стыд хорошо мешается с виски, как запах дров из камина со льдом в стакане. Как-то так.
— Да сдалось тебе благосостояние! Тебе кажется, что поводом для раскаяния может быть только поступок, за который получены деньги! Понятно, сидя перед камином сетовать, что пилил бабло, как-то нехорошо. Но ведь и не говорить — нельзя. Я вот никогда не пилил бабла, — возразил просто успешный человек Леонид Александрович. — Причём тут твоё благосостояние? Мне, например, про твоё благосостояние ничего не известно. И деньги тут тоже ни при чём, вернее, они (если говорить об уравнениях) только часть схемы «деньги — реноме — деньги-штрих». Более того, я вообще сложно отношусь к проблеме распила: ведь мы все получали деньги от тех же пильщиков. Но благосостояние тут очень даже причём — наша система довольно хорошо описана многими литераторами и философами, которые говорили о грехе и покаянии в церковном смысле. Меня-то интересует очень распространённый сейчас ритуал раскаяния, смешанный с ностальгией — которая не собственно сожаление, а такая эстетическая поза: грешил я, грешил… а потом отпил ещё.
То есть, понятно, что и у меня есть вещи, которых я бы сейчас делать не стал, но вспомнить их, скорее, приятно. А есть вещи, которые и делать бы не стал, и вспоминать очень неприятно. Последние, как правило, завязаны на чувство вины: «вот, поди ж ты, какие у этого были печальные последствия».
— Ну да, ну да. Но я как раз повсеместно наблюдаю сейчас стадию «сладкого воспоминания о грехе» — поэтому-то и сказал, что задумываюсь о сути самого понятия. Вот дай нам машину времени, то как мы поступим?
Я слушал моих друзей и вспоминал, как жарким летом уходящего года совершил такое же путешествие во времени — я вернулся лет на двадцать назад, и это был горький опыт. В общем, это было очень странное путешествие. В том месте — среди изогнутой реки, холмов, сосен и обрывов над чёрной торфяной водой, я впервые был лет пятнадцать назад — и потом ездил туда раз в год, пропустив разве раз или два — когда жил в других странах.
Ежегодно там гудел день рождения моего приятеля, но первый раз я приехал в другом раскладе: с одноклассником. Он только что отбил жену у приятеля, и вот теперь объезжал с ней, усталой, с круглым помидорным животом, дорогие сердцу места, оставляя их в прошлом, прощаясь. Одноклассник уже купил билеты на «Эль-Аль» и Обетованная земля ждала их троих. И я тогда был не один, да.
И вот за эти ушедшие, просочившиеся через тамошний песок годы на поляне, где я ночевал, ушлые люди вырастили ели, потом топорами настучали ёлкам под самый корешок, расставили их по московским домам, и вот — теперь там было поле, синее от каких-то лесных фиалок. Самым странным ощущением было ощущение от земли, на которой ты спал или любил. Вот ты снова лежишь в этом лесу, греешь ту же землю своим телом, а потом ты уходишь — и целый год на это место проливаются дожди, прорастает трава, вот эта земля покрывается снегом, вот набухает водой, когда снег подтаивает. И вот ты снова ложишься в эту ямку, входишь в этот паз — круг провернулся как колесо, жизнь, почитай, катится с горки. Но ты чувствуешь растворённое в земле и листьях тепло своего и её тела. У меня было немного таких мест, их немного, но они были — в крымских горах, куда не забредают курортники, в дальних лесах наверху, где нет шашлычников. Или в русских лесах, где зимой колют дрова и сидят на репе, и звезда моргает от дыма в морозном небе. И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли да пустое место, где мы любили. Теперь и там, и где-то в горах, действительно пустое место. А когда-то там стояла наша палатка, и мы любили у самой кромки снега. С тех пор много раз приходили туда снега, выпадая, а потом стекая вниз. На той площадке, сберегавшей нас, теперь без нас сменяются сезоны, там пустота, трава да ветер, помёт да листья, прилетевшие из соседнего леса. Там, и здесь, в этом подмосковном лесу без меня опадала хвоя и извилисто мимо текла река, и всё никогда не будет так же — дохнёт свинцовой гарью цивилизация, изменит русло река, а останется только часть тепла, частица. Воздух. Пыль. Ничто.
И время утекло водой по горным склонам, по этой реке, как течёт сейчас в нашем разговоре, когда мы пытаемся вернуть наши старые обиды, а сами уплываем по этой реке за следующий поворот.
— Машина времени нам бы не помешала, — вдруг сказал я помимо воли.
— Ты знаешь, я о таких машинах регулярно смотрю по телевизору. Засекреченные разработки, от нас скрывали, скручивание, торсионные поля… Сапфировый двигатель, опять же.
— Хм. Сапфировый двигатель случайно не содержит нефритовый ротор и яшмовый статор?
— Вова! — скорбно сказал Раевский. — Ты ведь тоже ходил к Липунову на лекции… Тут всё просто — охладил — время сжалось, нагрел — побежало быстрее.
— Не всё просто: это вернее простая теория — охладить тело до абсолютного нуля, — 273º по Цельсию, и частицы встанут. Но если охлаждать тело дальше, то они начнут движение в обратном направлении, станут колебаться, повторяя свои прошлые движения — и время пойдёт вспять. Да только всё это мифы, газета «Оракул тайной власти», зелёные человечки сообщают…
— А Липунов? — спросил Сидоров.
— Липунов — сумасшедший, — быстро ответил успешный во всех отношениях человек Раевский. — Вон, Володя его в костюме Деда Мороза сегодня видел.
— Тут дело не в этом, — сказал просто успешный человек Леонид Александрович. — Ну вот попадаешь ты в прошлое, раззудись плечо, размахнись рука, разбил ты горячий камень на горе, начал жизнь сначала. И что ты видишь? Ровно ничего — есть такой старый анекдот про то, как один человек умер и предстал перед Господом. Он понимает, что теперь можно всё, и поэтому просит:
— Господи, — говорит он, — будь милостив, открой мне, в чем был смысл и суть моей жизни?
Тот вздыхает и говорит:
— Помнишь ли ты, как двадцать лет назад тебя отправили в командировку в Ижевск?
Человек помнит такое с трудом, но на всякий случай кивает.
— А помнишь, с кем ехал?
Тот с трудом вспоминает каких-то двоих в купе, с кем он пил, а потом отправился в вагон-ресторан.
— Очень хорошо, что ты помнишь, — говорит Господь и продолжает:
— А помнишь ли ты, как к вам женщина за столик подсела?
Человек неуверенно кивает, и действительно, ему кажется, что так оно и было. (А мне в этот момент стало казаться, что это всё та же история про китайского монаха с ящиком для пожертвований и девушку, что я уже сегодня услышал. Просто это будет рассказано с другой стороны).
— А помнишь, она соль попросила тебя передать…
— Ну и?
— Ну и вот!
Никто не засмеялся.
— Знаешь, это довольно страшная история, — заметил я.
— Я был в Ижевске, — перебил Сидоров. — Три раза. В вагоне-ресторане шесть раз был, значит. Точно кому-то соль передал.
— А я по делам в Ижевске был. Жил там год, — невпопад вмешался Евсюков. — В Ижевске жизнь странна. За каждым забором куют оборону. Так вот, на досуге я изучал удмуртов и их язык. Обнаружил в учебнике, что мурт — это человек. А уд-мурт — житель Удмуртии.
— Всяк мурт Бога славит. Всяко поколение. — Просто успешный человек Леонид Александрович начал снова говорить о поколении, его слова отдалялись от меня, звучали тише, потому что я вспомнил, как однажды мне прислали пафосный текст. Этот текст сочился пафосом, он дымился им, как дымится неизвестная химическая аппаратура на концертах, которая производит пафосный дым для тех мальчиков, что поют, не попадая в фонограмму.
Этот текст начинался так: «Удивительно как мы дожили до нынешних времен! Мы ведь ездили без подушек безопасности и ремней, мы не запирали двери и пили воду из-под крана, и воровали в колхозных садах яблоки». Дальше мне рассказывали, как хорошо рисковать, и как скучно и неинтересно новое поколение, привыкшее к кнопкам и правилам. Прочитав всё это, я согласился.
Я согласился со всем этим, но такая картина мира была не полна, как наш новогодний, тоже вполне помпезный обед не завершён без диггестива или кофе, как восхождение, участники которого проделали всё необходимое, но не дошли до вершины десяток метров. Я бы дописал к этому тексту совсем немного: то, как потом мы узнали, что в некоторых сибирских городах пьющие воду из кранов и колонок, стремительно лысеют и их печень велика безо всякого алкоголизма, что их детское небо не голубого, а оранжевого цвета, как молча дерутся ножами уличные банды в городах нашего детства, и то, как живут наши сверстники, у которых нет ни мороженого, ни пирожного, а есть нескончаемая узбекская хлопковая страда, и после нескольких школьных лет организм загибается от пестицидов. Ещё бы я дописал про то, как я работал с одним человеком моего поколения. Этот человек в дороге от одного немецкого города до другого рассказывал мне историю своего родного края. Во времена его давнего детства навалился на этот край тяжёлый голод. И даже в поменявшем на время своё название, а знаменитом городе Нижнем-Горьком-Новгороде стояли очереди за мукой. Рядом, в лесной Руси, на костромскую дорогу ложились мужики из окрестных деревень, чтобы остановился фургон с хлебом. Фургон останавливался, и тогда крестьяне, вывалившись из кустов и канав, связывали шофёра и экспедитора, чтобы тех не судили слишком строго и вообще не судили. А потом разносили хлеб по деревням.
Именно тогда одного мальчика бабушка заставляла ловить рыбу. То есть летом ему ещё было нужно собирать грибы и ягоды, а вот зимой этому мальчику оставалось добывать из-подо льда рыбу. Рано утром он собирался и шёл к своей лунке во льду. Он шёл туда и вспоминал свой день рождения, когда ему исполнилось пять лет, и когда он в последний раз наелся. С тех пор прошло много времени, мальчик подрос, отслужил в десантных войсках, получил медаль за Чернобыль, стал солидным деловым человеком и побывал в разных странах.
Каждая история требовала рассказа, каждая деталь ностальгического прошлого требовала описания — даже устройство троллейбусных касс, что были привинчены под надписью «Совесть — лучший контролёр!»…
Как-то, напившись, он рассказал мне своё детство в помпезном купе, в которое охранники вряд ли бы пропустили молодую девушку. Мы везли ящики с не всегда добровольными пожертвованиями, и оттого в вагон-ресторан не отлучались. Глаза у моего приятеля были добрые, хорошие такие глаза — начисто лишённые ностальгии.
Рыбную ловлю, кстати, он ненавидел.
И ещё бы дописал немного к тому пафосному тексту: да, мы выжили, для разного другого. И для того в частности, чтобы Лёхе отрезали голову. Он служил в Гератском полку и домой он вернулся в цинковой парадке. Это была первая смерть в нашем классе.
Саша разбилась в горах. То есть не разбилась — на неё ушёл по склону камень. Он попал ей точно в голову. Что интересно — я должен был идти тогда с ними, из года в год отправляясь с ними вверх, я пропустил то лето.
Боря Ивкин уехал в Америку — он уехал в Америку, и там его задавила машина. В Америке… Машина. Мы, конечно, знали, что у них там машин больше, чем тараканов на наших кухнях. Но что бы так — собирать справки два года и — машина.
Миронова повесилась — я до сих пор поверить не могу, как она это сделала. Она весила килограмм под сто ещё в десятом классе. Соседка по парте, что заходила к её родителям, говорила, что люстра в комнате Мироновой висит криво до сих пор, а старики тронулись. Они сделали из её комнаты музей и одолевают редакции давно мёртвых журналов её пятью стихотворениями — просят напечатать. Мне верится всё равно с трудом — как могла люстра выдержать центнер нашей Мироновой.
Жданевич стал банкиром, и его взорвали вместе с машиной, гаражом и дачей, куда гараж был встроен. Я помню эту дачу — мы ездили к нему на тридцатилетие и парились в подвальной сауне. Его жена всё порывалась заказать нам проституток, но как-то все обошлись своими силами. Жена, кстати, не пострадала, и потом следы её потерялись между внезапно нарезанными границами.
Вову Прохорова смолотило в Новый Год в Грозном — он служил вместе с Сидоровым, был капитан-лейтенантом морской пехоты, и из его роты не выжил никто. Наши общие друзья говорили, что под трупами на вокзале были характерные дырки — это добивали раненых, и пули рыхлили мёрзлый асфальт.
Даша Муртазова села на иглу — второй развод, что-то в ней сломалось. Мы до сих пор не знаем, куда она уехала из Москвы.
И Ева куда-то исчезла. Её искали несколько лет, и, кажется, сейчас ищут. Это мне нравится, потому что армейское правило гласит — пока тело не найдено, боец ещё жив.
Сердобольский попал под машину — два ржавых, ещё советских автомобиля столкнулись на перекрёстке проспекта Вернадского и Ломоносовского — это вам не Америка. Один из них отлетел на переход, и Сердобольский умер мгновенно, наверное, не успев ничего понять.
Скрипач Синицын спился — я видел его года три назад, и он утащил меня в какое-то кафе, где можно было только стоять у полки вдоль стены. Так бывает — в двадцать лет пьёшь на равных, а тут твой приятель принял две рюмки и упал. Синицын лежал как труп, еле выйдя из рюмочной. Я и решил, что он труп, но он пошевелил пальцами, и я позорно сбежал. Было лето, и я не боялся, что он замёрзнет. Я его понимаю — как можно быть скрипачом с фамилией Синицын? Потом мне сказали, что у него были проблемы с почками и через год после нашей встречи его сожгли в Митино.
Разные это всё были люди, но едино — вслед давно мертвому поэту, я бы сказал, что они не сумели поставить себя на правильную ногу. И я не думаю, что их было меньше, чем в прочих поколениях — так что не надо никому надувать щёки.
Мы были славным поколением — последним, воспитанным при Советской власти. Первый раз мы поцеловались в двадцать, первый доллар увидели в двадцать пять, а слово «экология» узнали в тридцать. Мы были выкормлены Советской властью, мы засосали её из молочных пакетов по шестнадцать копеек. Эти пакеты были похожи на пирамиды, и вместо молока на самом деле в них булькала вечность.
В общем, нам повезло — мы вымрем, и никто больше не расскажет, как были устроены кассы в троллейбусах и трамваях. Может, я ещё успею.
«Ладно, слушайте, — сказал я своим воображаемым слушателям. Нет, не этим друзьям за столом, они высмеяли бы меня на раз, а невидимым подросткам, — Кассы были такие — они состояли из четырехугольной стальной тумбы и треугольного прозрачного навершия. Через него можно было увидеть серый металлический лист, на котором лежали жёлтые и белые монеты. Новая монета рушилась туда через щель, и надо было — опираясь на совесть — отмотать себе билет сбоку, из колодки, чем-то напоминающей короб пулемёта «Максим».
Теперь я открою главную тайну: нужно было дождаться того момента, когда, повинуясь тряске трамвая или избыточному весу меди и серебра, вся эта тяжесть денег рухнет вниз, и мир обновится.
Мир обновится, но старый и хаотический мир каких-то бумажных билетиков и разрозненной мелочи исчезнет — и никто, кроме тебя не опишет больше — что и где лежало рядом, как это всё было расположено.
Но было уже поздно, и мы вылезли на балкон разглядывать пульсирующие на уровне глаз огни праздничного города.
Мы принялись смотреть, как вечерняя тьма поднимается из переулка к нашим окнам. Тускло светился подсвеченный снизу храм Христа Спасителя, да горел купол на церкви рядом. Сырой ветер потепления дул равномерно и сильно.
Время нового года текло капелью с крыш.
Время — вот странная жидкость, текущая горизонтально по строчке, вертикально падающая в водопаде клепсидры — неизвестно каким законом описываемая жидкость. Присмотришься, а рядом происходит удивительное: пульсируя, живет тайная холодильная машина, в которой булькает сжиженное время, отбрасывая тебя в прошлое, светится огонек старинной лампы на дубовой панели, тускло отсвечивает медь трубок, дрожат стрелки в круглых окошках приборной доски. Ударит мороз, охладится временная жидкость — и пойдет все вспять. Сгустятся из теней по углам люди в кухлянках, человек в кожаном пальто, офицеры и академики.
Извините, если кого обидел.
01 января 2011
История про новогодние фильмы
Под Новый год по телевизору показывали "Греческую смоковницу", фильм под который не дрочил в своё время только бесчувственный комсомолец.
Ну, может, Ходорковский не дрочил — и с тех пор пошёл по кривой дорожке.
Я сейчас удивляюсь — какое непритязательное говно, ан всех тогда перепахала. Мой товарищ чуть не выкинул видак с кассетой в окно, когда у него свет погас — было известно, что менты сначала вырубают свет на щитке, что на лестничной клетке, чтобы никто не смог вынуть кассету. Впрочем, всяк рассказывает эту историю про своего приятеля.
Добрый мой товарищ, писатель Пронин, аж зашёлся от зависти, когда узнал. что нашей компании первое порно выдал драматург Шатров. Драматург так ещё подмигнул, что мы сразу всё поняли, мы за этот миг-под-мигивания прожили целую жизнь, мы повзрослели и начали бриться прямо, прежде чем в руки взяли этот свёрток, этот пакетик с кассетой.
Кстати, там Amber Lynn была внутри.
Писатель Пронин стал, правда, стесняться, и вспоминая имена погасших звёзд, причитал: "А вдруг люди подумают, что я это всё смотрю?!"
Я решил его успокоить и сказал:
— Брат, я научу тебя, как надо говорить. Действительно, люди злы и не терпимы, но их легко обмануть.
К примеру, вслушайся в слова: "Я люблю порнуху" и "Я люблю винтажное порно".
Это вроде как "Потёртая куртка" и "Потёртая кожаная куртка". Достаточно использовать слово "винтаж" (это слово короче, чем "винтажное", и произносить его легче). Его удобно произнести даже если ты привёл в дом женщину и вдруг понял, что на прошлой неделе кто-то наблевал на кухне, а ты не вытер.
Писатель Пронин тут же понимающе закивал, и я, ободряя его, сказал, что теперь всё у нас пойдёт на лад, мы все начнём с завтрашнего дня жизнь набело и увидим ещё многое, пока почувствуем холод и лёд в руке, опустившейся нам на плечо. Ничего не бойся: за серыми всегда приходят чёрные, за чёрными приходят красные, за красными приходят голубые, и переходит ветер с востока к северу, а потом переходит на круги своя.
Нужно знать немногое: если ты признаешься в том, что посмотрел "Горячие попки — 6", тебя смешают с грязью. А вот если ты признаешься в любви к Брижитт Лайе, и выкажешь знание того, что сейчас она бодро работает на радио, если ты намекнёшь на то, что предпочитаешь фильмы "Альфа Франс" новому немецкому стилю — ты уберёшь всех на раз.
Люди презирают порок чистый и искренний, но склоняются перед пороком утончённым.
Мир жесток, и люди — козлы, да.
Извините, если кого обидел.
03 января 2011
История про дарёные книги
Надо сказать, что я несколько поторопился с похвалами Огневу, потому что обнаружил, что он вставил в мемуары какие-то свои статьи. "Если в первых произведениях Айтматова мы воспринимали мифологичность его творчества как явление национальной стихии, то со временем не могли не понять и процесса как бы обратного — от современного состояния мира идет его художественная мысль. И встречается на этом пути с традициями глубокой древности. Я думаю, мы вообще пишем летопись не только своего времени. Наша летопись бесконечна и связана с прошлым и будущим" — не надо так писать, и мне это всё угрюмо тяжело, и не только потому, что я не люблю Айтматова.
Это такой унылый стиль проходной статьи в советской "Литературной газете", анализ известно чего Горенфельда.
У Огнева, между тем, есть место, касающееся Шкловского и Якобсона — об их отношениях написано много и даже снят неплохой фильм, не снимающий, впрочем, многих психологических загадок.
Вот это место: "Шкловский подарил мне на день рождения книгу Юрия Тынянова «Архаисты и Пушкин» с его автографом: «Борису Эйхенбауму (горе и даже два — уму!)». Автограф полностью такой:
Был у вас
Арзамас.
Был у нас
ОПОЯЗ
И литература.
Есть заказ
Касс.
Есть указ
Масс.
Есть у нас
Младший класс
И макулатура.
Там и тут
Институт,
И гублит,
И главлит,
И отдел культурный.
Но главлит —
Бдит,
И агит —
Сбыт.
Это ж все быт,
Быт литературный!
Это окончательный текст. Правка рукой Тынянова. Чернила бледнеют. Правка сделана более четким пером.
Я берегу эту книгу, как и другую, тоже подаренную мне В.Б. по другому случаю. «Пушкин и Тютчев» «Общество изучения поэтического языка» — русская школа литературоведения 1910-1920-х годов (В. Шкловскии, Ю. Тынянов, Р. Якобсон, Б. Эйхенбаум и др.) с автографом того нее Юрия Тынянова: «Б. Эйхенбауму в память боя при местечке Жирмунский».
Работа написана в 1923-м. Издана в следующем. Сноска такая: «Доклад, читанный в Секции Художественной словесности, 13.IV. 1924 г.».
Судя по сноске в книге «Пушкин и Тютчев» на с. 126, первая из приведенных мною работа, «Архаисты и Пушкин», напечатана была в «Сборнике Иссл. Инстр. науч. лит. и яз. Зап. и Вост. при Ленингрдск. Унив.».
Когда я познакомился с Романом Якобсоном (было это в один из его московских приездов — дату не сохранила память — на квартире Овадия Герцевича Савича), Якобсон жадно переписывал автографы в свою записную книжку. Следовательно, автографы Ю. Тынянова не были широко известны.
А насчет даты приезда Якобсона исследователям может помочь такая деталь: Якобсон уже резко дистанцировался от Шкловского, к которому я напрасно его звал.
Еще его обидело то, что на книге «О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским», подаренной им Шкловскому в 1923 году — не просто подаренной — посвященной ему, он увидел (по моей оплошности) автограф Ираклия Андроникова: «Дорогой Виктор Борисович! Поздравляю тебя и дарю книгу, уже посвященную тебе. Благодарю тебя за все и желаю долгой жизни книге о Маяковском и ее автору. Твой Ираклий Андроников. 25 янв. 1940 г.». Оплошность моя заключалась в том, что книгу Якобсона Шкловский передарил мне, как бы показав, по мнению Якобсона, что его сочинение «ничего для Виктора не значило». «Но он в принципе стихами не интересовался», — я пытался отвести грозу. Роман Якобсон вздохнул. Я сам понимал, что горожу чушь. Он уже раз потерял первый экземпляр», — сказал Якобсон и перешел на другое.
Это было самым интересным. Я ужо тогда занимался сербским стихом, и мое «открытие» о музыкальном характере ударений в сербском стихе, в то время как в русском оно основано на силе и долготе звука оказалось… изобретением велосипеда. Якобсон открыл подаренную мне книгу и на с. 22 нашел соответствующее разъяснение этой разницы. Дело было лишь в формулировке — научной, общепринятой в филологии у Якобсона и дилетантской, «образной» у меня. Я вспомнил, как снисходительно и мягко критиковал мои главы готовившейся в конце 50-х, но выпущен ной только в 1963 году «Книги про стихи», где я упорно отстаивал музыкальную природу интонации, а не «риторическую», Лев Иванович Тимофеев. Я был на верной тропе, но просто не мог доказать свою правоту. Мы говорили на разных языках. Я понял это именно после прочтения книги Романа Якобсона.
Кстати, некоторым утешением для автора книги послужило то обстоятельство, что наряду с моими пометками на полях оказались и характерные, волнообразные (красным карандашом) отчеркивания и даже отдельные замечания… Виктора Шкловского. Значит читал, работал, учитывал мысли своего давнего друга, а ныне недоброжелателя, идейного протагониста". [319–320]
Между тем, там есть история и про Арагонов, приехавших в Москву. С ними Огнев встречается у Лили Брик: "
Эльза спросила: как я нахожу Шкловского. Я знал, что Серафима Густавовна ненавидела сестру ЛЮ, не прощала не только «ZOO, или Письма не о любви», но и безгрешного «Сентиментального путешествия» (оно, кстати, было переиздано полным текстом вместе с «Письмами не о любви» только в 1990 году!), и встреча с Виктором Борисовичем была невозможна. «ZOO» Шкловский включил в 1964 году в «Жили-были». По чего это стоило старику! Серафима Густавовна, поддававшая изрядно в момент расстройства чувств, была похожа на тигрицу. Мы с женой были не раз свидетелями таких сцен. Так, однажды мы застали ее за пианино, когда она, аккомпанируя себе указательным пальцем, на мотив «Мурки» пела: «Эльза, моя Эльза, Эльза дорогая!» В.Б. смущённо пытался ее урезонить. Но не тут-то было. Мы попятились к выходу…
В тот приезд Арагона и Эльзы я горячо стал рассказывать о своем любимом старшем друге, благо было что рассказать — я посещал В.Б. едва ли не ежедневно. ЛЮ стала его хвалить, но как-то сдержанно. Она знала, что напряжение между Романом Якобсоном и В.Б. существовало уже тогда, а западная интеллигенция, в том числе и Арагон, холодновато относилась к «новому Шкловскому». ЛЮ умело сменила тему.
— Вы просили рукопись Осипа о ритмико-синтаксических фигурах, — сказала она мне. — Да, Виктор любил эту статью. Я её приготовила. Васенька, принеси — она там, где… ну, слева в стопочке…
Разговор о Шкловском оборвался". [324]
Извините, если кого обидел.
04 января 2011
История про волка
У Корнея Чуковского в книге "От двух до пяти" есть такой эпизод: " Замечательны в этом отношении поправки, которые в разное время внесли два трехлетних мальчугуна в рассказанную им "Красную Шапочку"…
Один из них, Андрейка, тотчас же нарисова
л иллюстрацию к сказке в виде какой-то бесформенной глыбы и объяснил окружающим:
— Это камень, за ним спряталась бабушка. Волк не нашел ее и не съел.
Второй мальчуган, Никита (по-домашнему — Китя), обеспечил себе такую же уверенность в полном благополучии мира, выбросив из сказки все то, что казалось ему грустным и пугающим. Правда, сказка вышла чересчур уж короткая, но зато вполне утешительная. Китя рассказал ее так:
— Жила-была девочка-шапочка и пошла и открыла дверь. Все. Я больше не знаю!
— А волк?
— А волка не надо. Я его боюсь.
"Волка не надо!" Спрашивается: может ли такой оптимист, не приемлющий ни малейших упоминаний о страхах и горестях жизни, ввести в свое сознание трагическую мысль о смерти — чьей бы то ни было, но говоря уже о собственной?" заканчивает Чуковский (Шкловский записал слова сына в альманах Чуккоккала").
Этот мальчик — сын Виктора Шкловского Никита. Он стал командиром батареи и был убит в бою в Восточной Пруссии в 1945 году.
В общем, это печальная история.
Извините, если кого обидел.
05 января2011
(обратно)
История про праздничную тоску
Ужас какой-то. Выйти, что ли, за фисташками?
Извините, если кого обидел.
05 января 2011
(обратно)
История про ночную музыку
Как я уже однажды рассказывал, если не спать ночью, то можно увидеть многое и сделать примечательные наблюдения.
Например, в ночной телевизионный эфир выпускают всяких упырей.
То есть, это конечно, не тривиальные кровососы. а жёны и дети всяких небедных людей.
Только что наблюдал, как какая-то женщина в рваном платье скакала по железнодорожным путям под искусственным дождём. Клянусь, минут пятнадцать скакала. Кривила огромные накачанные губы, рвала на себе свадебное платье, и когда я думал. что это уже всё, села вдруг на маневровый тепловоз ЧМЭ3 (Опять же, не просто так, а верхом на сцепном устройстве! Клянусь — села верхом на СА-3, и ну разъезжать по запасным путям!).
Несколько лет назад я какого-то мальчика-бутуза восточных кровей в этой "Горячей десятке" наблюдал. Ему, видно, этот позор на десятилетие подарили.
Главное в том, что при свете-то дня таких клипов не показывают.
Ну, мне, как и тогда, могут говорить, что это всё оттого, что эфир во время собачьей вахты дёшев, куда дешевле дневного.
Но всё же я думаю, что мера и окорот упырям — солнечный свет.
Извините, если кого обидел.
06 января 2011
(обратно)
История про жизнь
В продолжение к
этому. Есть известная песня 1962 года «Пусть всегда будет солнце!».
В этой песне Лев Ошанин в качестве припева использовал стихотворение неизвестного автора.
Стихотворение неизвестного автора было напечатано в 1928 году в журнале «Родной язык и литература»
[1] Известно о авторе было только то, что ему четыре года.
И в четыре года неизвестный мальчик написал:
Пусть всегда будет небо.
Пусть всегда будет солнце.
Пусть всегда будет мама.
Пусть всегда буду я.
Корней Чуковский в 1936 году перепечатал его в знаменитой книге «От двух до пяти».
Несложная арифметика говорит о том, что автор стихотворения примерно 1924 года рождения. Это именно то поколение, что было подвыбито больше прочих.
Кто-то говорил, что если битву при Садовой выиграл прусский школьный учитель, то Отечественную войну выиграли советские десятиклассники.
Ни у кого нет, разумеется, никаких точных данных, но предчувствия о судьбе автора строк о небе и солнце у меня горькие.
Извините, если кого обидел.
06 января 2011
(обратно)
История про рождественский рассказ
Да, у меня тоже есть рождественский рассказ:
Кошачий король
Памяти Мэтью Льюиса
В тёмную и мерзкую полночь, московскую, со слякотным снегом в свете редких фонарей полночь, ту полночь, от которой бегут прочь на иное, заграничное место жительства фальшивые евреи и программисты, светские дамы и непонятые писатели, полночь в которую не отнимая стекла от губ лечится от тоски водкой простой человек, которому бежать уже некуда — именно в этот час Наталья Александровна Весина вышла на улицу.
Садовое кольцо было пустынно. Наступило (благодаря московской высокой широте и зимнему мраку, наступило давно) Рождество.
Наталья Александровна вышла из чужого дома и пошла, ловко маневрируя между грязными сугробами, к машине. Наталья Александровна ругала себя за то, что так поздно засиделась на празднике.
Разные люди бывали на этом странном празднике в запутанной коммунальной квартире на Садовом кольце.
Первым Весиной под ноги попался маленький вьетнамец Донг, похожий на деловитого серьёзного лягушонка.
За ним в проёме двери, из глубины квартиры появилась жена Сидорова — с серьезными, печальными глазами страдающей мадонны, и молча улыбнулась запоздавшей гостье. Из кухни сразу же раздались приветственные крики Сидорова, который, однако, никак не мог вылезти из-за стола, зажатый со всех сторон гостями. Помог ей раздеться другой её одноклассник, тонкими музыкальными пальцами подхватывая все многочисленные детали весинской верхней одежды.
Сидоров был благообразен и не махал руками (в основном потому, что было тесно). Его свободы в кругу друзей хватало лишь на то, чтобы вычесывать крошки из бороды. Он приглаживал её, сегодня на удивление аккуратную, и улыбался всем сидящим — изящной художнице с пепельными волосами, высокому мужчине, занятому только своей женой, каким-то восточным людям, чёрные одинаковые головы которых еле поднимались над столом. Какой-то наголо стриженый толстый очкарик, наклонив голову, внимательно разглядывал присутствующих. Приехал и отец Михаил, и теперь, сидя в своём
штатском — чёрном свитере и простом пиджаке, не выказывая своего сана, спокойно, но не без интереса, слушал весь этот гомон.
— Бог ты мой, Наташа! Это ты! Как я рад! Ну и ну! — заорал Сидоров, увидев Весину. Он взмахнул-таки руками. Что-то обрушилось с полки и покатилось под столом. Пламя многочисленных свечей заколебалось.
Не то, чтобы Весиной было особенно приятно посетить чужой дом, совсем нет. За несколько лет, прожитых с мужем сначала в Прибалтике, а потом в Японии, она успела отвыкнуть от своего шумного бородатого одноклассника. Они никогда не были близки, хотя в школе она считала день, когда он не рвался донести ей портфель до подъезда, ненормальным и удивительным.
С Сидоровым было приятно поболтать — и только.
Наталья Александровна, слава Богу, себе цену знала. С детства она жила в особом мире потомков отцовских друзей. На Ломоносовском проспекте, в квартире отца-академика каждый день бывали солидные люди, уединявшиеся с хозяином в кабинете, откуда неслась невнятная японская речь. Солидные люди приводили с собой сыновей, красивых мальчиков со стальными мускулами, натренированными каратэ. Мальчики садились в уголок и пожирали дочь хозяина глазами.
Глаза эти были испуганными, почти восторженными. Они как бы говорили: «Прекрасна! — и даже очень!» Но и тогда Наталья Александровна знала себе цену. Потом, спустя годы она встречала некоторых из них, потасканных, обрюзгших к сорока годам, вызывавших в ней слабую брезгливость, а, впрочем, нет, не вызывавших ничего.
Ей уже тогда было неуютно в компаниях молодых людей, называвших такси «тачкой», и пьяно кричавших шофёру с заднего сиденья. Даже на академической даче в Лысогорье ей не приходило в голову как-то сблизиться со сверстниками, что буйным сытым стадом носились по окрестностям на родительских машинах и собственных мотоциклах.
Она с великолепным презрением — термин, не нами придуманный, относилась к своим университетским сокурсникам, к «хатам» и студенческим попойкам. На третьем курсе Наталья Александровна начала заниматься арабистикой. Отец не очень одобрил измену фамильной теме и не тянул её, но мягко устранял с её пути, как он выражался «необязательные трудности».
Был, впрочем, один случай. Даже не случай, а особое настроение минуты, помрачение рассудка.
На том же третьем курсе, когда её в числе многих студенток их немужского факультета повезли на картошку, она сразу отметила в толпе высокую фигуру некоего старшекурсника. Наталья Александровна, тогда ещё просто Наташенька, уже встречала в коридорах этого высокого, странно выделявшегося среди её слабосильных сверстников и девиц на выданье.
Они познакомились в первый же вечер, в полутёмной палате пионерского лагеря, в котором их поселили. Высокий старшекурсник, отбрасывая со лба прядь волос, пел протяжные песни под гитару.
Наталья Александровна, казалось, потеряла рассудок. Ей вдруг показалось, что это знакомство перевернет её жизнь, она покинет внезапно надоевшую отцовскую квартиру, и начнётся что-то новое, освящённое нет, может и не любовью, но надёжностью и верой, собравшейся воедино в этом полуночном гитаристе.
Перед ноябрьскими праздниками она сама пришла в его квартиру, впервые в жизни не отдавая себе отчёта, что будет дальше.
Старшекурсник, сидевший один в накуренной кухне, очень ей обрадовался, и, заварив кофе, начал с юмором описывать свои летние приключения. В кухне, как и в той пионерской палате, было полутемно, и в этой темноте Наталья Александровна, наконец, протянула свою тонкую и красивую руку к его, покойно лежащей на столе руке.
Острая боль вдруг пронзила ладонь Наташи — тогда она была всего лишь Наташей. Она случайно коснулась зажжённой сигареты. Наталья Александровна не успела испугаться, как в прихожей тренькнул звонок, и хозяин, извинившись, исчез. Наталья Александровна хорошо слышала из кухни клацанье замка, скрип двери и вдруг услышала:
— Серёга! Когда приехал? Прямо ко мне? Снимай шинель, зараза! Звонить надо, а то… Сейчас я тебя в ванную!..
Услышав это, Наталья Александровна прокралась в прихожую, достала из-под сваленной амуниции свою сумочку, и на ходу накидывая шубку, выскочила за дверь.
И это был всего лишь случай, отнюдь не нарушивший строй весинского мироздания. Случай потому, что уже в лифте Наталья Александровна поняла бессмысленность и, что страшнее, забавность происшествия. Она сделала лёгкое усилие над собой, и — всё забыла.
Так или иначе, к диплому она знала три языка, и защита, а затем и экзамены в аспирантуру превратились в формальность. Нет, это была не протекция, а просто разумное устранение неконструктивных трудностей.
Когда она, в очередной раз встретив знакомых, театрально всплеснула руками — «Мир тесен!» — отец обнял её за плечи и назидательно сказал: «Не мир тесен, дочь, а слой тонок…»
Отец сначала удивился, что мужа Наташа выбрала не из их академической среды. Зять ему достался скорее из коммерсантов, а может и из политиков. Международные экономические дороги увели новоиспечённого зятя, а с ним и Наталью Ивановну, из дома на Ломоносовском. Постаревший академик, пребывавший теперь вместо состояния войны с другой научной школой в состоянии «дзен», примирился с волевым и талантливым бизнесменом, и уже с удовольствием получал объёмистые международные посылки.
Занятие, в которое погрузилась теперь Наталья Александровна целиком — было семья, то есть муж, которого нужно было поддержать, и дом, который нужно было держать. Супруг Натальи Александровны всё своё время отдавал работе, и поэтому приезжала в Россию она, как правило, одна, останавливаясь на зимней отцовской даче. Дача была достаточно уютна, а машина сокращала расстояние до подруг и знакомых.
По правде сказать, Наталья Александровна без большой охоты садилась за руль, но на Родине надо было со многим мириться.
Одно из немногих воспоминаний о прошлой жизни, с которыми ей было жаль расставаться, были одноклассники и те встречи в доме на Садовом кольце, о которых мы рассказали выше.
Итак, Наталья Александровна с любопытством разглядывала гостей (место было не вполне удобное, на уголку, но Наталья Александровна была не суеверна, да и всё для неё давно исполнилось). Мешали ей лишь громкие взрывы хохота и какой-то предмет, подкатившийся под ногу.
Немного подумав, она быстро наклонилась и нащупала небольшой полосатый цилиндр, похожий на карандаш губной помады. Цилиндрик был покрыт чёрно-белыми полосами, и нигде не было видно на нём стыка или шва. Чем-то он напоминал флакон духов, исполненный под восточную старину. Едва она задумалась над его предназначением, как с ней заговорил сидящий рядом Захаров, давний её знакомый и поклонник. Захаров был особенно шикарен в этот вечер (по мнению Сидорова), и довольно забавен (по мнению самой Весиной). Невзначай Наталья Александровна опустила безделушку в сумочку, сама не зная зачем. Было бы наивно полагать, что столь солидная дама может быть подвержена клептомании.
Слово за слово, и они с Захаровым разговорились, а, разговорившись, Наталья Александровна незаметно попала в центр общей беседы, всё более и более изящной и светской, но при этом непринуждённой. Сидоровский вечер был, что называется, пущен. Опомнилась Наталья Александровна лишь к полуночи, и теперь, пробираясь к машине, ругала себя за столь позднее возвращение домой. Смертельно захотелось Наталье Александровне сразу переместиться домой, поближе к камину, в теплую постель… В этот момент она даже примирилась с присутствием на даче отцовского японского кота — единственного постоянного жителя — работница была приходящей.
Машина завелась сразу, недаром Раевский, по её просьбе, бегал, чертыхаясь, прогревать мотор.
Наталья Александровна поудобнее устроилась на сиденье, и подождав, когда воздух в салоне нагреется, скинула шубку. Машина мягко тронулась, несколько раз качнувшись на снежных буграх, и выехала на проезжую часть. Весина решила сократить путь и свернула на Матвеевское.
Пустынно было в этот час на московских улицах. Снег перестал, и заметно потеплело. Машина ушла вниз, в овраг, чёрный и пустой, — лишь на той стороне беззвучно вспыхивала в полгоризонта неоновая реклама «Hitachi».
Дорога свернула в лес. Какая-то тревога посетила Наталью Александровну. Нехорошее это было чувство, неудобное.
И точно. Едва въехав в лес, машина начала терять скорость, а, как только Весина нажала на газ, мотор чихнул и заглох совсем. Внезапно стало тихо и очень тоскливо. Наталья Александровна представила, каково ей сейчас вылезать из теплой машины и добираться до телефона. Она закутывалась и вспоминала, кто бы мог её выручить. Стаховский был в отпуске, Иванова не отпустит жена, да и древняя его машина стоит наверняка у дома, превратившись в снежный сугроб. Всё же стоит дозвониться до Сидорова — Раевский сидит у него, и он, пожалуй, единственный, кто не станет долго выкобениваться и долго напоминать об этой услуге.
Телефон мигнул экраном и хамски сообщил, что в овраге нет связи.
Она заперла дверцу. Опять пошёл снег.
Путеводная звезда, дорога к чуду, отсутствовала в тёмном небе, но Наталья Александровна быстро перебирала ножками в теплых пуховых сапогах. За деревьями мелькнули огоньки широкого шоссе, и Весина решила срезать путь к нему через опушку, но только она сделала несколько шагов, как поскользнулась и кубарем полетела в лощину.
Это окончательно рассердило Наталью Александровну. Сердита она была на предметы одушевлённые и не очень.
Например, на застолье, на сентиментальное настроение, в конце концов, породившее все эти неудобства, сердилась на свою машину и, наконец, на самое себя.
В довершение, снег попал ей в самые уязвимые части туалета, да и не было ситуации глупее — оказаться одной, ночью, в каком-то лесу, без надежды на помощь…
Она начала выбираться наверх, проклиная всё и вся. Проваливаясь по колено, она двинулась к огням, и тут выяснилось, что свет исходит не со стороны дороги, а, наоборот, от ближних деревьев. Мягкое серебристое сияние освещало протоптанную тропинку, ведущую вглубь леса. Наталья Александровна машинально сделала несколько шагов по ней и моментально очутилась на небольшой полянке.
Посередине поляны стоял дуб. Вероятно в десять раз старше берёз и прочей смешанной растительности, составлявшей лес, он был в три раза выше каждого дерева. Это был огромный, в четыре обхвата дуб, с обломанными чьей-то рукой или временем сучьями, и корой, покрытой всяческими наростами.
С огромными своими раскоряченными ветвями — руками и пальцами, он старым, сердитым и злобным уродом стоял между окружающими деревьями в мягком мерцании загадочного света.
Но вот что удивительно: сияние исходило изнутри древесного гиганта.
Крадучись, почему-то приставными шагами, Наталья Александровна приблизилась к дубу. Мощное его тело было разделено огромным дуплом. Весина осторожно заглянула туда.
В это мгновение снег остановился в воздухе, сверкнув серебряными искорками, и послышалась тихая музыка, негромкое стройное пение…
Однако то, что Наталья Александровна увидела внутри дупла, так потрясло её, что, не разбирая дороги, она кинулась назад, продираясь сквозь торчащие из-под снега кусты…
Весина выскочила на дорогу как раз вовремя. Вдали, у поворота, сверкнули фары, и через мгновение сноп света ослепил её. В другое время, она, славная своей осмотрительностью, никогда не стала бы останавливать первую попавшуюся машину, но тут всё же был особый случай. Она отчаянно замахала рукой, машина плавно остановилась, и Наталья Александровна просто ввалилась в салон, еле переводя дыхание.
Только спустя некоторое время, когда машина тронулась, Наталья Александровна сообразила, что забыла указать дорогу, договориться, осмотреться… Она обвела глазами внутренность автомобиля, казавшегося даже издали, в темноте, внушительным и старинным, и что же увидела она?
На переднем сиденье сидел бесстрастный водитель в фуражке обшитой золотым шнуром. Похож он был на памятного Наталье Александровне по дачным лысогорским годам невозмутимого соседского бульдога с большим лбом над влажными глазами. Бульдог никогда не тявкал. Слюнявый рот его раскрывался лишь при зевке. Но, глядя на неподвижную щёку шофёра, нельзя было и подумать, что он способен зевнуть.
Рядом с шофёром, поглядывая на заднее сиденье, расположился молодой красавец с медальным профилем и преданными собачьими глазами.
Там, на подушках расшитого золотом красного сафьяна, находились двое (не считая Натальи Александровны, с ужасом озирающейся вокруг).
Один из этих двоих, благообразный старичок с аккуратной белой бородой, в каком-то кафтане, и, казалось, припудренный, сидел, сложив руки на извилистой трости. Ножки старичка, обутые в татарские сапожки, были крепко сжаты. Второй, так же в возрасте, но подвижный, завитой, и оттого напоминавший пуделя, облачённого в старомодный сюртук, с трубкою в руке, внимал седобородому старичку. Несмотря на смеющиеся глаза пуделя, было заметно его глубокое уважение к собеседнику.
Старичок, видимо продолжая разговор, медленно говорил, тщательно выговаривая каждый слог:
— Eh bien, mon prince. Non, je vous préviens, que si vous ne me dites pas, que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) — je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami…
[2]
Он говорил на слишком изысканном языке, казалось выдуманном, но сразу внушившем мысль о значительности старичка. Вся эта сказочная картина (теперь Весина воспринимала её на удивление спокойно) освещалась недрожащим пламенем свечей, укреплённых в медных подсвечниках на отделанных мореным дубом простенках автомобиля.
Старичок прервался и осторожно повернул голову к Весиной.
— Je vois que je vous fais peur,
[3] — произнёс он, видимо констатируя факт, но, несколько повысив интонацию в конце, что придало фразе вопросительный оттенок.
В этот момент Весина сообразила, что все три языка, включая французский, улетучились из её памяти. Она с зубным стуком захлопнула рот, а старичок, пожевав губами, продолжил:
— Да Вы совсем продрогли, сударыня! Я надеюсь, что Вы не откажетесь от чашечки кофе.
— Виктор, — старичок взглянул на доселе молчавшего красавца на переднем сиденье. — Чашечку кофе нашей гостье.
В руках у того сейчас же оказалась белое блюдечко с такой же чашечкой. Наталья Александровна негнущимися пальцами приняла его и снова открыла рот. Мимика эта, вид полного недоумения, часто помогало ей в этой жизни. Надо признаться, это её даже красило, да и многие замечали эту удивительную женскую особенность.
— Я понимаю, сударыня, ваше удивление… Надеюсь, что здоровье вашего супруга не внушает больше опасений… Я знаю, как опасна инфлюэнца, особенно на новом месте… Но теперь, думается, всё миновало?
— Да, — ответила, подавившись горячим кофе, Весина.
— Надеюсь так же, что мы не вызвали Вашего неудовольствия. Поверьте, мы, конечно, нанесли бы Вам визит с соблюдением необходимых формальностей, но, увы, обстоятельства…
— Да, да, — вступился завитой старичок, взмахнув незажжённой трубкой.
Все они закивали головами — белобородый медленно, а остальные быстрее. Лишь один шофёр продолжал бесстрастно вести авто.
— Я надеюсь, сударыня, — продолжал старичок, — что Вы не восприняли всерьез то, что видели сейчас… Там, в лесу…
Князь считает меня человеком консервативного склада, но, поверьте мне, любой непредвзятый наблюдатель счёл бы всё это дешёвым фиглярством… Да. Хотя сам он, как мне кажется, настроен к этой пиесе более… Гм… Резко.
Веселый человек-пудель в углу сделал гримасу, показав совершенно нечеловеческие зубы.
— Вы, сударыня, случайно оказались вовлечённой в эту историю, и с Вашей же помощью мы сумеем придать ей естественный ход. Так вот, к несчастью не имея довольно времени, чтобы вести далее столь приятную беседу (ведь мы уже скоро будем, да?) — тут уж закивали все — шофёр один раз, медленно, весельчак — два раза, уважительно, а бравый молодец на переднем сиденье — быстро-быстро.
— Наталья Александровна, дорогая, к Вам, ну, разумеется, случайно, попал Магистерский Жезл, и мы, все здесь собравшиеся, покорнейше просим передать его нам.
Весина несколько раз взмахнула ресницами, ничего не понимая, но молодец, перегнувшись в щель между креслами, зашептал:
— Умоляю Вас, быстрее… Ну, быстрее… Ну, откройте же сумочку!
Он, казалось, даже тявкнул. От первого же движения, из сумочки посыпались какие-то ненужные бумажки, бумажки нужные, бумажная труха, косметика, записная книжка, кредитные карточки…
И загадочный предмет, подобранный в сидоровском доме. Все сидевшие в машине ещё более оживились, и даже старичок развёл свои губы в улыбке. Наталья Александровна вдруг поняла, что её находка уже находится в руках старика, хотя твёрдо помнила, что он не шевельнулся. Не то, что протянул руку, а и бровью не повёл.
— Прекрасно, — произнёс он и спрятал улыбку в бородку. — А вот мы и приехали.
Молодой человек засуетился, хлопая дверцами, и помог выйти Наталье Александровне, которая, находясь в очаровании этого странного сна, вовсе не хотела с ним (этим сном) расстаться. Но тут она всмотрелась, и — то была её дача. Оглянувшись, Весина увидела лишь исчезающие вдали красные огоньки.
Наталья Александровна проснулась поздно. В соседней комнате уже горел камин — праздник продолжался.
Камин на даче разжигала домработница отца. Она была незаметной, серой женщиной со стёртыми временем чертами. Наталья Александровна, надо признать, прислуги в доме не терпела, и отец просто сказал, что дочь никого не заметит на даче.
Так и было. В тот год подскочили цены на газ, и водонагреватель почти не работал. Топили дровами — от такого Наталья Александровна давно отвыкла. Впрочем, в семье камином пользовались независимо от отопления.
Но не до того, что горело в камине, было сейчас Наталье Александровне, осоловело глядящей вокруг себя. Не до наглого и мерзкого отцовского кота, важно расхаживающего по комнатам. Не до своего даже утреннего туалета.
Машина. Свечи в канделябрах… Лесные тропинки… Дуб…
Все мешалось в её голове… Окно было разрисовано морозом, но рассеянный взгляд
Натальи Александровны упал на припорошенную свежим снегом «Тойоту».
— Так
это, — облегченно, но немного разочарованно вздохнула Наталья Александровна.
Домработница исчезла окончательно, оставив после себя свертки с продуктами. Посвятив некоторое время приготовлению завтрака, Наталья Александровна решила позвонить кому-нибудь.
Ещё со времён Университета у неё и её подруг-однокурсниц была традиция утренних разговоров по телефону. Сварив кофе, они, тогдашние студентки, обменивались новостями до обеда. Время теко медленно, предопределённо и заканчивалось поздним
вставанием.
И сейчас, ностальгически перелистав записную книжку, она выбрала единственный телефон из всех возможных, тот, по которому можно было позвонить, не вдаваясь в подробности прошлого. Это был телефон Леночки Элсхендер.
Наталья Александровна набрала номер, и после недолгой болтовни начала пересказывать свой сон.
Удивительно уютно было в доме — на улице наперекор ночной оттепели был мороз, а тут потрескивал настоящий камин. Кофе у Натальи Александровны был свой, привезённый, а потому отличный. Всё это очень сочеталось со всей дачной обстановкой, с японскими циновками, коврами и даже с отъевшимся дачным котом, казалось, внимательно слушающим саму хозяйку.
— Так вот, — говорила Наталья Александровна, — я скорее пошла на огонёк. Но когда я заглянула в дупло… Да, да, там было дупло. Этакий шедевральный провал. Так вот, представляешь, в дупле было что-то вроде церкви, и там кого-то хоронят…
Я слышала пение! Да, пение!.. Я слышала пение, видела гроб и факелы. И знаешь, кто нёс факелы? Но, нет, ты мне всё равно не поверишь…
Тут Наталья Александровна отхлебнула кофе, чтобы перевести дух, и с удовлетворением услышала кудахтанье подруги.
— Поверь мне, — продолжала Наталья Александровна Весина, — всё то, что я говорю, чистая правда. Гроб и факелы несли коты, а на крышке гроба были нарисованы корона и скипетр!
Больше ничего она не успела добавить, ибо чёрный кот вскочил со своего места и крикнул:
— О небо! Значит, старый дурак подох, и теперь я Повелитель котов! Теперь дело за Магистерским Жезлом!
Тут кот прыгнул в камин и исчез навсегда.
Извините, если кого обидел.
06 января 2011
(обратно)
История про проведение дней
С утра (то есть, с того светлого времени суток, в которое я проснулся), был, по обыкновению, обуреваем мизантропией.
Не написать ли мне романа в режиме реального времени. Буду выкладывать, скажем, по фрагменту в день — издателям это не в убыток (это, кстати, на полном серьёзе обсуждалось несколько лет назад — могут ли фрагменты повредить судьбе книги на рынке, а сейчас эта тема возвращается в несколько модифицированном виде).
Или вот — думал печальную мысль об алкоголизме или, вернее, о модели поведения рядом с другом-алкоголиком.
Надо съесть гречневой каши с грибами, вот что.
Извините, если кого обидел.
07 января 2011
(обратно)
История про Ваенгу
Степень моих безумств дошла до того, что я сегодня провёл весь день в разговорах про певицу Ваенгу.
Этого, признаться, я от себя не ожидал.
В Новый год Первый канал показал её огромный концерт, и сразу лента Живого журнала запестрела отзывами. Как всегда, когда событие чуть отличается от естественного хода, все задаются вопросом, что это и к чему. Вот, добрый мой товарищ Витя Пенкин тоже возмущался этой поющей дамой — правда, много раньше.
Я же не музыковед, а обыватель. Только мне любопытно, как мир устроен. И то, что огромное количество людей, пришло, будто слонопотамы на свист, на имя Ваенги, меня не оставило равнодушным. То есть, я-то тоже слонопотам, хоть и менее стадный — потому что мне не так интересно "плохо" Ваенга или "хорошо", а именно то, как всё тут устроено. Сдаётся мне, такой битвы умов по поводу группы "Воровайки" не случилось бы. Или там певица Максим таких разных людей не возбудила б. А так встают перед обывателями грозные вопросы как в книге писателя Чернышевского.
Честно говоря, мне явленное в Новый год не очень по душе. Это модифицированное КСП, которое поженили с цыганами. И всё очень просто, хуже воровства — поётся практически одна и та же песня: мама, прости, мама, я курю, мама, невиноватая я. То и дело выскакивает один и тот же ритмический рисунок, и всё такое. То есть, это простота воздействия, которая хуже воровства — то есть, именно то, за что запрещают, например, использовать умилительных детей в рекламе и плачущих — в военных сводках. Сентиментализм ведь ужасно развращает.
Когда мы начинаем анализировать всё по частям, оказывается, что музыка недалеко ушла от трёх аккордов (ну, хорошо — квинтовый круг), слова — туши свет, сливай воду, в вокале — проблемы и всё такое.
Мне кстати, вовсе не кажется самой большой бедой то место в её текстах, к которому прицепились многие:
…а вокруг тишина
взятая за основу.
Это меня совершенно не пугает — и не такие штуки выделывали классики.
Гораздо интереснее размышлять в чём отличие-то? Поле русского шансона — всё равно, что земля в Краснодарском крае: сунь палку и она зазеленеет. Для вовлечённых и очарованных Ваенга как бы не русский шансон, а для меня, невовлечённого вполне себе это самое, на этой степени удаления меня как наблюдателя Ваенга с обычным шансоном сливается воедино — и по органолептике, и по механизмам воздействия). И получается, что это нормальный шансон, только у нет (почти нет) зоны, финки и страданий.
Это примерно так же, как попсовый мальчик выходит и, как был — в белых кроссовках и фраке, поёт алябьевского "Соловья" неверным голосом. Типа, я не такой ужасный мальчик, я жду трамвая. Я сам дистанцируюсь от попсы и всё такое.
И вот тогда часть обывателей теплеет душой, потому что душа всегда теплеет, когда ждёшь говна, а тебе дают его не концентрированным, а разбавленным.
Итак, меня-обывателя интересует механизм, и в этом механизме популярности у публики.
Механизм этот не кажется мне волшебным.
Итог моих наблюдений прост как затвор автомата Калашникова: есть примитивная конструкция из женщины, цыганщины и КСП.
Это явление, существующее в рамках кашинского определения для одного нового народного артиста — "шансон без тюрьмы". Была такая
статья Кашина о Стасе Михайлове. Веселье заключается в том, что этому самому Стасу Михайлову прямо перед Новым годом Президентским указом присвоили звание народного артиста. Разговор о том, как этот певец попал в наградной список — совершенно отдельный, и нам интересен просто сам факт.
Целевая аудитория явления очень понятная: "Хотите надрыва, но всё-таки стыдно корпорироваться с блатными? Так вот вам!"
Попутно все обсуждали вопрос о продвижении певицы Ваенги на рынок. Часть людей вовлечённых утверждала, что это происходило чуть не исключительно "сарафанным радио", но потом оказалось, что это не совсем так.
Я бы вообще поостерёгся говорить о рекламе в терминах хороший промоутинг против плохого PR. Я живу не на Луне, а в г. Москве я живу, и вижу чем оклеены в ней заборы и невольно в телевизоре посмотрел два больших биографических фильма о певице Ваенге. Вижу я и плотность её интервью, и всё такое. Однако ж, тут хорошо говорить не с ощущениями, а с цифрами. Я ведь человек марксистского воспитания и в чудеса не верю. Вдруг вскроются какие тайны?
"Ну, отчего всё так сложно!" — как сказала официантка в исчезнувшем ныне кафе "Пироги", когда ей объяснили, что она принесла не тот счёт.
Извините, если кого обидел.
09 января 2011
(обратно)
История про телевизор
Праздничный телевизор показывает мне фильмы особой новогодней конструкции — некоторые из них сняты ужасно, а другие — вполне приемлемо.
Это такие истории отношений людей средних лет, разводы, дети, подъёмы и падения.
Причём это не слишком трагично как в жизни, но и не иррационально-сказочные. Немного грустноватые, но оптимистичные в финале.
Там нет никакого напряжения, (напряжения не того рода, когда какой-нибудь коммунист мучительно рубит деревья, того типа, когда выбор мучителен). Чистая сентиментальность, причём герои всегда красивы.
И когда таких фильмов много, когда они собираются в кучу в каком-нибудь углу твоего дома, копошатся там, то испытываешь совершенно сюрреалистическое ощущение.
Извините, если кого обидел.
11 января 2011
(обратно)
История про IMHO
А вот у меня вопрос: а не анализировал ли кто, что получилось в итоге "Читательской премии Имхонета". По поводу этой премии довольно долго били в бубен, но как-то результаты обсуждали недостаточно живо, и я это упустил.
Я к этой премии относился со сдержанным добродушием, собственно, я вообще ко всей этой идее относился сдержанно, как к человеку, выскочившему передо мной с пропагандой пирамиды Маслоу. (Я видел довольно много "народных" голосований в Сети, и скептецизм мой растёт оттуда). Здесь я заглянул в результаты и увидел, что в в позиции «Номинанты читателей» как по деньгам (46.394 р.), так и по количеству проголосовавших лидирует Левашов Николай Викторович (
родился в 1961 году в Кисловодске, В 1984 году закончил Харьковский университет, кафедру теоретической радиофизики. Ещё студентом, он заинтересовался паранормальными явлениями природы и посвятил изучению «сверхестественного» свою дальнейшую жизнь. В результате этого на свет появилась его первая книга «Последнее обращение к человечеству…», которая принесла ему известность в научных кругах. Открытия в науке последних лет полностью подтвердили основные положения его теории, которую он создал независимо от этих открытий и за 10 лет до них…) К мысли о некоторой бессмысленности "народного голосования" фантасты, скажем, пришли уже давно — уж несколько лет как.
Но мне-то интересно другое — не разбирал ли кто опыт этой читательской премии? Самому мне это делать лень, а всё же интересно.
Извините, если кого обидел.
11 января 2011
(обратно)
История про струнные и щипковые
Сейчас у меня произошёл интересный разговор — то есть, когда я его закончил, он мне даже показался интереснее, чем во время ответов на вопросы.
Дело вот в чём — мы говорили о возможности объяснить что-то. То есть, к примеру, объяснить что-то в современной науке первого края.
Эта тема меня давно занимала —
например, в связи с теоремой Ферма. То есть, я вообще-то считаю, что наука сейчас совершила качественный переход к той ситуации, когда обыватель не может понять её достижение.
Она становится [в рамках массовой культуры] такой особой магией, и есть целая система стереотипов, которые замещают рациональное понимание. Вместо философского камня и живой воды используется геном и теория струн.
Собственно, с теории струн всё и началось.
Она-то просто смысл всего непонятного в современной физике. А массовой культуре нужна в науке энигматичность, то есть такая загадка, которая как бы важнее всего. Ну вот как физика XX века сводилась бы к ядерной реакции, а биология — к гену.
Открыли геном — и всё, пиздец, мир преобразился, потекла по трубам живая вода.
Или поставили под контроль ядерную реакцию и — мирный атом в каждый дом, чик-чирик, и человек готов, да здравствует технический прогресс. и мудрая политика ЦК КПСС!
Нет, это я отвлёкся.
Суть проблемы в том, можно ли объяснить обывателю сложную штуку. вроде теории групп, современной алгебры или теории струн.
Ну, можно, конечно, представить себе цепочку генерализации — то есть, общие утверждения, вроде "теория струн — раздел физики" на одном конце и доклад на семинаре в ФИАНе на дугом конце.
Ну и в каком-то месте цепочки остановиться, то есть в тот максимально понятный обывателю момент в сторону научного доклада.
Или же, объяснение сложного будут осуществляться иначе — не линейно, а каким-то скачков в сторону, используя какую-то аналогию.
Это непонятно, в общем.
Ну. ладно теория струн. Вот как честному обывателю объясняют многомерное пространство. Ну, скажем n4, то есть не так, чтобы он мог повторить какие-то заученные слова, а как он представляет себе многомерность.
Извините, если кого обидел.
11 января 2011
(обратно)
История про веру в человечество
Когда Эрик Картман садится в колёсный бур, чтобы пробуриться через толпу хиппи, вера в человечестве у меня как-то восстанавливается.
Извините, если кого обидел.
13 января 2011
(обратно)
История про писателей
Вспомнил, что у меня есть старая история — зато с эпиграфом.
It was my first inkling that he was a writer. And while I like writers— because if you ask a writer anything you usually get an answer— still it belittled him in my eyes. Writers aren't people exactly. Or, if they're any good, they're a whole lot of people trying so hard to be one person.
It's like actors, who try so pathetically not to look in mirrors. Who lean backward trying— only to see their faces in the reflecting chandeliers.
F. Scott Fitzgerald. The Love of the Last Tycoon.
А ведь про писателей-то всяк рад послушать. Да только жизнь писателей трудна и уныла. Потому как писатели норовят денег заработать, а не читателя веселить. Ну, как выйдут куда-то в публичное место, задумаются и скажут: «Культурная парадигма»… И что хотели сказать — совершенно не ясно. А ещё они часто говорят слова «на самом деле». Я давно понял, что когда человек перемежает свою речь словами «На самом деле» — жди беды. Причём, если человек начинает свою речь со слов «на самом деле», это и не на самом, и не на деле, и вот сейчас закружится вокруг тебя вихрь флейма. И уже не важно, о чём речь — о многофакторном падении Советской власти, и о том, кто её подточил. Или о том, правят ли страной гражданские общества, расплодившиеся, как тараканы. Или про то, как в Америке поклоняются политической системе, но это единственная страна. Государство равно стране, и граждане там, воюя с властью, кричат: «Что вы делаете, вы портите нашу политическую систему, нашу замечательную политическую систему». Начнёт писатель говорить об обществе «Мемориал», так ляпнет о диссидентах, как о десантниках, что взорвали мост, а только после этого задумались, зачем они это сделали. Они сидят на берегу, рядом с рухнувшими фермами, а армия не подошла, генералы ковыряют в носу.
Жизнь непонятна.
Вот что у писателей в голове.
Извините, если кого обидел.
13 января 2011
(обратно)
История про именинника
Вот странно — Осип Эмильевич был для меня самым интересным русским поэтом XX века, опережая даже Пастернака, но при этом наверняка был бы ужасно неприятен в личном общении. Мы, может, даже подрались бы.
И при этом, пришивая оторванный воротничок, я всё равно бы считал, что в поэзии он для меня важнее прочих.
Извините, если кого обидел.
15 января 2011
(обратно)
История с геологией
На одном чукотском
геологическом сайте среди лиц первооткрывателей и героев-геологов есть фотография вовсе без фамилии. Подпись у неё простая: " Роман Аркадьевич".
Извините, если кого обидел.
16 января 2011
(обратно)
История про десантника
Отчего-то вспомнил под утро старую историю, которую уже рассказывал.
Был в Литературном институте такой студент, бывший десантник. Был он человеком совершенно безумным и постоянно со всеми дрался. Его боялись как огня. То есть, это, практически, был такой десантник из анекдота, со всеми анекдотически-гипертрофированными чертами. И вот как-то он пришёл в комнату к Паше Басинскому, посидел на какой-то случившейся там пьянке, и отлучился в туалет.
Вернулся он через полчаса совершенно избитый. На лице не было живого места, — на лбу ссадина, нос свёрнут, глаз подплывает. Студенты глядели на это с ужасом — дело было даже не в этих разрушениях, а в том, что они поняли, что в общежитии поселился новый, куда более страшный монстр.
Все замолчали, а десантник, немного смущаясь, рассказал свою историю.
Он зашёл в туалет, где красная и жёлтая плитка, уложенная на полу в шахматном порядке, залита водой, и устроился орлом на унитазе.
Вдруг его переклинило. Он, раскачиваясь, почувствовал, что летит в гудящем и звенящем самолёте, где настоящая жизнь, где фал пристёгнут и он у дверцы. Красные и жёлтые квадраты осенних полей плывут перед ним… Он сложил руки, и оттолкнувшись ногами от фаянса, прыгнул.
Извините, если кого обидел.
16 января 2011
(обратно)
История про жертву "Титаника"
С чего-то посмотрел сейчас "Одиннадцатый час", что спродюссировал Ди Каприо (Режиссерами там обозначены: Лейла Коннерс и Надя Коннерс).
Удивительное дело — отчего Гринпис вкупе со всякими зелёными выглядят чрезвычайными идиотами. Ну производство этого фильма всё же обозначено 2007, а не 1968 годом. (Всё усугублялось чудовищным переводом — я этот перевод, кажется, слышал на десятках мероприятий, где занимались международными благоглупостями. Причём Гугль мне сразу же услужливо подсовывал статьи типа Enviromentalism as Religion. Прочь, прочь упыри!).
А лучшими фильмами о проблемах экологии и нового мышления остаются пока "Южный парк" и "Футурама" (та серия, где Бендер грохнул космический танкер на пингвинов).
Извините, если кого обидел.
17 января 2011
(обратно)
История про одну конференцию
Мария Игоревна, меж тем, рассказала поучительную историю про свою знакомую, что служила профессором где-то в Европе.
Профессорша была вполне бодрая и решительная дама, стремительно перемещавшаяся с конференции на конференцию. И вот, как-то уже опаздывая на свой доклад по какой-то культурной инициативе на форуме в Греции, она вспомнила, что согласно правилам хорошего тона, речь нужно начинать с приветствий на разных языках, и первым должно идти приветствие на языке принимающей страны. Типа, медамы и мосье, дамы унд херы и всё такое.
Однако время было упущено: греческим дама не владела, а спросить было некого.
И вот, уже на пару минут опаздывая на своё выступление, она на бегу заметила двери туалета в холле.
Там, под фигурками мужчины и женщины, были написаны какие-то греческие слова.
Она притормозила, и руководствуясь близостью греческого и русского алфавитов, списала название.
Дама начала свою речь с новоприобретённых слов, но зал вдруг охнул и разом рухнул с кресел.
Дело в том, что приветственными словами оказались "кабинки и писсуары".
Извините, если кого обидел.
17 января 2011
(обратно)
История про одну рецензию
Обнаружил статью Михаила Золотоносова про себя под названием "Самая новая проза: «свобода от»":
Рассказы Владимира Березина под общим заглавием «Кормление старого кота» несут — и неожиданно — приметы такой новизны, что нужно подвести небольшую теорию, чтобы эту новизну обнаружить, объяснить и описать.
Предчувствуя, что такая задача может встать,
автор начал повествование с изложения анкетных данных: «Я родился в 1966 году в роддоме на Соколе, в Москве»; И тут же прокомментировал: «В год моего рождения, год, зажатый между оттепелью и танковой прогулкой в Прагу…» Но «Прага», между прочим, 1968-й, а оттепель — это середина пятидесятых с пиком в 1956-м. О «зажатости» говорить никак нельзя. Ошибка? Скорее, я думаю, демонстративное безразличие: все отшумело и давно превратилось в знаки, лишенные идеологического смысла. Не осталось ни стремления к исторической точности, ни тимур-кибировской ностальгии по «прекрасной эпохе». Так в XX веке пишут о Вавилоне: «Точно восстановить картину борьбы вавилонян с Эламом не удается; трудно даже сказать, сколько именно походов в Элам совершил Навуходоносор I…»
Если Березин упоминает Солженицына и «Архипелаг ГУЛАГ», то лишь для того, чтобы описать банщика Федора Михайловича: он похож на писателя, «каким его изображают в зарубежных изданиях книги «Архипелаг ГУЛАГ». И все, больше никаких ассоциаций. Легкость аполитизма, свобода от идеологии, превращение груза политической истории в труху и пустозвучие. Навуходоносор, ГУЛАГ, Белый дом… Исчезает государственная история, то ли забывается, то ли делается неактуальной, а остаются индивидуальные истории, которые на фоне официальной, лишенные названий и дат, превращаются в легенды, в сказки. Так это демонстративно сделано в рассказе «Майор Казеев». Новое место назначения майора-ракетчика автор не называет, а просто пишет: «Нужно было лететь на восток, а потом на юг, надевать чужую форму без знаков различия, а в это время его зенитно-ракетный комплекс плыл по морю в трюме гражданского сухогруза». Текст интересен прежде всего производимой прямо на глазах «фольклоризацией» жизни, только что шумевшей и пугавшей: вдруг оказывается, что исторических-то корней и не видно — скрылись в земле.
В книге «Исторические корни волшебной сказки» (1946) Владимир Пропп шел противоходом: от сказки — к реальности. У Березина реальность лишается исторической конкретности, открывается и исчезает. Отчасти это свойство всей современной культуры, моделью которой Михаил Безродный остроумно предложил считать «афишную тумбу, лишённую корней и кроны и быстро жиреющую от напластования имен» («Новое литературное обозрение», 1995, № 12).
Точнее, так: чтобы разрыв с недавним прошлым ощутить, чтобы культуру как афишную тумбу увидеть и полюбить (или хотя бы принять), нужен соответствующий возраст. Тогда майор Казеев легко превратится в сказочного героя, проходящего через битву со Змеем-Горынычем (самонаводящейся ракетой «Шрайк»), в неназванном тридесятом государстве.
Лев Аннинский в интервью в «Невском времени» противопоставил свою тайную свободу — явной свободе молодых: «Сейчас множество явных свобод, но я лелею внутри себя — тайную. Без явной свободы я кое-как проживу, без тайной — нет». При этом Аннинский еще и подчеркнул: его свобода — это свобода ДЛЯ, а есть свобода ОТ.
В этой системе координат («тайная» — «явная», «для» — «от») легко увидеть место Березина: явная «свобода ОТ», которая постепенно переходит в «свободу ОТ свободы». Это принципиально новое для нас состояние: значит, возможна сугубо частная, «помимогосударственная» жизнь, в том числе и духовная, что на уровне литературы порождает постпостмодернизм. Уже нет игры чужими стилями и идеологическими знаками, они спокойно и безразлично используются только для обоЗНАЧения.
Пример из Березина: «Дед мой появлялся на изгибе дачной дороги с двумя сумками. Одна пахла продуктами — колбасой, молоком, свежим хлебом. Из другой доносился запах типографской краски, свежего партийного слова, «Правды» и «Известий». Происходит последовательная редукция: от идеологии остается лишенный смысла запах, который растворяется в ароматах пищи.
Предыстория нашего постмодернизма известна: внутри соцреализма возник модернизм — как протест против изматывающего однообразия и пропаганды. Потом пришла вторая волна протеста (уже в условиях ликвидации цензуры) — постмодернизм; литература, изготовленная из фрагментов соцреализма, глумление над ним, но напряжённый диалог именно с ним. Поэтому понять Пригова и Сорокина, не зная содержания годовых комплектов «Правды» за 1975–1990 годы, невозможно. Строго говоря, ни «тайной», ни «явной» свободой такое положение назвать было нельзя, ибо то. против чего протестовали, обязательно довлело и учитывалось. Протест вызывала цензура, тотальная система запретов, персонофицированная смутно-имперсональными ОНИ. В стихотворении Наума Коржавина «Подонки» (1964) виртуозная игра местоимениями демонстрировала силу режима, основанную на тайне (ввиду бессмертной важности позволю себе привести текст целиком): «Вошли и сели за столом, Им грош цена, но мы не пьем. Веселье наше вмиг скосило. Юнцы, молодчики, шпана. Тут знают все: им грош цена. Но все молчат: за ними — сила. Какая сила, в чем она. Я ж говорю: им грош цена. Да, видно, жизнь подобна бреду. Пусть презираем мы таких, Но все ж мы думаем о них, А это тоже — их победа. Они уселись и сидят. Хоть знают, как на них глядят Вокруг и всюду все другие. Их очень много стало вдруг. Они средь муз и средь наук, Везде, где бьется мысль России. Они бездарны, как беда. Зато уверенны всегда, Несут бездарность, словно Знамя. У нас в идеях разнобой. Они ж всегда верны одной, Простой и ясной, — править вами».
С 1953 года началась деградация страха, которая закончилась исчезновением образа ИХ: в рассказах Березина ОНИ как образ авторитетной, внушающей страх силы (см. сочинения лучших писателей предыдущего периода — Юрия Трифонова и Владимира Маканина) напрочь отсутствуют. Именно об этом Березин громко сообщает в первом рассказе из своей подборки — «Слове о спокойствии писателя». Главное признание: страх прошел, ибо идеология измельчала и не может даже испугать, став «идеологией группы, коммерческих интересов, политической тусовки». ОНИ не исчезли, но ушли из сознания писателя, потому что появилась возможность — может быть, иллюзорная — жить без них, помимо них. Короче, мироустроителъных образов ВЛАСТИ, ГОСУДАРСТВА для писателя больше нет, взамен действует случай, управляющий человеческими судьбами, что и превращает рассказы в сказки, а людей — в странных существ. «Опять еду в метро. Рядом едет девушка. Её тонкие ноги захватаны синяками. Суровая женщина, разведя колени, читает антисемитскую газету. Вошли два человека странной национальности» («Читатель Шкловского»). Только один человек тут не случаен — Виктор Шкловский с его «эффектом остранения».
Собственно говоря, это и есть проявление «свободы от», достижение которой простодушно описано в рассказе «Школа»: автор работал учителем, а когда наступило лето и его «достал» завуч — просто уволился, не желая и минуты выносить школьный деспотизм. В традиционной советской психологической («интеллигентской») прозе «трифоновского извода» в этом месте последовал бы взрыв рефлексии и тайной свободы без освобождения внешнего, самокопания на тему «Я — ОНИ». У Березина — ничего: авторитетного образа ИХ уже не осталось. Рассказ заканчивается строчкой заявления: «Прошу уволить…»
Но тут-то Лев Александрович, ценящий только «свободу ДЛЯ», и задаст ядовитый вопрос: для чего? И будет в принципе прав, хотя все сразу же упрется в философию. Если свобода — это инструмент, то вопрос окажется правомерным; если же это базовая и самодостаточная ценность, то постановка проблемы лишится смысла. Свобода нужна для свободы передвижения мысли, удовольствия… Литературу она порождает странную, я бы сказал, «приблизительную», лишенную четких жанровых признаков и поучительных либо парадоксальных финалов. Игра это в «элементарность» или искренность — покажет «вторая проза» автора. Для меня вопрос в ином: плодотворна ли столь полная «свобода от», не ведет ли она к разрушению прозы, к превращению ее в «сказки», в безразличное и ленивое «плетение словес» в стиле Игоря Померанцева или к беспочвенным фантазиям масскульта? Не должно ли достижение свободы, преодоление несвободы быть и содержанием, и формой?
Кстати, Березин размышляет об этом в рассказе «Слово о спокойствии писателя». «Варлам Шаламов говорил о том, что ненавидит писательское ремесло за то, что писатель, выливая на бумагу свою боль, избавляется от нее. Это — верно». Но тут речь уже идет — и это характерная подмена — не о свободе, а о спокойствии как об отсутствии волнений. Чтобы не волновал никто: ОНО, ОНИ, ОНА… Если таково влияние буддизма, то значит, так называется источник окончательного разрушения нашей прозы.
В статье «Конец цитаты» М.Безродный высказал счастливую догадку: «Содержание многих текстов Пастернака сводится к изображению некоей ситуации, которую в самом общем виде можно описать так: нечто, наделённое способностью и склонностью к самодвижению и удерживаемое в замкнутом пространстве, с силой и шумом прорывается наружу».
Многое наводит на мысль, что такова общая формула русского текста вообще, которую «самая новая проза» легко и свободно разрушает и преодолевает. Березин — один из многих.
Извините, если кого обидел.
17 января 2011
(обратно)
История про Гришковца
Как бы в продолжение моих рассуждений о Гришковце и Ваенге, мне показали фильм Гришковца с Гришковцом же. Весь фильм построен на одной остроумной мысли о том, как можно заставить жившего за границей интеллектуала слушать Гришковца.
Надо выкатить ему тележку с алкоголем, поставить внизу охрану, а на стул рядом положить саквояж с миллионом долларов в качестве приза за терпение.
И вот тогда, когда всё это устроилось, Гришковец садится напротив и говорит: "Мороженое… Мороженое — вот интересная тема. Прекрасная тема. Надо поговорить о мороженом. В детстве любил мороженое? А? А?!"
Извините, если кого обидел.
18 января 2011
(обратно)
История про Крещенский мороз
— Я вам, дорогой друг вот что скажу — я в вашей биологии специалист неважный, но вот про людей я вам расскажу. Люди любят мифологию. Люди любят, чтобы тайна. На всё это накладывается, что у нас обязательное начальное образование, семилетка и всё такое. Поэтому тайны у нас перемешаны с наукой. А вот спросите, почему летом тепло, а зимой холодно, так получишь ответы обескураживающие.
— Михалыч, — рявкнул Академик, — иди сюда за салом. Сала дам!
Михалыч переваливаясь, подошёл к столу.
— Михалыч, скажи нам, почему летом тепло, а зимой холодно, и получишь сало.
— Так понятно: летом Земля ближе к Солнцу, а зимой — дальше. Земля-то вокруг Солнца летает.
— Молодец, Михалыч. Держи кусок. И хлеб, хлеб тоже возьми.
Когда Михалыч отошёл, Академик сказал:
— А вы молодой друг, что так смотрите? Рассказали вам в Московском Государственном, с позволения сказать, университете, отчего летом тепло?
— Рассказывали, — Евсюков зло посмотрел на Академика. — Угол наклона земной оси…
— А, ладно, достаточно… Верю. Но посмотрите на нашего Михалыча, что конечно, не образец русского крестьянина, а нормальный социально-чуждый элемент из кировского потока. У него есть образование, но в сочетании с его мозгом даёт нам фантастический результат.
Михалыч их не слушал. Он сосредоточился на ощущении того, как медленно тает сало на языке. Образование у него было, и Иван Михайлович Роттенберг прекрасно знал, как зимой планета почти на пять миллионов километров ближе к Солнцу. Он, в общем-то, много что знал и о том, как ведут себя солнечные лучи, и об угле в двадцать три с половиной градуса, на который наклонена земная ось к орбите. Его много чему учили в Санкт-Петербургском Императорском университете. Но у него было три срока, если считать высылку 1935 года.
И за это время Михалыч стал обладателем удивительной способности — он наперёд знал, что и как хочет услышать собеседник. Это помогало ему сотни раз, и не только у следователей. Поэтому он медленно жевал сало и слушал разговор вольных.
— Вы знаете, молодой друг, — между тем говорил Академик — зимой всякий гражданин выглянув в окно, норовит цитировать Пушкина: «И вот уже трещат морозы». Потому что Пушкин наше всё и он лучший и современнейший поэт нашей эпохи… (Евсюков в этот момент нервно сглотнул, вспомнив об авторе цитаты).
Так вот, самое время озадачиться вопросом — отчего это каждый январь происходит то, что мы называем Крещенскими морозами. И тут начинается пора удивления — оказывается, что у нашего гражданина никакого внятного объяснения нет.
В-первых, можно было бы услышать теорию о цикличности этого метеорологического явления, схожую с разливом рек. Вот, на вершине Килиманджаро начинает таять снег, вот ручьи спускаются с гор, вот набухает река… Эта периодичность понятна.
Я, Дима, был знаком с Александром Ивановичем Воейковым, он умер в шестнадцатом. Александр Иванович был чрезвычайно деятельным человеком и успел многое, даже обосновать выращивание чая в Закавказье, но нас с вами интересует другое. Он открыл так называемую «ось Воейкова», разделяющую ветры с северной составляющей и ветры с составляющей южной. Вполне в рамках этой теории выходит следующее: В это время становится наиболее мощным термобарический (связанный с особыми значениями температуры и давления) максимум над Центральной Азией. Рядом монгольские пустыни, всё это место для формирования погоды особенное — и вот оттуда движутся огромные массы холодного воздуха, в частности на запад.
Поскольку Земля крутится сравнительно равномерно, и материки движутся достаточно медленно, особая область будет возникать каждый год, и каждый год, с поправкой на время перемещения потоков в атмосфере, к нам на Крещение будет приходить похолодание. Различное по силе, конечно.
Но тут вы, молодой человек новой формации, фронтовик и командир производства (который, хотя и замёрз сегодня, но верит в силу науки) начнёте теребить мне совершенно с другого края.
Вы меня сейчас спросите: а есть ли Крещенские морозы на самом деле? Вы меня спросите, а отчего ж у меня кончик носа побелел, и день сегодня сактировали, машины стоят, не говоря уже о прочем.
— Нет, — отвечаю я вам. Мороз, конечно, есть, но совсем никакого отношения к Крещению не имеющий. Это совершенно не особенный мороз, а так — статистический.
Вот, глядите, сейчас середина зимы, и похолодания относительно сравнительно холодной погоды сейчас наиболее вероятны. Из Сибири, то есть к югу от нас, из местности с суровым климатом равномерно приходят антициклоны, и вероятность, что они к нам дойдут в «цельном» виде наиболее высока.
То есть, похолодания будут случаться всю зиму, и Крещенские морозы от них ничем не отличаются. То есть, температура весь год — и летом, и зимой, и весной, и осенью чуть-чуть колеблется, но в остальные месяцы это мало заметно, а вот как зимой вкрутит — так все и охнут.
И получается у вас палеонтолога в шубе и валенках, впечатление, что Крещенские морозы есть, а у скучного статистика, физика вроде меня — что вовсе нет. Потому что в движении от зимнего холода к летнему теплу и обратно — температура всё время колеблется. И вот либо до Крещения, либо неделей после возникает, одно из десятка годовых падений температуры, что происходят от неупорядоченного движения воздуха. Просто запоминаем мы его сильнее.
И вам говорят:
— Никакой особой причины у них нет, никакого особого холода и мистики — а то, что вы дорогой товарищ, нос отморозили — сами и виноваты. Судя по всему, так оно и есть. Мороз в наличии, а Крещенского мороза нету.
Народное сознание воспринимает как Крещенский мороз любое похолодание за неделю до православного праздника и неделю после — а уж за половину серединного месяца зимы оно неминуемо случится. Безо всякой мистики. Остаётся ещё раз увериться в том, что погода — одно из самых неизученных явлений. Для обычного гражданина — в частности. Ну а летнем тепле и том, что оно вовсе непонятно этому обычному гражданину, Дима, я вам уже говорил.
А Михалыч ел себе своё сало и вспоминал лекции Воейкова и странный овал поперёк карты. Этот овал, похожий на масляное пятно, ему уже тогда не понравился. Хотя тогда он не мог и подумать, что будет год за годом жить много севернее этого овала, на берегу Ледовитого океана.
А пока можно слушать знакомые слова и чувствовать, как исчезает во рту божественная свинья — животное нечистое, хоть и питательное. Мели, мели, глупый Академик, сало главнее тебя, а от глупой гордости и болтливости жизнь нас отучила.
Извините, если кого обидел..
19 января 2011
(обратно)
История с мифами
Вместо того, чтобы предаваться работе, пьянству, или, на худой конец, блуду, я сегодня ночью думал о таком странном феномене мифостроительства.
Вот к примеру, история с писсуарами в Останкино, которые, как гласил слух, перевесили сообразно невысокому росту нашего Президента, что решил посетить телевизионный центр. Эту историю все уже забыли, но тем не менее, я сегодня о ней снова услышал.
Слух работает самым простым образом — во-первых, Президент наш невысок и, стало быть, должен испытывать ужасные страдания и постоянно думать о длине своего тела. Во-вторых, начальники в Останкино должны испытывать подобострастие, и совершать безумные поступки, исходя из этого подобострастия. То есть, шутка с писсуарами готова и ложится на благодатную почву — огромное количество моих сограждан хочет подтверждений, в психиатрической озабоченности Президента, как и равно, в подхалимстве чиновника. (По мне так для осознания того, что некоторые начальники совершают смешные безумстве, не нужно никакого писсуара, а хватает одного чтения Салтыкова-Щедрина). Но вот история претерпевает все полагающиеся стадии слуха — медленное тление фитиля, затем быстрое горение, взрыв, и медленно оседающую пыль.
Вплоть до снятия масок и
итоговых признаний.
Так вот, сегодня ночью я читал диалог об этой истории как о совершенно реальной — и с ремаркой о том, что причудливость жизни замещает любую причудливость вымысла. Но для меня-то эта декабрьская история была уже давней и отгоревшей, а для кого-то новой.
Не в этом дело — она как раз доказывает, что живуча не правда жизни, а искусная её обработка. Это напоминает известный анекдот про Оскара Уальда, что, увидев замерзшего и оборванного нищего, покупает ему новый костюм, но в последний момент сам вырезает на нём ножницами множество "правильных" дыр.
Или
вот история — не поймёшь, правда ли, да и тут важно, как рассказать. Но веришь интуитивно, потому что подготовлен десятками книг и фильмов. Почему бы комедии (или чёрной комедии) не произойти в жизни?
Ну, тут есть народные анекдоты, и реально пропагандистские акции, причём не обязательно профессиональные, и даже осознанные акции. Есть та подозрительность обывателя, что, собственно, и даёт ему возможность доверять любой гадости. У Виктора Конецкого есть в путевых дневниках описание одного моряка: "за Арнольдом Тимофеевичем надо глядеть в четыре глаза — не по Московскому водохранилищу плывем. Пятьдесят семь лет. Бывший военный, давно получает пенсию капитан-лейтенанта. Служил в гидрографии на Севере в промерных партиях. Вероятно, отсюда недоверие к любой глубине на карте. "Я знаю, как их меряют! " — говорит Арнольд Тимофеевич с многозначительностью посвященного человека. И ясно делается, что сам он мерил глубины отвратительно. И потому не верит ни одной на карте".
Сальери мёртв и не оправдается никогда, Керенский навсегда одет в женское платье. Власть всегда похожа на руки брадобрея.
Calomniez, calomniez, en restera toujours quelque chose — это принцип верный не тем, что истинный порядок вещей уничтожается, он просто становится неинтересен. (Кстати, об этой цитате всегда ссылаются на Бомарше, но в "Севильском цирюльнике", где действительно много говорят о клевете как таковой, такого выражения нет. Недаром, в в моих любимых комментариях к "Дневнику писателя" говорилось: "Выражение, по традиции ошибочно приписывается Вольтеру и ли Бомарше". Видите, и с клеветой даже не всё ясно.
Человеческий ум всегда легко верит во что-то, к чему склонен сам и что подозревает в других, а все люди, в общем-то одинаковы. Слухи вокруг них — вполне точная наука. «Если из высказывания P следует Q, и Q приятно, то P истинно»
[4]
Мы выстраиваем мир под себя, проговариваем его — и нате, он такой, как мы говорили.
Извините, если кого обидел.
20 января 2011
(обратно)
История про интересы людей
Совершенно случайно подглядел замечание неизвестного мне человека. Человек этот возмущался обывательским мышлением, и говорил примерно так: "Интересы сетевой публики приводят меня в замешательство. Пост про то, как душевнобольная телка забеременела в результате просмотра фильма в 3D привлекает внимание всех. А то, что двое ученых осуществили холодный синтез и видео процесса выложили — без ответа. Вам пиздец, смертные. Потом не говорите, что я не предупреждал".
То что всем пиздец, я как бы не спорю.
Однако ж специфика моей биографии говорит о том, что любая новость о том, что двое неизвестных учёных выложили в Сети видео с холодным термоядом имеет ровно такую же ценность, что и беременность женщины, приключившаяся в результате просмотра фильма. Даже меньшую.
Во-первых, я бывал в кинотеатрах и видел что там иногда твориться на задних рядах. Такое иногда творилось, что прости Господи! Ничего невероятного в разного рода приключениях в темноте я не наблюдаю.
Во-вторых, холодный термояд, конечно, не вполне лженаука, но само направление имеет вполне компрометированное имя. Нет, может там в конце концов, что и получится, многое что будет открыто, но именно что поздно, а не рано. Но так чтобы гаражной сборки и малоизвестными людьми — это вряд ли. Тут работают большие числа — слишком много энтузиастов и простых шарлатанов упало в эту бездну.
Собственно, холодный термояд это заместитель некого мистического начала в науке, что всегда существует в умах — оно всегда есть, был в ней философский камень, к примеру. Ну и ХЯС это такой МакГаффин, который неизвестно что такое, но если поднатужится и открыть его, то у нас могут моря разливанные энергии и счастливая жизнь.
На месте стороннего наблюдателя я бы не особенно пенял коллективному общественному бессознательному — потому как это выглядит как "Уроды! Почему всех интересует бородатая женщина на ярмарке, а то, что мой сосед изобрёл вечный двигатель, осталось незамеченным".
Меня интерес к бородатым женщинам тоже смущает, но я всё же бы ратовал за переключение его на женщин безбородых, а не на новое нарушение Второго закона термодинамики.
Извините, если кого обидел.
21 января 2011
(обратно)
История про фейсбук
Конечно, facebook довольно странное образование.
(Я, кстати, там за несколько лет так и не разобрался с уровнями приватности. К примеру, кто, что и где там может прочитать сторонний наблюдатель. Или как пользователи facebook отслеживают гостей — говорят, такая опция там есть. Я это сообщаю, чтобы заранее указать уровень своей компетентности).
Но и для человека недостаточно вовлечённого, facebook — тот самый случай, что может служить примером того, как количество стилистических особенностей переходит в их качество.
Первое, что все давно заметили в этом ресурсе — это скорбные сообщения "У меня умер отец" с ремаркой "32 пользователям это нравится".
Но, на самом деле, есть у фейсбука ещё одна особенность, которая напоминает нам одну традицию прошлого века.
Это такая аналогия, что может быть заметна только мне, но всё же…
Итак, наше Отечество пережило разные стадии отношения государства и общества как к браку, так и к обычной ебле. Это было то равнодушие, то ревнивый пристальный надзора.
Много что было в нашей истории, и в числе прочего был Указ от 8 июля 1944 года, говоривший о разводах, которые стали происходить в два приёма: народный суд пытался примирить супругов, а расторгал брак уже суд вышестоящего звена — и суд мог отказать в разводе, если причины ему казались неубедительными), ввели большие пошлины, само слушание было обязательно гласным, в присутствии свидетелей — ну, и всё такое.
Нас интересует то, что вводилась обязательная публикация в местной газете объявления о разводе. Всё это с некоторыми изменениями (включая семилетний период запрета на браки с иностранцами) просуществовало до принятия 27 июля 1968 года Основ законодательства о браке и семье, а через год — Кодексов о браке союзных республик.
Так вот facebook имеет специальную опцию "N. больше не состоит в отношениях".
Понятно, что эти отношения вовсе не брак (хотя для брака такая же опция есть), но это какой-то особый опыт — говорить в пространство об интимном.
Впрочем, может, многие никакой неловкости от этого не чувствуют (в этом и заключён предмет рассуждений).
Положа руку на сердце, мне в социальных сетях больше прочих нравится формулировка "всё сложно". Гениально, я считаю. Семейное положение — "Всё сложно". Или "Семейное положение — "Всё стало просто"".
Итак, социальная сеть, способствующая знакомствам — это своего рода добровольная газета "Вечерняя Москва". (Только раньше объявление в газете было придумано именно как позорящий, а, стало быть, сдерживающий фактор, а в социальной сети это, наоборот, сигнал о готовности к неким новым "отношениям"). Я, в общем, знаю историю facebook, и понимаю что все социальные сети связаны с сексуальностью. Однако ж, со времени их появления прошло много времени, социальные сети идут кучно, способов знакомств множество. Меня интересует не сама конкретная сеть, а именно эстетика акта объявления — внутренняя и внешняя.
В жизни-то всё не так: в жизни человек вовсе не всегда любит публично фиксировать статус (некоторые-то не то что разводы, они и свадьбы не любят).
Расставания в жизни происходят по разному — беззаботно и с кровью на кухонном ноже, незаметно или с публичным скандалом. Сообщения тоже бывают разные "Ты знаешь, старик, я с Олей больше не живу", "Я ушла из дома, можно у тебя переночевать", "Я больше не люблю Сергея Михайловича, и попрошу и имя его при мне не упоминать, а так же вопросов об этом больше не задавать".
Я-то разное слышал.
Мир устроен сложно.
Извините, если кого обидел.
24 января 2011
(обратно)
История про Татьянин день
…Мы молча вышли вон, на широкие ступени перед факультетом, между двух памятников, один из которых был Лебедеву, а второй я никак не мог запомнить кому.
На улице стояла жуткая январская темень.
Праздник кончался, наш персональный праздник. Это всегда был, после новогоднего оливье, конечно, самый частный праздник, не казённый юбилей, не обременительное послушание дня рождения, не страшные и странные поздравления любимых с годовщиной мук пресвитера Валентина, которому не то отрезали голову, не то задавили в жуткой и кромешной давке бунта. Это был и есть праздник равных, тех поколений, что рядами валятся в былое, в лыжных курточках щенята — смерти ни одной. То, что ты уже летишь, роднит с тем, что только на гребне, за партой, у доски. И вот ты как пёс облезлый, смотришь в окно — неизвестно кто из списка на манер светлейшего князя, останется среди нас последним лицеистом, мы толсты и лысы, могилы друзей по всему миру включая антиподов, Миша, Володя, Серёжа, метель и ветер, время заносит нас песком, рты наши набиты ватой ненужных слов, глаза залиты, увы, не водкой, а солёной водой, мы как римляне после Одоакра, что видели два мира — до и после и ни один из них не лучше. Голос классика шепчет, что в Москве один Университет, и мы готовы согласиться с неприятным персонажем — один ведь, один, другому не быти, а всё самое главное записано в огромной книге мёртвой девушки у входа, что страдала дальнозоркостью, там, в каменной зачётке на девичьем колене записано всё — наши отметки и судьбы, но быть тому или не быть, решает не она, а её приятель, стоящий поодаль, потому что на всякое центростремительное находится центробежное. Чётвёртый Рим уже приютил весь выпуск, а век железный намертво вколотил свои сваи в нашу жизнь, проколол время стальными скрепками, а мы пытаемся нарастить на них своё слабое мясо, а они в ответ лишь ржавеют. Только навсегда над нами гудит в промозглом ветру жестяная звезда Ленинских гор, спрятана она в лавровых кустах, кусты — среди облаков, а облака так высоко, что звезду не снять, листву не сорвать, прошлого не забыть, холодит наше прошлое мрамор цокольных этажей, стоит в ушах грохот дубовых парт, рябят ярусы аудиторий, и в прошлое не вернуться.
«С праздником, с праздником, — шептал я спотыкаясь, поскальзываясь на тёмной дорожке и боясь отстать от своих товарищей. — С нашим пронзительным и беззащитным праздником».
Извините, если кого обидел.
25 января 2011
(обратно)
История про таможню
О, сегодня — день таможенника. У меня как раз есть по этому поводу рассказ:
(начальник контрабанды)
— Это машина времени. Это моя машина!
Лебедев лгал — машина была вовсе не его собственностью и даже не его изобретением. Он был приват-доцентом, мелкой сошкой, человеком, которому упало в руки чужое богатство. Один профессор бежал, другой был уведён из дома людьми в кожаных куртках. И вот он унаследовал двенадцать ящиков в рваном брезенте, которые лежали на причале — там, где обрывались железнодорожные рельсы.
Лебедев замолчал, ожидая эффекта. Но никакого эффекта от его слов не было: контрабандист с повадками эмира смотрел в сторону. Ему явно было всё равно, что везти через море.
— Я должен вывезти это в большой мир — я должен, должен… Вы помогаете прогрессу… — и тут же, испугавшись, Лебедев, добавил — Конечно, это не отменяет уговорённой платы.
Человек во френче продолжал слушать его молча, разминая в пальцах дорогую английскую сигару.
Лебедев пытался объяснить, как важно то, на что согласился контрабандист в английском френче и чалме, смесь Запада и Востока, страшный сон Киплинга, порождение неустойчивых границ Юга Империи. Империи, что перестала существовать, рассыпавшись в снежную пыль на севере и разлетевшись тонким песком здесь, на юге.
Сказать, что граница здесь охранялась плохо — значило ничего не сказать. Граница вовсе не охранялась — за исключением всадников, что поделили тропы за кордон — как нищие делят прибыльные места на базаре. Всадники принадлежали разным кланам, но были неотличимы друг от друга — в английской и русской форме (со следами споротых погон), в рваных халатах и шинелях с чужого плеча.
Это тропы — через горы, от одного колодца в пустыне до другого, через море — стали пашнями и нивами, кормили множество людей.
Хлопковые фабрики встали, а нефтяные заводы стояли чёрными, оставшимися от пожаров остовами.
Сейчас через границу уходили немногие — основная масса беглецов уже схлынула, как морская волна, обнажая дно.
Приват-доцент Лебедев вёз свою машину до этого пустынного края месяц, скормив ненасытным железнодорожникам шесть мешков сахара.
За его спиной была большевистская Россия, перед ним — Персия и английские офицеры. Но на самом деле эти английские офицеры символизировали для Лебедева далёкий Кембридж и ровный стук мелка по доске.
Перед ним была Англия, а не Персия — но пока он стоял на земле Туркестана.
Лебедев устал, он знал, что за ним по следу идёт отряд чекиста Ибрагимбекова, и представлял, как Ибрагимбеков прикладывает коричневое ухо к земле и слышит каждый стук колеса по рельсам, каждый шаг приват-доцента по песку.
Железнодорожная ветка кончилась — перед Лебедевым был причал с одиноким корабликом, выбеленные здания бывшего порта и ящики, покрытые обрывками брезента. Брезент с них срезали по дороге мешочники, проникшие в вагон.
На ящиках было написано «Осторожно, заражено!» — и каждый новый грабитель отшатывался от них, прыгал вон, в мелькающую вокруг вагона степь. Те же, кто не умел читать, ломали ножи о стальные запоры из добротной крупповской стали. За неимением лучшего они рвали брезент, справедливо полагая, что на третьем году Революции в хозяйстве сгодится всё.
Теперь Лебедев затёр угрожающие надписи и, задыхаясь от жары, вёл нескончаемый разговор с местным контрабандистом.
Договор ткался из воздуха паутинной нитью, нить росла, утолщалась. Крепла. Казалось, уже всё было решено, но у Лебедева было неприятные предчувствия. Холодок неуверенности, особое ощущение льда на коже среди местного зноя. Что, если этот бородач с тонкими чертами лица откинет деревянную крышку кобуры, вытащит маузер и равнодушно выстрелит Лебедеву прямо между глаз? Кто ему помешает? Что остановит?
Поэтому Лебедев и вёл своё торопливый рассказ о том, как важен его прибор, но который, разумеется, ничто без самого Лебедева — так, жестяные шары и цилиндры, эбонит и медь. Электрохимическая машина — важная, но непригодная к продаже.
Лебедев был никуда не годным вруном, в гимназии и университете он стал лучшим только потому, что боялся списывать. Он не умел блефовать, и наука обернулась для него вереницами намертво заученных формул.
Наконец, он выдохся и замолчал.
Пауза длилась, время текло, как зной, что переливается через подоконник, струится по полу, наполняет комнату.
Лебедев тупо смотрел на «Извлеченiе изъ правилъ о пассажирскихъ вещахъ», что висело с прежних времён на голой стене таможни. В таможне давно не было таможенников, поэтому природа, не терпящая пустоты, сделала её здание местом торга контрабандистов.
«Пассажирскими вещами признаются вообще находящиеся при пассажирах вещи, бывшия в употреблении и необходимые для них в путешествии. Вещи сии как не составляющая предметов торговли, про¬пускаются беспошлинно…» — Лебедев отвык от ятей и еров, эти слова были для него как привет из прошлого мира — мира, где извозчик вёз его по Моховой, резиновые шины шуршали по брусчатке, звенела ложечка в стакане с чаем, Дуняша несла поднос по гостиной медленно, бесконечно медленно, и никак не могла донести…
Он глядел на примечание: «Находимые при досмотре проезжающих из-за границы бывшия в употреблении иностранныя игральныя и гадальныя карты не могут быть пропускаемы им ни в каком количестве, но должны быть от них отбираемы для представления в Управление по продаже игральных карт». Лебедев вспомнил незатейливую игру на даче в Мамонтовке, нахмуренный лоб профессора фон Раушенбаха — мизер в тёмную.
Нет ничего — ни профессора, ни Мамонтовки, ни извозчика. И только опись беспошлинных вещей старого мира на стене — «Бывшие в употреблении платья, обувь, белье носильное и полотенца
в количестве, не превышающем обыкновенную потребность пассажира. Золотые, серебряные и другие металлические вещи для домашнего употребления, до трёх фунтов на каждое лицо, а также дорожные несессеры всякаго рода, по одному на лицо».
Нет ничего из этого списка, а есть хитрый азиат в английском отглаженном френче, он сам, измотанный нервной лихорадкой, да машина в двенадцати ящиках, с таким трудом вывезенная из Москвы.
Контрабандист раскусил его сразу.
Он не презирал Лебедева, он давно не удивлялся липкому страху, что исходил от этих людей. Лебедев вонял страхом, как старыми носками, и контрабандист понимал всё то, чего он боится.
За время, проведённое в этих местах, начальник контрабанды видел много таких людей — бегущих, волочащих за собой своё добро, мельчающее в дороге. Многих действительно убивали — не тех, кто уходил за кордон с собственной охраной, а таких жалких приват-доцентов, что бежали из среднеазиатских городов с запуганными жёнами, незадачливых чиновников с десятком золотых червонцев, вшитых в полы форменного сюртука.
Контрабандист уже решил, что переправит Лебедева живым, но не ради денег, а ради такой же тонкой, плетущейся из воздуха, как нынешняя беседа, дружбы с майором Снайдерсом на том берегу.
Он слушал Лебедева вполуха.
Начальник Контрабанды был воином, а не торговцем. Раньше он переправлял целые караваны за южный край по приказу эмира, не беря за это ни таньга.
Раньше это было службой, и теперь он иногда сожалел, что прежнее время ушло. Он воевал со всесильным Ибрагимбековым, он воевал с Кубла-ханом, он, наконец, воевал с русскими — и только недавно нашёл себе настоящего врага. А ведь это так трудно, найти настоящего врага — особенно, когда врагов много.
У всякого Начальника Контрабанды должен быть Начальник Таможни — они как отражения друг друга в железном полированном зеркале. Но Начальник Таможни был несчастный человек, отставной офицер, потерявший ноги в Галиции. И, после хлопот жены, его сослали на место, казавшееся тогда хлебным.
Нет, сначала он был страшен. Обладая огромной физической силой, он скакал по пустыне, и ловил контрабандистов как медлительных черепашек. Однажды он, швыряясь бочками, с причала потопил две лодки Начальника Контрабанды.
Но недавно у него умерла от холеры жена, а затем умер ребёнок.
После этого Начальник Таможни потерял лицо. Его лицо смыли слёзы, а водка довершила дело. Теперь у Начальника Таможни не было ни глаз, ни рта. Человек без лица потерял свою силу, словно бритый Самсон, и контрабанда здесь стала делом безопасным.
Начальник Контрабанды даже жалел, что так вышло — ему не нравилась скука.
А вот красный командир Рахмонов был очень хорошим врагом.
Рахмонов был настоящим врагом для Начальника Контрабанды, потому что красному командиру Рахмонову ничего не было нужно. Ни золота, ни женщин не нужно было Рахмонову, и он дрался с Начальником Контрабанды яростно и бескорыстно.
А Начальник Контрабанды устал, золота было у него много, и много женской любви было у него, но что важнее — он сам любил.
Давным-давно, когда русский царь позвал эмира в гости, он познакомился в русской столице с женщиной. Столица была не та, что нынче, другая — призрачный город, наполненный водой.
Там, посреди площади у царского дома, будущий Начальник Контрабанды в первый раз увидел свою женщину, и сердце его дрогнуло. Оно пропустило удар, и время для будущего контрабандиста остановилось.
Но он был воином, и лицо его не дрогнуло, когда он увидел её второй раз — в ложе театра, вместе с эмиром.
Третий раз он увидел её тогда, когда стронулся с места мир, и глупые дехкане начали кричать о чужой земле и бесплатной воде.
По приказу эмира он рубил тогда головы глупым дехканам, и кровь, дурманя голову, мгновенно мешалась с пылью площадей. Но их оказалось слишком много — спасало только то, что у них не было винтовок.
Началось смятение, а с севера ехали первые беженцы, ещё не растерявшие столичного лоска. Но рот их уже был забит криком, а глаза полны безумием. И вот он снова увидел свою любовь, женщину с волосами цвета песка.
Тогда он выдернул её из орущей толпы, в которой чемоданы были приличнее людей.
Надо было уходить на ту сторону — взяв остатки добра и свою любовь. Но надо было и подружиться с британским майором, потому что Начальник Контрабанды хотел спокойно ходить по улицам на той стороне.
Нужно было дружить и с прочими людьми за южным краем, с теми, что носили чалму, и с теми, что носили мундиры великой империи, над которой никогда не заходило солнце. И уже третий год не было для Абдулхана другой империи.
Теперь он выстраивал свой мир, спокойный и правильный — в противовес миру красного командира Рахмонова, который оставался воином — ему самому на замену. Начальнику Контрабанды даже не было жаль двух потерянных караванов, которые остановил красный командир — так нравилось ему играть с Рахмоновым.
Но теперь красный командир должен был остаться воином, а Начальник Контрабанды должен был забыть своё ремесло ради детей и любви.
Он ещё помнил, что Кубла-хан сжёг в нефтяных бочках его гарем, и эта внезапная любовь к русской женщине была надеждой на продолжение жизни.
Чтобы пауза не длилась слишком долго, чтобы этот оборванный учёный, приехавший с севера со своими странными железяками, не унижался больше, Начальник Контрабанды спросил:
— И что, можно попасть в будущее?
— Нет, в будущее нельзя, по крайней мере, пока нельзя. Можно попасть в прошлое, вернее воссоздать прошлое в одном месте. Нужно только охладить пространство, и при отрицательной температуре молекулы побегут вспять. Они повторят все пройденные ими пути, только в обратном направлении. И наступит …
— Госпо-о-один!.. Господин Абдулха-а-ан!.. — крикнули издали.
— Завтра, — бросил Начальник Контрабанды, поднимаясь. — Завтра мы пойдём на ту сторону. Ваша цена мне подходит.
В этот момент человек, лежавший у окна с полевым биноклем, встал, и, по-прежнему невидимый за занавеской, потянулся.
— Они договорились. Слышишь, Павлик, они договорились.
— И что, товарищ Ухов? — ответил ему мальчишеский голос. — Пора? Возьмём их в плен — промедление ведь смерти подобно.
— Ты, Павлик, не кипятись. Ну, вот выбежишь ты навстречу Абдулхану, размахивая трёхлинейкой, сделает он тебе тут же лишнюю дырку во лбу — и что? Будешь ты совершенно негоден для мировой Революции, и всё закончится.
Видишь, Абдулхан уезжает. Он едет за чем-то, что нам неизвестно, а ему очень важно. Он будет скакать ночью, а вернётся к утру, потому что он любит двигаться в ночной прохладе. Он вернётся завтра со своим добром, и завтра к нам придёт на помощь товарищ Рахмонов.
Человек с биноклем расправил складки гимнастёрки и начал спускаться на первый этаж со своим напарником.
Там, за широким столом сидел вдребезги пьяный Начальник Таможни. Он был пьян навсегда, потому что сын Начальника Таможни умер, не дожив трёх дней до своего второго дня рождения.
— Абдулхан уехал в крепость. Завтра, я думаю, он пойдёт на ту сторону.
— Мне-то что до него? — выдохнул перед тем, как опрокинуть в рот стакан, Начальник Таможни.
— Товарищ Васнецов… — запел тонким мальчишеским голосом младший.
— Да не зови ты меня вашим дурацким товарищем, надоело, — Начальник Таможни высосал целиком скибу дыни и обтёр губы.
— Гражданин Васнецов, Владимир Павлович, миленький… — ведь они достояние республики увезут.
— Какой-такой республики? Совдепии? Автономной Туркестанской? Бухарской республики? Диктатуры Центрокаспия, чтоб она в гробу перевернулась? Что мне до них, парень…
— Так они, Владимир Павлович, своей машиной время обратно повернут…
Но тут старший положил
тяжелую ладонь красноармейцу на плечо.
— Хватит, Павлик. Поговорили.
И товарищ Ухов со своим товарищем вышли из дома Васнецова.
Ночь покрыла пустыню, как перевёрнутая миска. Абдулхан с пятью нукерами ехал к крепости — за золотом и любовью.
— Сашенька… — выдохнул Абдулхан в темноту имя своей любви, а золото своего имени не имело и ждало его тихо.
Сборы были недолги, а нукеры — молчаливы. Молчала и Сашенька. Звёзды вели их обратно в порт, но у Сухого ручья его встретил Рахмонов.
Ночь рвали вспышки выстрелов, освещая лица всадников. Абдулхан не промахнулся ни разу, но у Рахмонова был пулемёт.
Нукеры умерли один за другим, за исключением русского казака Григория, который пришёл в отряд Начальника Контрабанды совсем недавно. Григорий был на Дону в больших чинах, дрался то за красных, то за белых, а как пришёл верёвочке конец, то покатился на юг. Он катился долго, превращаясь из румяного колобка в колючее перекати-поле.
Григорий даже не пригибался к гриве лошади, будто заговорённый прошлыми несчастиями своей жизни.
Пули пели над ними, как цикады.
Заревела и рухнула лошадь под Сашенькой, так что она еле успела спрыгнуть. Абдулхан подхватил женщину и кинул себе за спину как лёгкий плащ.
Время шло медленно, и Начальнику Контрабанды казалось, что он раздвигает пули руками.
Они скакали в темноте, не отвечая на выстрелы, чтобы люди Рахмонова потеряли их из виду.
Но внезапно Абдулхан ощутил, как объятия его женщины слабеют, а его английский френч намокает. Они спешились — Сашенька безвольно лежала на его руках. В груди женщины хрипело и булькало.
Абдулхан приложил ухо к её губам, но Сашенька уже не говорила ничего.
Час её пробил, а время для Абдулхана снова понеслось вскачь.
Казак сокрушённо покачал головой, и принялся шашкой рыть могилу.
— Вот так и мою жинку Аксинью убили, — утешил он командира. — Пуля прилетела, и ага.
Но Абдулхану утешения были ни к чему. Он пожалел, что остался в живых именно казак — нукеры были молчаливы, а Григорий чувствовал себя на равных с ним и думал, что с хозяином возможен разговор.
Закопав женщину, Абдулхан завыл как собака и выл целый час. На исходе этого часа он спокойно встал, отряхнул песок с френча, и молча погнал лошадь к морю.
Товарищ Ухов закурил цигарку и молодой красноармеец, вдохнув, наполнил кашлем трюм баркаса.
— Смотри, Павлик — видишь, бикфордов шнур? Он вспыхнет, и ровно через пять минут огонь брызнет внутрь динамитной шашки, которую я приматываю сюда — смотри, Павлик… А остальные будут вот здесь.
И ровно через пять минут Начальнику Контрабанды придёт конец.
— Но, товарищ Ухов. Ведь конец придёт и машине времени, которая должна служить пролетарской революции.
— А так она будет служить врагам пролетарской революции. Как ты думаешь, Павлик, что лучше?
— Лучше будет, если мы и машину времени спасём, и врагов уничтожим.
— Так, Павлик, бывает только в синематографе. Собирайся, нам тут рассиживаться нельзя. Не у тёщи на блинах.
Поднимаясь, Павлик запнулся и загасил фонарь. Он чуть было не упал, но, схватился за что-то, и, удержав равновесие, полез по трапу вслед за старшим товарищем.
Баркас был загружен под завязку, десятки ящиков и тюков громоздились повсюду, и эти двое так и не заметили, что под коврами лежит Начальник Таможни и прислушивается к их разговорам.
Старый таможенник Васнецов всё понял из случайно обороненной фразы молодого красноармейца.
Наутро приват-доцент Лебедев, ступив на палубу, увидел маленькую чёрную дырочку. Вся беда была в том, что эту математическую точку окружала сталь, а внутри был цилиндр со свинцовым набалдашником.
Всё это находилось в руках Начальника Таможни Васнецова, и, разглядывая эту чёрную дыру, Лебедеву пришлось заново повторить всё то, что он рассказывал Абдулхану.
— И что, — спросил Васнецов, — всё повернётся вспять?
— Это зависит от мощности. Накопим энергии больше — так больше и…
— А чем у тебя мотор работает? Мочёным песком, что ли?
— Почему песком? Электричеством — с помощью переработки солнечной энергии.
Васнецов помолчал и приказал, поведя карабином:
— Заводи свою машину.
— Но там огромные солнечные батареи, я — один, а вы… Лебедев покосился на протезы Васнецова.
— Ничего, справимся. Аллах милостив, — ответил за Васнецова другой голос.
Прямо над ними, на свёрнутых коврах сидел Абдулхан с маузером в руке.
— Да Григорий нам поможет, правда?
Из-за рубки выступил человек в синих штанах с лампасами и казацкой фуражке. Теперь три чёрные дырки глядели на Лебедева.
— И он поможет, — Абдулхан сделал движение рукой и с другой стороны рубки вышел старый татарин с английской винтовкой.
И вот уже четыре человека ждали, что скажет беглый приват-доцент.
— Но у меня может не получиться.
— А ты постарайся, — сказали двое, а татарин и человек в лампасах промолчали.
— Дельта может быть маленькой, совсем маленькой — несколько недель, не больше! — сорвался на крик Лебедев.
— А ты постарайся, — сказали ему снова.
Лебедев вдруг почувствовал странную пустоту вокруг себя. Он понял, что сопротивляться бесполезно, но всё же сказал:
— Время не просто пойдёт вспять. Всё изменится — это вроде того, как если убить одну бабочку… То есть, если убить куколку, а из неё не вырастет бабочка. То есть, убить куколку… Господи!.. Неизвестно, что будет — всё вокруг может поменяться. Будет не то, что вы думаете.
— Собирай машину, — просто сказал Абдулхан.
Слова сбились в горле Лебедева в сухой комок. Этот комок стал враспор, и из горла не лез. Лебедев понял, что дело его проиграно, свобода и Англия отсрочены, а, может быть, утеряны навсегда.
Он всхлипнул и сбил крышку с ящика, где лежал щит управления.
Баркас перестало качать — сборка шла споро, казак да татарин под руководством Лебедева установили над баркасом сборники солнечной энергии, отчего кораблик стал напоминать гигантскую стрекозу с фиолетовыми крыльями.
Два красноармейца — старый и молодой — лежали на краю бухты, и Ухов наблюдал за происходящим на баркасе через линзы немецкого артиллерийского бинокля.
Баркас всё медлил с отплытием, и Ухов нервничал. Он боялся, что его уловку разгадали, и Начальник Контрабанды исчезнет, уйдёт безвозвратно, словно нож, упавший в воду. Отряд Рахмонова достал бы баркас ружейным огнём, но Рахмонов опаздывал.
— Жалко Васнецова, да. Зачем он туда полез, застрелят. — Ухов вспомнил таможенные правила, что несколько дней подряд читал от скуки на стене таможни: «В таможенных учреждениях Кавказского края и в Астраханской таможне с товаров и предметов в товарном виде, необъявленных пассажиром, но открытых при досмотре, взыскивается тарифная пошлина в размере одной с третью пошлины, предметы же скрытые конфискуются, на общем основании, как тайно провозимые, при чем конфискации предшествует составление протокола, за подписями всех досматривавших и самого пассажира, если он от сего не откажется».
Ухов представил, как пьяный Васнецов требует от Абдулхана особой пошлины, а тот, не считая, швыряет ему под ноги золотые монеты.
Но шли часы, на корабле развернули странную конструкцию, а Начальник Таможни был ещё жив.
Ухов бы понял, если Васнецов решил бежать, но тут явно был не тот случай. Он сплюнул и посмотрел на напарника, вдруг удивившись перемене. Павлик, лежащий рядом, побелел и выпучил глаза.
— Т-т-товарищ Ухов, я… Я, кажется, бикфордов шнур выдернул.
— То есть, как, Павлик?
— Ну, когда мы уходили, я упал, и рукой схватился…
— Точно помнишь?
— Не знаю. — Павлик по-детски шмыгнул носом. — Не знаю, Фёдор Иванович! Не знаю.
Ухов замешкался, а Павлик вдруг скинул с себя гимнастёрку, галифе и ботинки.
— Стой! Ты куда?! — но Павлик уже полз змеёй к берегу.
Он проплыл под водой половину пути, глотнул воздуха, и в следующий раз вынырнул уже около борта.
Фиолетовые пластины висели у него над головой, он схватился за какой-то шкворень, потянулся и покатился по палубе мимо бочек и ящиков. Работа шла на другой стороне баркаса, и он тихо юркнул вниз, к машине.
И тут же увидел, что адская машина в исправности.
Павлик всхлипнул, но вспомнил, как комиссар Шкловер говорил о смерти.
Нет ничего лучше, чем погибнуть за Революцию, так говорил Исай Шкловер. Вспомнил Павлик комиссарские слова и, сделав над собой усилие, постарался навсегда забыть чёрные глаза туркестанских девок и плоскую, как стол, родную украинскую степь.
Он снял с полки серник и, чиркнув, запалил шнур.
Машина была готова к действию. Стрелки дрожали на правильных, указанных теорией, делениях. Лебедев проверял напряжение, заглядывал в колбы, где грелись волоски металлических нитей, но — медлил.
Начальник Контрабанды и Начальник Таможни сидели рядом.
Они стали равны друг другу — отражения соединились.
Васнецов отстегнул протезы и думал о своём умершем сыне, глядя в выгоревшее белёсое небо. Он вспоминал его детские волосы, что перебирал ветер с моря.
И Васнецов думал о том, что скоро увидит сына.
Абдулхан глядел вдаль, покусывая кончик незажженной сигары, чувствуя на шее дыхание невидимой Сашеньки. Её кровь засохла на френче между лопаток Абдулхана, превратилась в коросту, и ему казалось, что это любимая женщина положила ему ладонь на спину. И он тоже думал о скорой встрече.
Аллах прав, это будет последний рейс, сказал себе Абдулхан.
— Всё, — крикнул Лебедев, сорвавшись на фальцет. — Включаю! С Богом!..
Ухов увидел, как вместо баркаса по поверхности воды плывёт огромный шар, сверкающий на солнце.
Ухова не отбросило взрывной волной, а потянуло туда, к воде. Его тело покатилось через кустики колючек, но в последний момент Ухов успел схватиться за уздечку убитого коня. Он крепко ударился головой о седло и на минуту потерял сознание.
Когда он поднял голову из-за крупа, то увидел, что баркас исчез, а часть моря, где он стоял — замёрзла. Он ничего не мог понять, кто он и где он. В голове звенело, и память возвращалась медленно. Но это возвращение было неотвратимо. Можно надеяться, думал Ухов, что когда пройдёт контузия, то вспомнится всё.
Лёд играл гранями кристаллов, в точности повторяя форму волн.
Ухов ступил на него, вспоминая Волгу и своё детство, крик дядьки, утонувшего в ледоход. Всё вокруг потрескивало, шуршало — это лёд начал таять на жарком солнце.
Баркаса не было, не было никого.
«Интересно, где они?» — подумал Ухов. — «То ли динамитная сила стёрла их в пыль, то ли они в своём прошлом. Одно ясно — Революция на месте, и Красная Армия тоже при ней».
Он вернулся с неверного льда и сел на песок. Табак кончился.
Он ещё раз обшарил карманы. Табак остался только на стене таможни, в строках, щедро усыпанными ятями и ерами — «Допускаются беспошлинно начатые: пачка нюхательнаго и картуз курительнаго табаку, а сигар — не более одной сотни на каждое лицо».
И в этот момент на дюне появился, блестя очками, красный герой Рахмонов. Ржали в отдалении кони его отряда, звенела сбруя.
— Эй, как тебя, где они?
— Взорвались, — ответил специальный человек Ухов. — Все взорвались. И этот, с таможни — как его… Фамилия как у художника…
— А, Васнецов. Васнецова жалко, хороший был человек, хоть и офицер. А ты тот самый товарищ, которого нам прислал товарищ Ибрагимбеков? Тебя как зовут, я забыл?
Человек в выгоревшей гимнастёрке почесал за ухом и сказал:
— А зовут меня Ухов Фёдор Иванович. Вот так, товарищ Рахмонов.
Извините, если кого обидел.
26 января 2011
(обратно)
История про Ленинград
Сегодня — праздник, и я сообразил, что и к нему у меня есть текст, вернее один отрывок. К празднику этому я отношусь принципиально, да и во мне есть ленинградская кровь, чего уж там.
Ленинград, январь
59°57′00″ с. ш. 30°19′00″ в. д
Была лютая зима, а, может, так ему казалось от недоедания. Город вымерз, и жители уничтожали его как термиты, выжигая мебель, книги, дверные косяки и всё остальное, что могло гореть.
Еськов прошёл по набережной, а потом спустился на лёд, утоптанный десятками тропок.
За спиной у него висел тощий вещмешок системы «сидор» и пистолет-пулемёт системы Судаева. Оружие это делали в осаждённом городе как раз те, кто грелся горящей в печках мебелью.
Медный всадник смотрел ему в спину. Самого бронзового императора не было видно из-за мешков с песком, и оттого Еськов представлял его себе как пулеметчика в ДОТе, пулемётчика оставленного на крайний час, когда снимется и уйдёт охранение. В этот крайний час пулемётчик ударит из свой засады и, наверное, успеет выкосить две-три волны наступающих.
Впрочем, всадник остался далеко позади. Еськов пересекал Неву, а вокруг него был осаждённый город.
Два с половиной века истории глядели на него через пустые проёмы выбитых окон.
Он поднялся по заметённым снегом ступенькам на Университетскую набережную и пошёл в сторону Дворцового моста, пока не остановился у цели.
Перед ним стоял Зоологический музей, и вахтёр, сидевший в своём закутке за стеклянной дверью, не обратил на него внимания. Перед вахтёром стояла кружка, видимо с кипятком, и Еськов, пожалуй, тоже бы не оторвался от неё, чтобы расспрашивать человека в форме. Если человек в форме пришёл в музей и знает, куда ему идти, то он главнее вахтёра.
Поэтому Еськов небрежно козырнул в грязное стекло будки и вступил в его гулкие выстуженные залы.
Одно окно было отчего-то не завешено, и в неверном свете зимнего солнца он остановился перед мамонтом.
Еськов встал так, чтобы стеклянные глаза чучела смотрели прямо на него.
Он говорил с мамонтом, который умер сорок четыре тысячи лет назад.
Мамонта сорок лет назад нашёл эвен-охотник. Охотник боялся мамонта, хотя от него торчала одна только голова. Охотники боялся мамонта, и его друзья-охотники боялись, и всё же они выломали один из бивней и повезли его продавать.
Бивень купил один казак, а потом приехал и за остальным.
Через год за мамонтом приехали белые люди. Они ехали долго — месяц за месяцем. Сперва они добрались до Дальнего Востока, затем до реки Колымы, потом поднимались по реке Берёзовке, и с каждым шагом идти им было труднее.
Мамонта это всё не касалось. Сорок четыре тысячи лет сидел он в вечной мерзлоте, и время текло мимо него, ничего не меняя. Белые люди достигли его в сентябре, и на свежем снеге выглядели диковинными птицами. Вокруг был снег и холод, потому что зама приходит в тундру рано. Белые люди построили над мамонтом избу, чтобы внутри оттаивать мёрзлую землю. Мамонт равнодушно смотрел на них пустыми глазами.
Его разрезали на части, и повезли через начинавшуюся зиму. Мамонт равнодушно отнёсся к тому, что его ноги, голова и тело едут в разных кожаных мешках — за сорок четыре тысячи лет, которые он провёл в неудобной позе, это было даже развлечением.
Вокруг него суетились учёные, и он позволял им наново собирать свои кости.
К нему пришёл Император.
Мамонт смотрел на этого маленького человека с синей лентой через плечо и знал, что ни один император не вечен. И этому, что стоит перед ним, наверняка осталось недолго.
Так и вышло — и человека с лентой, и женщин, что были с ним, скоро постигнет та же судьба, и кости их будут жить в мешках — кожаных и некожаных, и их тоже будут трогать учёные, перекладывая от одной кучи к другой.
А теперь перед мамонтом стоял старший лейтенант Еськов, и снег на его валенках не таял.
У Еськова было ещё три часа, за которые он рассчитывал добраться пешком до места сбора. У него было две лишние дырки в спине, на которых, когда он нагибался, пульсировала новая розовая кожица.
Но мамонт этого не видел.
У мамонта было шестьдесят лет жизни и сорок четыре тысячи лет сна, а у старшего лейтенанта Еськова жизни было в три раза меньше, а последние полгода он вовсе не спал. Последние полгода он разве что дремал урывками.
Сон для старшего лейтенанта был чем-то вроде мечты, воспоминанием о том времени, когда он сидит на кухне и дремлет под бульканье огромной кастрюли на плите. Кастрюля ухает и жарко дышит белым боком, но в ней не еда, а грязное бельё в мутной мыльной воде. Но всё равно, она горяча и от неё исходит летний жар…
— А вы неплохо переносите холод, — сказал кто-то ему в спину.
По старой привычке Еськов резко обернулся, перехватив ствол своего автомата.
Но это был не враг, а человек музея. Просто за месяц госпиталя Еськов не мог отвыкнуть от страха. Который вызывал неожиданный шум за спиной.
— Можете помочь? — тускло спросил музейный работник.
Еськов молча пошёл за ним.
Они спустились прямо к месту, где сидел вахтёр, и, подойдя ближе, Еськов понял¸ что он давно мёртв — быть может, уже несколько дней.
Вахтер сидел перед кружкой, как шахматист перед шахматной доской. Только в кружке уже был лёд странного цвета. И, стало быть, игра не задалась.
Вдвоём они вытащили вахтёра из-за стола, не стараясь распрямить его тело.
— А знаете, — сказал музейный работник, — ведь мы с Николаем Степановичем ровесники. Только он — всю жизнь просидел здесь, а я стал академиком.
Еськов удивлёно посмотрел в лицо собеседнику. Голод сильно менял лица, и раньше старшему лейтенанту казалось, что музейному человеку лет тридцать. Но присмотревшись, он увидел, что это лицо точно такое же старое, как у вахтёра.
Лица часто жили своей жизнью, в первую блокадную зиму Еськов видел, как лица умирали прежде людей. Но этот академик со старой пергаментной кожей крепко держался за жизнь.
— Сейчас придёт машина, она по чётным числам тут проезжает… — сказал академик, и уже еле слышно прошелестел:
— Проезжает и собирает… Должанский тоже умер, и позавчера некому было их позвать. Глупо как-то, будто в первую зиму, я думал, что так уже теперь не будет…
Они поставили чайник на примус и скоро допили морковный чай мёртвого вахтёра.
Полуторка, что действительно скоро приехала, шла в нужном старшему лейтенанту направлении, и его подвезли.
Он ехал по темнеющему городу в кузове — вместе с вахтёром и ещё какими-то людьми, земное время которых уже кончилось. Теперь они находились в вечности, которая сорок четыре тысячи лет окружала мамонта. Мёртвый император со своей семьёй тоже находился там, лёжа глубоко под землёй.
И командир батальона, к которому ехал старший лейтенант Еськов, тоже уже находился в царстве мёртвых. Всё дело в том, что пока Еськов шёл по замёршему льду Невы, на их участке была танковая атака, и с тех пор верхняя часть туловища комбата лежала рядом с взорванным танком.
Всё дело было ещё и в том, какой был сегодня день
Еськова спешно выписали из госпиталя потому, что фронт дышал началом решительного прорыва, и каждый человек, который мог драться на узкой полоске берега вдоль Ладоги был на счету.
В этот момент контр-адмирал Роберт Эйссен начал диктовать машинистке черновой вариант статьи «"Комет" огибает Сибирь». Еськов ничего не знал о высшем офицере Кригсмарине Эйссене, как не знал о судьбах покойников, ехавших вместе с ним в кузове.
Еськов двигался навстречу своей судьбе, ещё не зная всего этого.
Они все были там, в одной точке мёртвые и живые — с той только разницей, что, в отличие от мамонта, никто и никогда не будет разглядывать мёртвых солдат через стекло витрины.
А Еськов был жив, только дышал аккуратно, чтобы внутри его воздух вёл себя спокойно и не резко давил на простреленные лёгкие.
Извините, если кого обидел.
27 января 2011
(обратно)
История про кино
"…Расстёгиваю я на товарище майоре китель".
Зачем-то я посмотрел удивительный канадский фильм Ilsa, Tigress of Siberia (1977). Я-то слышал об этой Ильзе, когда она ещё в SS была (Там был фильм «Ильза, волчица СС», потом что-то про гарем, и, наконец, последний фильм из четырёх рассказывал о приключениях Ильзы в Латинской Америке).
Этот снимал неизвестный никому Жан ЛеФлер
Что показательно, Dyanne Thorne которая там играет потом получила Ph.D. по Comparative religion. Говорят, под конец жизни (она, впрочем, жива, актриса увлеклась проповедями и релдигиозным просвещением)
Но дело даже не в этом. Фильмы, ставшие как бы классикой, да что там, классикой жанра sexploitation и WIP оказываются скромнее
греческой смоковницы.
Ну ладно, многие это дело видели, а тем, кто не видел, я расскажу.
Начинается всё в Сибири. По Сибири бежит зек, а за ним гонятся два вохровца, одетые как участники Пугачёвского бунта. Шапки высокие, косматые, сами тоже косматые, да и лошади косматые. Всё с начёсом. Вооружены вохровцы пиками.
Но зек убегает, и только, было, переводя дыхание в подлеске, обрадовался успеху предприятия, как его проткнули пикой. Причём не собственно вохровцы, а тётенька-полковник.
Забегая вперёд, я скажу. Что что о званиях тут судить очень сложно, потому что все носят на плечах узенькие красные погоны с одной ефрейторской лычкой. Товарищ полковник одета в бриджи, казакин и песцовую шапку с огромной красной звездой. Она любила конный строй, и бранный звон литавр, и клики пред бунчуком и булавой, в общем как-то так. Ну, натурально, проткнутого зека несут на палке обратно в лагерь — так, как обычно изображают туземцев, волокущих путешественников на скромный деревенский ужин в качестве наполнителя для котла.
Да и то верно — по возвращении тётенька полковник-ефрейтор говорит "У меня Саша ещё не кормлена". Зеку расшибают голову и сливают кровь в клетку большой амурской тигрицы. Я сразу догадался, кто эта Саша, сразу, честное слово!
Правда, зачем её так кормить — жижкое на первое, а на второе — всё остальное, непонятно, но это только начало.
С чувством исполненного долга охрана начинает праздновать в своей избе с полосатыми половиками, занавесочками и зеркалом, спизженным из барской усадьбы в Центральной России. Ну, ладно — позаимствованным из реквизита к "Егению Онегину". Двое охранников играют на балалайках, товарищ полковник пляшет под "Дорогой лунною…" (кстати, неплохо пляшет), и отчего-то называет своих подчинённых казаками (тут я понял, что имел в виду немецкий генерал из другого фильма под пархатыми большевистскими казаками). Потом начинается битва за тело комиссарское — подчинённые казаки дерутся по двое, и победители идут спать с товарищем полковником, а проигравшие — трахаться с обслугой, двумя симпатичными девками в гимнастёрках времён Гражданской войны. (Пархатые казаки перепились, и вольнонаёмным девушками пришлось обслуживать себя самим).
Долго ли, коротко ли, в лагерь на санях привозят этап — четыре человека. Вместо указателя там свежезамороженный зека стоит на повороте и обледенелой рукой указывает: хозяйство Семибабы здесь. Впрочем, «семибаба» это из другого тоталитарного фильма. Этап небольшой, и все новоприбывшие одеты в специальную форму (удивительно похожи на современных хипстеров, чтобы не означало это слово). Вот они заезжают под вывеску "ГУЛАГ № 14", и — тю! — полковница с ними начинает знакомиться.
— Вот ты, — говорит она. — Сын генерала Зирова? (В аннотации сообщают, что это всё же генерал Жиров, но у меня звук слабый, и я сначала решил, что это игра слов от "Нулевой").
Какой-то юноша говорит, что да, но ни он, ни папа ни в чём не виноваты.
— Ага! Тебя осудили на шесть месяцев, а сейчас своей непокорностью ты увеличил себе срок на три месяца. (Тут я начал хрюкать, но быстро опомнился. Какими красками заиграл бы фильм с настоящими сроками!).
Следующим зеком оказался "политический мыслитель" Андрей Чекурин.
— Ага, — говорит ему полковница, — сейчас мы будем тебя ломать, политический мыслитель Чекурин.
И правда, полковница приходит к нему и показывает политическому мыслителю сиськи. Для того, чтобы он эти сиськи без спросу не мацал, его, правда, привязали к электрическому стулу. Увидев, что с сиськами не выгорело, полковница ушла наблюдать фольклорную забаву русских людей — армреслинг с двумя циркулярными пилами. Удивительный станок, кстати, я всё думал, можно ли его для какого-нибудь настоящего плотницкого дела приспособить.
А политическим мыслителем занялся противный старичок (видимо, лагерный врач-вредитель). Начал тыкать пальцем в портрет Сталина на стене:
— Кто это?
Политический мыслитель хочет было им сказать, что только полный идиот в этой стране не знает кто это, но пересиливает себя и говорит:
— Это палач и убийца.
Ну его, натурально током шарахнули. И так сорок раз, граждане судьи. Я всё думал, что этот Чекурин потом будет бормотать «Я — К-к-кротов!», и вообще всё в своей жизни перепутает, но нет — лишь однажды он сбился, когда этот чекист-психиатр начал ему подсказывать "Это — отец…"
Политический мыслитель повторил за ним было: "Это отец…» Но собрался и продолжил: "…Всех злодеяний на земле".
Ну и опять к нему пришёл Никола Тесла.
Происходит это в другом углу всё той же избы, а в лагере идёт обычная лагерная жизнь — кто-то из зека заболел гриппом, и его привязали к странной конструкции над прорубью и стали макать до полного выздоровления. И, что интересно — макнут ногами вниз, а вытащат уже вниз головой. Гудини какой-то советский, даром что простуженный. (Как кстати, пишет молодёжь на форуме винтажного кино — " Атмосфера ГУЛАГа очень реалистична").
Наконец, сибирским чекистам это надоело (или они на электрический счётчик взглянули и в ужас пришли), и решили они не выпендриваться накормить политическим мыслителем тигрицу Сашу. А Саше ведь всё равно, как её обед относится к товарищу Сталину. Сказано — сделано, кинули политического мыслителя в клетку, но тут прискакал нарочный из города и говорит: "Сталин умер, а к нам едет сам генерал Зиров с инспекцией, чисто ревизор".
— План «Б», всех убить, сжечь в бараках! — кричит ефреторская полковница, и тут начинается форменный бардак в сумасшедшем доме. Зеки бегают взад-вперёд на фоне табличек "Баррак № 6" (через два «р», разумеется), вохровцы в них стреляют, они обратно мочат вохровцев, пархатые казаки отчего-то стреляют во всех, мудро исповедуя принцип легата Арнольда-Амальрика. Воспользовавшись суматохой сын генерала Зирова кинул политическому мыслителю совковую лопату. Я сразу понял, что теперь-то Чекурин спасён! И точно, забил политический мыслитель тигрицу лопатой, даже не поцарапался. Только сына генерала Зирова всё же застрелили, когда он лопатой кидался.
Всё сгорело, главные негодяи сбежали и политический мыслитель тупо озирается на пепелище.
Что делкать — непонятно, и орден Андрея Первозванного дадут ему не скоро.
Тут всем показывают заставку "Монреаль, 1977".
Типа, прошло четверть века. В Монреале русские сыграли вничью с канадскими хоккеистами, и ужасно этому радуются (Я подозреваю, что тут у канадцев-кинематографистов были какие-то комплексы). Однако двое из пятёрки Харламова. хотят перед отлётом потрахаться.
— Начальник, — говорят они. — Ну как же, побывать в Америке и не выебать американку? Что пацанам рассказывать будем?! Ну пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста!
И, к моему удивлению, оказывается, что за ними надзирает всё тот же политический мыслитель Чекурин. Я всегда подозревал это в диссидентах: сначала сидит за идеалы, а потом превращается в спортсмена в штатском. Итак, хоккеисты уламывают своего начальника и втроём идут в бордель (Я не поленился и поглядел сопровождающую информацию на торрентах и обнаружил прекрасное: "Волей случая хоккеисты оказываются в борделе…" Волею случая! Вот как!". Правда, в борделе бывший политический мыслитель сидит в углу и читает газету, делая вид, что всё происходящее вокруг его не касается.
Однако на мониторе его видит хозяйка борделя — конечно, та самая Ильза, бывшая полковница. Полковница, как и Чекурин, за 25 лет совершенно не изменилась.
— Хватайте его! — командует она беглым пархатым казакам, что служат ей и в Канаде (Тоже, понятно, ничуть не изменившись. Вместе они занимаются каким-то рекетом и недружественными поглощениями, спуская под лёд коммерсантов, переписав на себя их заводы и фабрики).
Чекурин их лупит почём зря, как настоящий дзюдоист-кагебешник, но его всё-таки скручивают и привязывают к стене.
Голая бандерша-полковница снова показывает ему свои сиськи (Которые за 25 лет, как и всё тут — не изменились).
Бывший политический мыслитель только плюёт ей в лицо.
Он верен своим антисисечным идеалам.
Но тут уже никакого Сталина ему не показывают, времена не те. Просто устраивают вечеринку, куда его, привязанного к каталке вывозят, на середину, и предъявляют кухонный миксер — вот, дескать, что тебе в штаны засунем. Советский мыслитель в жизни миксера не видел, боиться, но виду не подаёт.
В этот момент надо сказать, что бывшую начальницу лагеря, а теперь начальницу борделя давно пас КГБ. В Москве, на фоне окна с картонным Василием Блаженным, долго прохаживался усатый толстяк в гимнастёрке. Погоны у его тоже, разумеется, ефрейторские. Прохаживался, и разглядывал фотографии.
И груду фоток разбирала — и, как остывшую золу, брала их в руки и бросала… — бросал он их на стол с криком "Сталинская шлюха!" Я было даже решил, что у Ильзы была одна важная, но памятная связь.
По-моему, это генерал Зиров и был — тоже не изменившийся ничуть. Отрядил он в Монреаль людей верных и сметливых, но всех их поубивали, а одного так и вовсе в снегоуборочный комбайн засунули. Знала бы губернатор Матвиенко, как в Монреале улицы убирают, всем бы злопыхателям носы утёрла.
А на вечеринке — всё по плану, но как дошло дело до миксера, как занесли его над гоголь-моголем бывшего политического мыслителя, так картинка переменилась.
В монреальский приусадебный участок стали прыгать посланцы генерала Зирова. Это люди в белых маскхалатах, вооружённые пистолет-пулемётами Дегтярёва. Дальше начинается форменное безумие, опять в режиме "убивай всех, Господь признает своих". Обычно в фильмах соблюдается пропорция убитых, помогающая понять что к чему. Но тут валят всех.
Бывший политический мыслитель надел зачем-то маскхалат убитого кагебешника (халат, впрочем, был уже не белый, а, в общем-то сильно розовый) и полез на крышу. Зачем ему на крышу — непонятно совершенно, может, он просто хотел побыть Карлсоном. Посидев на крыше, он всё-таки успокоился и слез обратно.
А там бандерша с оставшимся подельником катаются вокруг дома на снегоходах. Подельник-то, бородатый казак, которому в Сибири полковница не досталась, так возбудился, когда увидел хоккейного мыслителя, что страсть!
Мгновенно развернул снегоход и вытащил из-за пазухи шашку и попёр на него, что твой Будённый. Но Чекурин тоже не промах был — приметил на краю дорожки кол в ногу толщиной (эти русские всё время колы где попало разбрасывают) — ну и проткнул подельника. Ну и правильно — с волками выть, по-волчьи сыть, а пастуху — памятник.
После этого сел бывший политический мыслитель на трофейный снегоход и ну героиню догонять.
Она уже сидит на льду канадского озера около разбитого снегохода с ридикюлем полным долларов.
— Спаси меня, — говорит. — Я тебе приказываю! Вот то, что больше всего ценят русские — настоящие баксы!
Но тот поглядел на неё, да и уехал в закатную даль.
Даже не оглянулся.
А бывшая полковница стала жечь доллары и тем греться посреди бескрайних канадских просторов. Хоть похоже на Россию, только всё же не Россия — как пел по такому случаю один отечественный бард.
Вот какие огурцы продавались в канадских магазинах.
Извините, если кого обидел.
29 января 2011
(обратно)
История про главных
Заходил Синдерюшкин.
Натурально, принялись говорить о высоком. Обсудили наше старение, взрывы, знакомых женщин, то, что везде требуются "пиздатые мужики", а мы не уверены в собственной пиздатости, даже (оглядевшись) — анатомически неуверены, обсудили сентиментальность гришковца, иронию Стенича и Блока, абулию, основные направления цивилизации, теорию струн, бурление говн, есть ли у нас политические силы, что является симптомами диабета, как поставить сетевой диск, и наконец, кто у нас главный писатель.
Чтобы не утомлять — главным писателем у нас является Виктор Пелевин.
Извините, если кого обидел.
31 января 2011
(обратно)
История про один фильм и его сценариста
Сейчас, отвлёкшись от раздумий о теории струн и судьбах России, я отчего-то принялся смотреть телевизор. Там мне показали документальный фильм про сценариста Владимира Кунина.
В этом фильме сценарист Кунин обижался на непризнание своего фильма «Сволочи». Очень эмоционально так обижался, переживал за свои творения — это ж, говорил, мои дети, которых я рождаю в муках и всё такое.
К нему поехали в Мюнхен, где он живёт, расспросить о жизни, но он попал в больницу с онкологическим диагнозом.
Впрочем, всё равно его много спрашивали жизни. А саму жизнь хвалили разные режиссёры вроде Суриковой и Рязанова.
Закадровый голос (он был совершенно замечательный, преисполненный то благородного негодования, то обиженной скорби), называл Кунина всё же «профессионально подготовленный диверсант», цитировали и телевизионное интервью Рязанову 1994 года, где он мимоходом признаётся, что был в школе пятнадцатилетних горно-альпийских диверсантов: «Из нас готовили убийц». Тут что интересно, так это то, что фильм сделан после «Сволочей», и как бы пытается Кунина отмыть, то есть, самое интересное, как в нём были расставлены акценты — всё было, а фильм испортил режиссёр.
То есть, там крутилась всё та же шарманка про то, что «… А я «отработал» в Карпатах. Потом вышли к своим, попали в фильтрационный лагерь. «Кто?», «откуда?» — а мы молчим, по-другому нельзя было. Но все обошлось. Кстати, я однажды пришел в КГБ и говорю: «Ребята, у меня срок призыва в военном билете стоит 10 мая 44-го года, я же, извините, с 4 апреля 43-го под пулями сидел!» А они мне: «Вам же сказано подписку хранить вечно — ничего не можем поделать» — это, впрочем, из другого интервью, которое до сих пор висит на «ОЗОНе».
Говорили и о том, что героя не выгнали его из училища в 1946 году, как о том сообщает справка Министерства обороны, а просто в армии в 1951 году было сокращение, и вот он демобилизовался и стал таксистом.
Потом мне рассказали, что не кажется случайным, что именно ФСБ начало кампанию против Владимира Кунина в момент выхода фильма. Ну, ясное дело, чекистский заговор.
Впрочем и сам Кунин, сказал, что во всём виноват Интернет.
А трагический голос заключил, что Кунин узнал, что у него рак, и конечно, тут нет прямой связи, но понятно, кто виноват.
Всё это мне рассказали под рефрен: «Он не позволяет себе писать о том, чего он не знает».
Это было бы всё не так интересно, если бы не две темы — вечная тема о том, что писатель должен быть погружён как в прорубь в то, что описывает. То есть, пишешь про такси, только побыв таксистом, а «Аэропорт», только если служил в Домодедово.
Вторая тема куда более молодая — в эпоху Сети мир прозрачен, и все слова остаются. Я ведь тоже вру, мы врём про то, что на колчаковских фронтах ранены, и давайте барышня, я вам шрамы покажу, все врут, нам это доктор Хаус сказал. Но Сеть всех нас должна приучить, что мы должны при этом бояться и прижимать уши.
Впрочем, я отлучился к источнику еды, а когда пришёл обратно, всё уже заканчивалось. «Вопреки злым сплетням он ездит не на последней модели БМВ, а на «Мазде», — скорбно сказал закадровый голос.
Отношусь с пониманием.
Извините, если кого обидел.
01 февраля 2011
(обратно)
История про апрельских ангелов
Только приглядевшись, Еськов понял, что его съёмщик совершенно пьян. Кто и как достал спирт, было совершенно неясно. Сам Еськов был не против пьянства, но никогда не пил с подчинёнными по их инициативе.
Это осталось у него с фронта — нельзя управлять людьми, с которыми пьёшь. Нельзя приказывать людьми, что видели тебя осоловевшим, не то чтобы даже пьяным, но просто изменившимся. Он пил со своими бойцами только на похоронах и при вручении наград — и то и другое случалось часто. Но тогда спирт уходил легко, как последнее дыхание раненых.
Спирт был короток, что военная жизнь, лишнего глотка не будет и лишнего года не дадут.
И теперь в маршруте он пить запрещал, потому что в прошлом сезоне, когда его ещё тут не было, начали пить на съёмке, и трактор ушёл в полынью, смертельный закут, и изменённые сознанием рабочие, не успев ничего сообразить, превратились в начинку для речного льда. Они лежали там как мухи в янтаре, особом северном янтаре, раскрыв рты.
И оставшимся в живых было неприятно смотреть на застывших товарищей, что приводило к падению нормы выработки.
А теперь съёмщик Сидорович был совершенно пьян, причём неизвестно по какому поводу.
— Ну? Что скажешь, Сидорович? Зачем сидишь?
— Жизнь горька, командир. Это весна, командир. Командир, это ж Ангелы летят. Погоди, я тебе не рассказывал про перелётных ангелов? Ты вот не верь, что это белолобый гусь весной над тундрой идёт, это ангелы летят.
И не с Каспия, как твои биологи говорят, а с самой океанской середины.
И не с берега турецкого, как о том нам песня поёт.
Это серые ангелы летят, открывая полярное лето. Вот ты увидишь серого ангела, оторвавшегося от стаи, он подлетит к тебе и осенит серым крылом. Это значит, что не вернёшься ты на материк никогда.
Оттого трещат над тундрой карабины, и никому не хочется допустить до себя серого ангела северной пустоты.
Или подлетит к тебе младший ангел, птица-пискулька с полосатым брюхом. Не птица это подлетит, нет. Подлетит к матросу полосатая матросская душа, подлетит с Новой Земли, с полуострова Канина или со всей Сибири.
А время это страшное, когда вскрываются русла полярных рек, это время приходит не постепенно, а разом — ступишь из балка, и видишь, что солнце прицепилось к горизонту и съело весь снег, что повсюду вылез разноцветный мох, а вокруг и вдруг живут красные камнеломки, жёлтые лютики, алые маки, голубые незабудки и фиолетовые колокольчики.
Морошка и вороника оживают, и всё это пахнет одуряюще, лишая пришлого человека воли.
А в каждой талой луже идёт короткая и страстная — на три месяца — жизнь. И уж позже, в июне, зашебуршит везде жизнь, закудахтают, загогочут перелётные ангелы, продолжая свой ангельский род.
И если надышишься запаха талой воды, напьёшься воздуха цветения без меры, тоже останешься здесь навсегда — из года в год будет нестись криво по небу солнце, и будет год что день да ночь. Одна ночь и один день — это будет тебе год. А год ляжет к году и вдосталь их не будет, оттого и рвётся сердце.
И перед смертью ляжешь ты к оранжевым лапам перелётного ангела.
— Курлык-курлык, — скажет он тебе, и ты расправишь крылья.
Извините, если кого обидел.
02 февраля 2011
(обратно)
История про День Сурка
Чую, чую — придётся мне сейчас смотреть "День сурка".
Извините, если кого обидел.
03 февраля 2011
(обратно)
История декабря
В октябре они проводили караван.
Евсюков в первый раз видел это — как, гудя, уходит последний корабль, а люди молча смотрят ему вслед. В толпе пили, передавая друг другу бутылки с женатым и неженатым спиртом. Сыпали на ветру искры папиросы, искры летели, оставляя косые красные дуги в темноте.
А потом пришёл месяц декабрь, чёрный месяц.
Евсюков выходил к океану и смотрел, как переливаются в небе разноцветные полосы.
Чёрный, чёрный месяц декабрь похож на одеяло, надвинутое мальчиком на голову.
Потому как придёт месяц декабрь, так меняется верхний мир, что чашей покрывает мир средний. А мир средний, что зовётся Ырт, становится совсем чёрным, и всё оттого что солнце зацепилось за его край.
Эти дни странные, жди беды, когда развернёт над миром, что называется Ырт, своё одеяло младший бог, а по-нашему, ангел верхнего мира. Одеяло это складчатое, в блёстках и полосах. Если оно появляется на небе, то, значит, сон ангела верхнего мира беспокоен. Беззвучно ворочается ангел на краю верхнего мира, беззвучно шевелится его одеяло, и знак это недобрый, потому что мучают ангела люди, что ведут себя неверно. Лишают своими делами они ангела покойного сна, как блохи — собаку.
Ведь все люди, что живут на свете в мире Ырт, просто снятся ангелу наверху, и как начнут люди убивать и мучить друг друга сверх обычного, так сон ангела портится. А уж если он проснётся, то зальёт мир Ырт смертный холод и остановится время.
Встанет время навсегда, и замрут люди кто как стоял. А ангел подоткнёт одеяло и снова заснёт — сном спокойным и пустым, будто большая плоская льдина.
Только не будет в этом сне никого, кроме большой рыбы, что живёт в океане и неподвластна ангелу верхнего мира.
Но пока спит ангел верхнего мира, пока он на своём месте, каждый год он ногой задевает солнце, что зацепилось за край его чёрного звёздного дома.
В крайние дни декабря сонный ангел задевает ногой солнце.
И только поэтому оно начинает всплывать в чёрной воде верхнего мира.
Извините, если кого обидел.
03 февраля 2011
(обратно)
История про типовое письмо
Дело в том, что время от времени я получаю письма от разных изданий с разными предложениями. Среди них есть особый тип предложений, суть который в том, что «давайте-мы-вас-бесплатно-напечатаем». То есть не процитируем, не дадим ссылку (про это смешно спрашивать), а именно «давайте-мы-вас-бесплатно-напечатаем», причём обычно слово «бесплатно» приходится тянуть клещами из инициаторов предложения. Спору нет, я много что делаю в жизни бесплатно, вот и сейчас, дорогая редакция… Но вовсе не всегда, теперь, благодаря очередному письму с предложением, я сформулирую типовой ответ.
Здравствуйте, уважаемая Неонила Теодоровна!
Рад получить ваше письмо, и приветствую ваше начинание. Лёгкую досаду вызывает только одна недоговорённость.
Релиз вашего журнала сообщает что «The New Blogger Review» — наиболее успешное издание на нашем рынке. То есть, ваше издание коммерческое — но вы ничего мне не пишете о размерах гонорара.
Да, если бы вы представляли журнал The New Yorker или The New York Review of Books — (только не обижайтесь пожалуйста), я бы взволновался и забыл бы спросить о деньгах. К при-меру, я иногда участвую в вовсе благотворительных акциях по сочинению чего-то, часто даю интервью почтой и журналистам ужасно нравится, что им не надо ничего расшифровывать с диктофона… И конечно, никогда и не помышляю о запрете на цитирование со ссылкой.
Но
тут не совсем такой случай. Наибольшее количество обид возникает, если о деньгах (или борзых щенках) не говорить цинично и прямо, и тогда выходит как у классика: «Он очень помнил, что выиграл много, но руками не взял ничего и, вставши из-за стола, долго стоял в положении человека, у которого нет в кармане носового платка». Вам хорошо бы разъяснить мою выгоду — весёлыми и циничными словами.
(Тут обычно следует обмен тремя-четырьмя письмами, в которых мои собеседники всегда темнят и отчего-то никак не могут произнести «да, вы должны получить удовольствие от публикации в нашей газете бесплатно»).
Я скептически отношусь бизнес-модели, построенной на том, что контент зачёрпывается из условно-бесплатного моря блогов. В том, что издание получает прибыль с подписки, розницы или рекламы, ничего позорного нет. Модель как модель, а в серьёзность бумажных газет без финансовых потоков я, честно говоря, не верю (в вашей американской версии месячная подписка $9.95, а как там с рекламным контентом, я пока не сообразил).
Нормально и то, что вам нужны хорошие, неопубликованные тексты, а не мои давние крики души, рассказы и прошлогодние рассуждения о высоком.
Однако, я оказываюсь в положении проститутки, что стоит при дороге на выданье, а к ней подъезжают и говорят: «А давайте вы без денег, просто так — вы ведь всё равно по пять раз на дню делаете минет, ну и там ментам по субботам забесплатно. Давайте мы снимем, как вы тут всё делаете, и мир узнает о вас, ваша жизнь перевернётся, и вместо того, чтобы делать это в кустах, вы станете это делать в подсобке бензоколонки». Но обычно работающие на трассе девушки мудры и убедить их в том, что так жизнь их улучшится, сложно. Они справедливо подозревают, что просто на них зарабатывают деньги — и если не сам оператор камеры, то сайт ххх. com и его владельцы. Какому писателю и продавцу букв, может и обидно сравнивать себя с честной работающей девушкой, но я вам скажу, что многие писатели-то и похуже её будут.
Я простой профессиональный продавец букв, у которого грань между публичным дневником и работой только внешне кажется стёртой.
К тому же важно, как осуществляется публикация — «как есть», или с редактурой, с корректурой, подрезкой и подгонкой. Мне, как и всем прочим, хочется видеть свой текст без искажений и ошибок (которые я сам делаю), а значит, кто-то (к примеру, я) должен потратить время на вычитку, не говоря уж о том, что некоторые тексты, увидев свет однажды, не могут быть напечатаны дважды.
Но я уважаемая Неонила Теодоровна, уже слишком долго пересказываю хорошо известные нам обоим вещи.
В любом случае я с удовольствием бы сделал для вас что-то или предоставил свои уже написанные тексты за честную трудовую копейку. Тексты, что вы отобрали, мне тоже нравятся, и я с удовольствием бы поработал над ними ещё — превращая их в полноценные статьи и колонки, чтобы напечатать у вас или в иных изданиях за сходную цену.
Буду ждать вашего ответа с надеждой на плодотворное сотрудничество.
Всегда ваш, vs
После этого мои собеседники обычно сообщают мне, что я чёрствый жмот, зазнайка и прекращают переписку.
Извините, если кого обидел.
04 февраля 2011
(обратно)
История про человека месяца
В ленте царит Обиженный Гришковец
TM
Извините, если кого обидел.
05 февраля 2011
(обратно)
История про комментаторов
А вот интересно, зачем боты комментируют древние записи. Ну типа, написал я в 2005 году о могиле Набокова, а к ней — шмяк! — комментарий: "Лужков разворовывал московский бюджет". Это зачем? То есть, смысл какой? Я сразу представляю себе какого-то ботовода — "Оставили 10.000 комментариев". Ну, допустим, он это перед зеркалом говорит, а вот как этот акт продаётся. То есть мне жутко интересна была психология человека. который платит деньги. "Оставь, пожалуйста скрытый коммент в 2005 году".
Но это так, в порядке общего удивления миром.
Вчера пришли гости — возвышенные люди. Целый автомобиль гостей — за чаем выяснилось, что мои произведения изрядно выигрывают в пересказе. Правда одна светская дама сказала, что фантасты должны убить меня за книгу о Карлсоне (Всё дело в том, что там, кроме Карлсона есть опись неких писателей-фантастов). "Точно, убить!", — сказала она и вилочка задрожала в её руке.
Извините, если кого обидел.
06 февраля 2011
(обратно)
История про снег. Заметки фенолога
Только что у меня с крыши падал снег — глыбами и крупными кусками.
А теперь снег повалил с неба — крупными хлопьями. Переживаю за таджиков, как они там, на крыше. Это чем-то мне напоминает, как я подбирал листья, упавшие с деревьев в одной воинской части под Ногинском. Только подберёшь, как подует ласковый летний ветерок, и они снова нападают. Прямо хоть бегай от дерева к дереву и тряси как грушу.
Таджиков жалко. Что им трясти?
Ещё был впечатлён одним внехудожественным обстоятельством (поскольку сейчас нельзя без Гришковца, потому что у всех уже в комнатах вместо одинокой — двойная кровать, а на стуле сидит Гришковец. Нечаянно повернёшься в сторону и снова увидишь Гришковца. Поворачивается в другую сторону — стоит третий Гришковец. Назад — еще один Гришковец. Бросишься бежать в сад, снимешь шляпу? а в шляпе ещё один Гришковец. Полезешь в карман за платком — и в кармане Гришковец; вынул из уха хлопчатую бумагу — и там сидит Гришковец…).
Так вот, прочитал диалог молодых прелестниц, что говорили: "А я вот Хаиту бы дала! А вот Гришковцу не дала! Не дала и всё!".
Я чуть не заплакал от досады — ведь этот метод оценки культуры мне совершенно не доступен. Ну вот как я могу такое использовать? "Я бы вдул"? Вот Петрушевская — я бы вдул? А вот Улицкой — ни почём бы не вдул? (Или наоборот).
Тьфу, пропасть!
Пойду кофий сготовлю.
Извините, если кого обидел.
06 февраля 2011
(обратно)
История про трусики
Беда какая-то с русской литературой — не успело народу прискучить групповое избиение Гришковца, как обиделся другой великий писатель земли русской, по совместительству гламурный редактор журнала GQ.
И вместо хронометросрача начался трусикосрач.
Ускова чморили за
микроскопические трусики, которые где-то у него возникают.
Но это какая-то давняя традиция — чморить великих русских писателей за трусики. Вот у Прилепина в прозе полно трусиков: а ведь как напишет любой писатель про
белые лёгкие трусики, или
черные невесомые трусики, так жди беды. Явятся с дрекольем, и ну охаживать. Прилепин вон еле отбился. А он-то побрутальнее Ускова будет.
А тут — целый Усков. Можно сказать, тему подали на блюде, как лисички в ресторане "Пушкин". Ату его, вымазать в кумкватном джеме и извалять в перьях.
Нет, скажу я, это нехорошо. Господа, вы — звери. Мягче надо быть. И в трусах и без трусов.
Я, конечно, знаю, как эти мысли сопрячь с тайными бытия, и как они связаны с Судьбами России, Василием Розановым и Соборностью Русской Литературы, но вы, наверное, и сами догадались как.
До свиданья, Даниил Дандан.
PS. Нет, не до свиданья. Я знал, я знал — про трусики всем в три часа ночи есть что сказать, а вот напишешь про свою книжку о Карлсоне и фантастах — хрен, никто не пишет. Надо было трусики туда вставить. Но — поздно, поздно, поздно!
Ваш Торопыжкин.
Извините, если кого обидел.
07 февраля 2011
(обратно)
История про Сталинград
Мы заговорили со стариком N о войне, и в частности, о пленных. К немецким пленным он относился с уважением.
— Видишь, — говорил он, — они совершенно не шли на сотрудничество. "Свободная Германия", это всё так, игрушки. Не шли они на сотрудничество, вовсе не шли. А когда стали возвращаться, то сразу же тех из своих, кого заподозрили в предательстве и кончали. И ты не думай, в какой-то момент им было так же тяжело как нашим — особенно после Сталинграда. Мы тогда просто не поняли, что их так много, еды-то на них не было так что сперва сталинградские друг друга ели — это потом-то устоялось. А так с уважением отношусь, я до демобилизации в сорок шестом их целый год охранял.
Я тридцать лет в немецком доме жил. Хороший дом, я там когда колонку снимал, то свастику под штукатуркой нашёл. Смелый человек строил, с уважением отношусь.
Извините, если кого обидел.
08 февраля 2011
(обратно)
История про диковины
Зачем-то узнал о существовании певца-нудиста Александр Пистолетова.
Извините, если кого обидел.
08 февраля 2011
(обратно)
История про пропорции
Совершенно не помню, кто рассказал мне эту историю, но так, или иначе — одна женщина поделилась воспоминанием о том, что в СССР не было красок для волос в тюбиках, которые нужно просто смешать. Поэтому волосы осветляли перекисью водорода. И рецептуру этого раствора нужно было рассчитывать самостоятельно. Вот почему в крашеной блондинке легко было узнать дуру — по недокрашеным или сожжёным волосам: девушка просто не умеет считать.
Итак, связка "блондинки" и "ум" имела раньше строгий ценз.
Извините, если кого обидел.
09 февраля 2011
(обратно)
История про колхозы и соратников
Всё чаще я убеждаюсь в сложности одного эстетического выбора — причём именно эстетического, а не этического.
Мы все знаем историю, рассказанную Довлатовым (это важно, что она рассказана им — потому что в сухой документальной версии она была бы мене красива), про больного Бродского, которому, чтобы развлечь, говорят, что Евтушенко с трибуны Съезда выступил против колхозов. «Если Евтушенко против колхозов, то я — за», выдыхает Бродский.
Так вот, часто рядом со мной случаются события, которые меня не то, что бы раздражают, но вызывают во мне недоумение. Потом оказывается, что ты не один такой, и люди группируются на почве раздражения — неважно к чему, к дурному поэту, напыщенному дураку, новому проекту правительства (Да, а как же — разве из Назарета может быть что хорошего), и вот рождается такой солитон, то есть уединённая волна, что движется как частица. То есть, образуется группа людей, которая существует как бы сама по себе, уже не нужно ничего проверять, а можно просто присоединиться. Потом соратники уже не извлекают ироничную мораль из того, что мы вместе нашли в быстро меняющемся человеческом море. Они гогочут, и ты понимаешь, что они ничем не отличаются от тех, над кем вы раньше подтрунивали.
Нет, объекты насмешки не стали лучше, они всё так же дураковаты и напыщенны. Но ты вдруг ощущаешь себя в одиночестве.
Нет, где-то в отдалении стоят несколько человек, не растерявших иронии и добродушия. Но между вами беснуется толпа. Это толпа хороших людей, которые хотят примкнуть. Это хорошие люди, которые, собственно, и составляют человечество.
И, на самом деле, других нет, это в каждом из нас.
И вот оказывается, что лучше с колхозами.
Извините, если кого обидел.
09 февраля 2011
(обратно)
История про лица
Мне вот ещё что было всегда интересно, так это то, жизнь частного ламброзианства в наши дни.
В те времена, когда народ не охладел ещё к шествиям и собраниям, я часто слышал от интеллигентных людей: "Да посмотрите на лица этих людей! Это ведь не лица. а рожи! Это же быдло!"
Впрочем, через неделю интеллигентные люди собирались на своё шествие, и участники первого тут же замечали: "Брат, ты гляди — ты на лица гляди, ты ж гляди, это всё сумасшедшие! Это ж не лица, а рожи!".
Я слушал всё это с некоторым ужасом — если смотреть фотографии вразброс, то можно было вполне перепутать митинги.
Я, кстати, помню, как изменялось отношение к массе незнакомых людей, в которую ты окунаешься — в школе, пионерском лагере, воинской части. Тебя, как пешку, берут за шею, и вдруг ставят среди ужасных непонятных фигур. Они похожи на людоедов, конечно. Они обступают тебя, и ты вдруг замечаешь, что и они тоже чело-то боятся.
Проходит время, и ты делишься с ними ластиками или посылками из дома. Лица твоих товарищей разглаживаются, исчезают рога и втягиваются клыки — и ты видишь, что они такие же как ты.
Меж тем эмоция вечна — вот и сейчас при мне начинали говорить о каких-то молодых девках, что стояли в аэропорту по заданию своей партии. Девки зазывали бесплатно доехать до Москвы на своём партийном транспорте, однако ж тут же я услышал, что девки похожи на проституток, хоть и с виду весьма нехороши, а лица у них глупые. Из этих девок прямо Апокалип и Сись какие-то выводили, приближение планеты смерти, что несётся к Земле и заодно — тепловую смерть Вселенной.
Ну так я скажу, что у нас у всех лица такие, что прям сразу сажай. И у тебя, дорогой читатель, ровно такое.
Ты сиди себе смирно, не рыпайся.
Не надо тебе этой физиогномики.
Извините, если кого обидел.
10 февраля 2011
(обратно)
История про Карлсона
Благодаря
petro_gulak я наново прослушал известную всем с детства
музыку. Мерв Гриффин, под именем которого её играют, был вообще чрезвычайно интересный персонаж — человек, ставший миллиардером на шоу бизнесе, помимо своего ток-шоу, всяких джинглов, придумал ещё дюжину игр — в том числе и "Колесо Фортуны", которое у нас называется "Поле чудес", "Свою игру" и что-то ещё. Не помню, что. В списке его заслуг "Интуиция" и я подозреваю, что я видел это на каком-то дециметровом канале.
Но мне рассказывали. что на самом деле Гриффин и не сочинял музыку "
House of Horrors", а собрал музыкальные заставки с разных аттракционов в Луна-парках — там, где паровозики заезжают в страшные пещеры, а также аранжировки классических произведений — типа Сен-Санса, etc. Это мне неведомо — куда интереснее то, с чего начинается эта музыка — с того, что голос с чудовищным акцентом представляется "Я — Борис Бела". Мне говорили, что это микс из Бориса Карлоффа и Белы Лугоши — для тех, кто понимает. Это, кстати, вполне тянет на вопрос для "Что? Где? Когда?".
Но у меня, как знатного карлсонознатца есть своя история с этой музыкой — разумеется, в детстве мне был доступен только её вариант из мультфильма. С авторскими правами у нас было известно как — что, впрочем, до сих пор дарит нам музыкальные детективы вроде истории с лютнистом Вавиловым. Мои школьные товарищи серьёзно уверяли меня, что эта завораживающая мелодия — похоронный марш Шопена, только пущенный наизнанку и с увеличенной скоростью. Только потом стало понятно, откуда растут ноги у этой легенды про инвертированного Шопена.
Извините, если кого обидел.
11 февраля 2011
(обратно)
История про фараона
— Тебе сложно, потому что ты в Бога не веришь. А как человек в Бога верит, так сразу оказывается, что он в домике. В самое ужасное время, в кошмарных обстоятельствах — и в домике!
Есть такая история у одного поляка, который писал про Древний Египет. Там был фараон, такой хитроумный, потому что сам был бог — просто так, по служебному положению. И вот этот фараон, потому что был бог, видел много, что не видят другие люди.
И вот фараон с изумлением увидел стаю серебристых птиц, что вылетали из храмов, дворцов, улиц, мастерских, нильских судов, деревенских лачуг, даже из рудников. Сначала каждая из них взвивалась стрелой вверх, но, повстречавшись с другой серебристой птицей, которая пересекала ей дорогу, ударяла ее изо всех сил, и обе замертво падали на землю. Это были противоречивые молитвы людей, мешавшие друг дружке вознестись к трону предвечного. И раз за разом он лучше разбирал слова молитв: вот больной молился о возвращении ему здоровья, и одновременно лекаря, который молил, чтобы его пациент болел как можно дольше; хозяин просил Амона охранять его амбар и хлеб, вор же простирал руки к небу, чтобы боги не препятствовали ему увести чужую корову и наполнить мешки чужим зерном.
Молитвы их сталкивались друг с другом, как камни, выпущенные из пращи.
Путник в пустыне падал ниц на песок, моля о северном ветре, который принес бы ему каплю воды; мореплаватель бил челом о палубу, чтобы еще неделю ветры дули с востока. Земледелец просил, чтобы скорее высохли болота; нищий рыбак — чтобы болота никогда не высыхали. Их молитвы тоже разбивались друг о дружку и не доходили до божественных ушей Амона.
Особенный шум царил над каменоломнями, где закованные в цепи каторжники с помощью клиньев, смачиваемых водой, раскалывали огромные скалы. Там партия дневных рабочих молила, чтобы спустилась ночь и можно было лечь спать, а рабочие ночной смены, которых будили надсмотрщики, били себя в грудь, моля, чтоб солнце никогда не заходило. Торговцы, покупавшие обтесанные камни, молились, чтобы в каменоломнях было как можно больше каторжников, тогда как поставщики продовольствия лежали на животе, призывая на каторжников мор, ибо это сулило кладовщикам большие выгоды. Молитвы людей из рудников тоже не долетали до неба.
На западной границе фараон увидел две армии, готовящиеся к бою. Обе лежали в песках, взывая к Амону, чтобы он уничтожил неприятеля. Ливийцы желали позора и смерти египтянам, египтяне посылали проклятия ливийцам. Молитвы тех и других, как две стаи ястребов, столкнулись над землей и упали вниз в пустыню. Амон их даже не заметил. И куда ни обращал фараон утомленный свой взор, везде было одно и то же. Крестьяне молили об отдыхе и сокращении налогов, писцы о том, чтобы росли налоги и никогда не кончалась работа. Жрецы молили Амона о продлении жизни Рамсеса XII и истреблении финикиян, мешавших им в денежных операциях; номархи призывали бога, чтобы он сохранил финикиян и благословил скорее на царство Рамсеса XIII, который умерит произвол жрецов. Голодные львы, шакалы и гиены жаждали свежей крови; олени, серны и зайцы со страхом покидали свои убежища, думая о том, как бы сохранить свою жалкую жизнь хотя бы еще на один день. Однако опыт говорил им, что и в эту ночь десяток-другой из их братии должен погибнуть, чтобы насытить хищников.
И так во всем мире царила вражда. Каждый желал того, что преисполняло страхом других. Каждый просил о благе для себя, не думая о том, что это может причинить вред ближнему.
Поэтому молитвы их, хотя и были как серебристые птицы, взвивавшиеся к небу, не достигали цели. И божественный Амон, до которого не долетала с земли ни одна молитва, опустив руки на колени, все больше углублялся в созерцание собственной божественности, а в мире продолжали царить слепой произвол и случай.
И вдруг фараон услышал женский голос:
— Ступай-ка, баловник, домой, пора на молитву.
— Сейчас! Сейчас! — ответил детский голосок.
Повелитель посмотрел туда, откуда доносились голоса, и увидел убогую мазанку писца на скотном дворе. Хозяин ее при свете заходящего солнца кончал свою дневную запись, жена его дробила камнем пшеничные зерна, чтобы испечь лепешки, а перед домом, как молодой козленок, бегал и прыгал шестилетний мальчуган, смеясь неизвестно чему.
По-видимому, его опьянял полный ароматов вечерний воздух.
— Сынок, а сынок! Иди же скорее, помолимся, — повторяла мать.
— Сейчас! Сейчас, — отвечал мальчуган, продолжая бегать и резвиться.
Наконец женщина, видя, что солнце начинает уже погружаться в пески пустыни, отложила свой камень и, выйдя во двор, поймала шалуна, как жеребенка. Тот сопротивлялся, но в конце концов подчинился матери. А та втащила его в хижину и посадила на пол, придерживая его, чтобы он опять не убежал.
— Не вертись, — сказала она. — Подбери ноги и сиди смирно, а руки сложи и подними вверх. Ах ты, нехороший ребенок!
Мальчуган знал, что ему не отвертеться от молитвы, и, чтобы поскорее вырваться опять во двор, поднял благоговейно глаза и руки к небу и тоненьким, пискливым голоском затараторил прерывающейся скороговоркой:
— Благодарю тебя, добрый бог Амон, за то, что ты сохранил сегодня отца от бед, а маме дал пшеницы на лепешки… А еще за что? За то, что создал небо и землю и ниспослал ей Нил, который приносит нам хлеб. Еще за что? Ах да, знаю! И еще благодарю тебя за то, что так хорошо на дворе, что растут цветы, поют птички и что пальма приносит сладкие финики… И за то хорошее, что ты нам подарил, пусть все тебя любят, как я, и восхваляют лучше, чем я, потому что я еще мал и меня не учили мудрости. Ну, вот и все…
— Скверный ребенок! — проворчал писец, склонившись над своей записью. — Скверный ребенок! Так небрежно славишь ты бога Амона!
Но фараон в волшебном шаре увидел нечто совсем другое. Молитва расшалившегося мальчугана жаворонком взвилась к небу и, трепеща крылышками, поднималась все выше и выше, до самого престола, где предвечный Амон, сложив на коленях руки, углубился в созерцание своего всемогущества.
Молитва вознеслась еще выше, до самых ушей бога, и продолжала петь ему тоненьким детским голоском: "И за то хорошее, что ты нам подарил, пусть все тебя любят, как я…" При этих словах углубившийся в самосозерцание бог открыл глаза, и из них пал на мир луч счастья. От неба до земли воцарилась беспредельная тишина. Прекратились всякие страдания, всякий страх, всякие обиды. Свистящая стрела повисла в воздухе, лев застыл в прыжке за ланью, занесенная дубинка не опустилась на спину раба. Больной забыл о страданиях, заблудившийся в пустыне — о голоде, узник — о цепях. Затихла буря, и остановилась волна морская, готовившаяся поглотить корабль. И на всей земле воцарился такой мир, что солнце, уже скрывшееся за горизонтом, снова подняло свой лучезарный лик.
— Ну, да. И никто не уйдёт обиженным. Как я ненавижу эти притчи, кто бы знал, как я ненавижу, когда мне это начинают парить, вся эта псевдопсихология, все эти поэтические эссе, которыми снабжают, как анекдотами, свою речь публичные психологи… Всё это ваше стругацкое-перестругацкое «счастья для всех, пусть никто не уйдёт обиженным, все эти исполнители-исполнятели желаний, при условии их выстраданности… Ненавижу, мать вашу!
Извините, если кого обидел.
14 февраля 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Можете ли лет через 5 представить себя рядом с женщиной — вашей ровесницей, или младше, но не юной? То есть не с девой- прелестницей с молодым свежим телом? Может ли быть привлекательной для вас женщина так называемого бальзаковского возраста?
— Жизнь нас учит тому, что то, как устроена голова у подруги, важнее всего остального.
Одно скажу — если вы услышите, что меня привлекли за растление малолетних, то не верьте. Я не Гумберт-Гумберт, мне лолитообразные девочки не интересны. По-моему, это последнее, самое невероятное, в чём я мог бы быть замечен. А так-то все хороши, всё полезно, что в рот полезло.
— О чем говорят в компании писателей?
— Чаще всего о деньгах. Но я редко бываю в компаниях писателей. Куда чаще я сижу за столами с математиками, буровых дел мастерами, реставраторами и верстальщиками.
— "Свои." Кто они? Среди кого вы чувствуете себя на месте, своим, сливающимся с пейзажем?
— Среди деревьев в лесу, понятное дело.
— Боитесь ли вы старения, старости?
— Старости — не очень. Я боюсь выжить из ума и болезней боюсь. Да всего боюсь — но дело в том, что мужчины больше в старости боятся, что они перестают быть мачо и красавцами. Но вот это — хрен с ним.
— Почему во времена Пушкина мало боялись смерти, судя по дуэлям, а теперь трясутся за свое здоровье (некоторые даже мечтают о воскрешении из замороженного трупа)? Когда произошел этот переход и с чем он связан?
— Да кто ж сказал-то, что мало боялись? И во времена Пушкина, и во времена Нерона боялись. И сейчас боятся — это нормально. Другое дело, что смерти больше вокруг людей было — в пушкинские времена хорошо если половина детей выживала. Представляете, как люди живут в современном мире, и спокойно (или почти спокойно — плачут, конечно, при этом) понимают, что Оленька и Сашенька выживут, а Петенька и Даша — нет. И продолжительность жизни была куда меньше, и болезни лечили мало — перелом в медицине случился только в тридцатые-сороковые годы XX века.
Ну и социальный состав выровнялся, и из социальных соображений стали меньше мучить: вон, в Англии ещё в XIX веке за украденный кусок хлеба вешали, а теперь, слава Богу, нет. Смерти стало меньше, а смерть — дело привычки.
— Есть ли в современной литературе наследники Тынянова?
— Смотря в чём: ведь Тынянов личность сборная — критик с хорошим историко-филологическим образованием, литературовед и писатель. В этом смысле синтетического существования все успешные современные писатели-журналисты — наследники Тынянова. А вот с наследованием стиля, тому строю метафор, что все они пользовали в двадцатые годы — тут сложнее. Но тут я человек заинтересованный, необъективный. Ну а в социальном смысле, в смысле кадровая позиция "исторический романист" мне такие наследники неизвестны.
— Как Вам привычка говорить "мы" от имени широких масс, узких прослоек и прочих собраний?
— Она искупается своей повсеместностью и необязательностью. Вот смотрите: когда товарищ Сталин говорил "Нам стоит присмотреться к…", было понятно, что та группа людей, что сейчас вот присмотрится — о-го-го какая значимая.
А когда сейчас какой-нибудь Синдерюшкин говорит: "Мы, интеллигенты, в беде", то его и жена не услышит.
— Народу надоели монархисты, коммунисты тоже себя не оправдали. Когда же в России настанет конец демократии, и что будет после неё?
Очень много неправды в ваших словах. Монархическая идея будоражит умы, коммунисты крепки в вере, что такое демократия — никто не знает, меж тем у неё много приверженцев, крепнут ряды анархистов, множатся кадеты и социалисты, процветают экологические партии. Жизнь непроста.
— Вот когда снишься кому-то, это так неприятно и стыдно, правда? Бог знает что там приснится, и повлиять не можешь.
— Не знаю. Мне не жалко — правда, вряд ли я снюсь широким народным массам в больших количествах.
— Ну, даже если и одному человеку снишься. С безумной логикой сна. Какой- то непорядок, полное нарушение прайвеси. Впрочем, мне приснился Фрейд. Что бы это значило?
— Я полагаю, что Фрейд многим снится. Это ему такое наказание Господне. Но я всё равно бы не стал переживать — мы ведь (если мы не герои Павича) не знаем, как и в каком виде кому-то снимся.
— Про сны добавлю. Так ведь люди рассказывают детали! И не знаешь, правда ли или ещё что-то там со мной происходило. А вопрос совсем о другом: роль случайности в вашей жизни.
— Ну, тут не поймёшь, как они рассказывают. Это ведь как тот врач из анекдота, которому старичок жаловался, что он не может, а вот сосед смог два раза за ночь. Врач сказал: "А вы ему передайте, что смогли три раза — и дело с концом". А случайности нет вовсе.
— Ничего себе — вовсе нет случайностей! Может, и стихийных бедствий нет?
— Нету. Одни Господни наказания.
— О совпадениях и их смысле можете сказать что-то?
— О совпадениях и их смысле могу сказать кое-то. Скажем то, что тема эта туманна и безбрежна.
Извините, если кого обидел.
14 февраля 2011
(обратно)
История текущих событий
Сегодня, стремясь понравится, буквально не закрывал рот. Это, как известно, приводит к обратным результатам. Надо следить за собой — это стоит записать на таких жёлтеньких листочках, что приклеивают на монитор.
Ещё стало как-то неожиданно холодно — причём — вот так: неожиданно. Хрясь! — и холодно. Я даже удивился: хрясь!
Причём сегодня на бульварах наблюдал Москву. которую мы потеряли.
Сейчас расскажу, что это такое — "Москва-которую-мы-потеряли".
Она, как ни странно, повязана с Буниным и песней "Москва златоглавая" — потому что в песне
гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные, грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка (меня всегда потрясала эта воображаемая картина), а так же
Царь-пушка державная, аромат пирогов (это чрезвычайно удачное сочетание государственности и обывательского счастья). Мне кстати, очень нравится, что во всех песенниках в середине текста этой песни честно приводится: "А тачи-тач-тару-рай-ра-ра. Тариру-рай-ра-ру-рай-ру-ра. Тариру-рай-ра-ру-рай-ру-ра. Тай-ра-ра-ра-ру-ра". Гениально, я считаю.
У Бунина-то известно что: "
Мороз, метель, на площади, против Иверской, парные голубки с бормочущими бубенчиками, на Тверской высокий электрический свет фонарей в снежных вихрях… В Большом Московском блещут люстры, разливается струнная музыка, и вот он, кинув меховое оснеженное пальто на руки швейцарам, вытирая платком мокрые от снега усы, привычно, бодро входит по красному ковру в нагретую людную залу, в говор, в запах кушаний и папирос, в суету лакеев и все покрывающие, то распутно-томные, то залихватски-бурные струнные волны"… Или: "
Не успел отворить, как она вошла и обняла его, вся холодная и нежно-душистая, в беличьей шубке, в беличьей шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет, мороза, раскрасневшегося личика и ярких зеленых глаз".
Статья, да.
Тут есть, впрочем, и петербургский мотив:
Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней.
В старинные времена девушки то и дело входили с мороза.
А вот ещё что — сегодня позвонил какой-то немолодой человек из Союза писателей и сказал, что они обновляют опись писателей. "Тот справочник… Знаете,
зелёненький… Он уже устарел" — сказал человек. Я совершенно не знал
зелёненького, но честно рассказал о себе. Когда дело дошло до адреса, то я заявил, что мой домик хотят снести, и лучше я продиктую электронный. Лучше б я этого не делал. Кажется, там из-за меня остановилась работа, и я почувствовал себя подонком.
В общем, очень неожиданно похолодало.
Прямо: хрясь!
И Царь-пушка.
Вот как неожиданно похолодало.
Извините, если кого обидел.
15 февраля 2011
(обратно)
История текущих событий
Был сегодня в аду.
Не забыть, в качестве психотерапии написать рассказ "Аппелес и черепаха".
Заметки о ностальгии.
Сталкер и гипножаба.
Салат из тунца.
Шелепин живёт на даче Сталина.
Эволюция порнографии и общая численность порноактёров.
Другой сюжет про Карлсона: Мессинг с билетом.
Пригожие девки: они нас или мы их?
Извините, если кого обидел.
16 февраля 2011
(обратно)
История про деньги
А вот, кстати, вопрос — откуда пошла традиция сворачивать некоторую сумму денег в цилиндрик, а не держать их в пачке?
Только, если можно, по существу — я-то фильмы тоже глядел, сам сворачивал, миф о наименьшем объёме помню. Плавали, да.
Извините, если кого обидел.
16 февраля 2011
(обратно)
История про бобра
Наблюдал, как старый бобёр отбивается от четырёх волков. Круто! Убили, конечно, старичка, но он им показал. Умираю, но не сдаюсь и всё такое. Причём долго бился, очень долго — волки даже повизгивали от боли.
Извините, если кого обидел.
16 февраля 2011
(обратно)
История про покинувших или желание быть Незнайкой
Проводы Евгения Гришковца их Живого Журнала превращаются во всенародный праздник — под его манифестом уже двадцать экранов комментариев.
Я начинаю опасаться, как бы Гришковца не перепутали с Масленицей и не пожгли его на какой-нибудь площади, запивая это событие сбитнем и закусывая кулебяками и расстегаями.
Собственно, манифест представляет собой удивительное откровение. К примеру «Я ощутил вкус публицистического высказывания» — какое, чёрт побери, верное наблюдение!
Но я хочу сказать не об этом.
Всякое публичное прощание теперь невольно сравнивается со знаменитым «Я устал. Я ухо-жу».
Будь я настоящим филологом, то написал бы большую монографию с названием типа «Стилистика публичного прощания: оскорблённое благородство от Ромула до Гришковца».
Удивительно интересно, как и кто публично прощался — причём имеется в виду не гётевское "Больше света!» (Впрочем, не помню, что точно он говорил перед смертью), не последние слова знаменитостей, а вот именно «Я устал, я ухожу».
То есть, скорбное доведение до сведения публики того, «улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине»…
Есть три типа публичного прощания.
Первый предполагает скорбное расставание, когда уже ничего не поправить. Он хорош для изгнанных за правду или уволенных за нерадивость.
Второй — будто призыв следовать за лидером. Он прекрасен для взбунтовавшейся редакции, что желает покинуть издателя и уже основала новый журнал: верёд, читатель, за нами, нам предстоит путешествие через расступившееся море, через пустыню, полную манной каши.
Наш случай — третий. Человек удаляется в кабинет задумчивости, будто ожидая оклика: «Нет-нет, останься. Нет, как же мы без тебя».
Этот жанр был хорошо реализован в 1565 году «3 Генваря вручили Митрополиту Иоаннову грамоту, присланную с чиновником Константином Поливановым. Государь описывал в ней все мятежи, неустройства, беззакония Боярского правления во время его малолетства; доказывал, что и Вельможи и приказные люди расхищали тогда казну, земли, поместья Государевы: радели о своем богатстве, забывая отечество; что сей дух в них не изменился; что они не перестают злодействовать: Воеводы не хотят быть защитниками Христиан, удаляются от службы, дают Хану, Литве, Немцам терзать Россию; а если Государь, движимый правосудием, объявляет гнев недостойным Боярам и чиновникам, то Митрополит и Духовенство вступаются за виновных, грубят, стужают ему. "Вследствие чего, — писал Иоанн, — не хотя терпеть ваших измен, мы от великой жалости сердца оставили Государство и поехали, куда Бог укажет нам путь».
…столица была в неописанном смятении. Все дела пресеклись; суды, Приказы, лавки, караульни опустели».
Заканчивается это известно как: «Но, — продолжал Царь, — для отца моего Митрополита Афанасия, для вас, богомольцев наших, Архиепископов и Епископов, соглашаюсь паки взять свои Государства; а на каких условиях, вы узнаете».
Но в прощании Гришковца, «Прощай ЖЖизнь! Спасибо и прощайте френды!», кстати есть привкус прощаний другого вполне литературного героя: «Он уже сам не понимал, о чем думал, и не знал, думал ли он о чем-нибудь вообще. В голове у него почему-то всё время вертелись слова песенки, которую он слышал когда-то: «Прощай, любимая береза! Прощай, дорогая со-сна!»… От этих слов ему стало как-то обидно и грустно до слез.
Незнайка между тем нажал кнопку у второй двери. Дверь так же бесшумно открылась. Не-знайка решительно шагнул в неё. Пончик машинально шагнул за ним.
— Прощай, любимая береза! — угрюмо пробормотал он. — Вот тебе и весь сказ!»…
Извините, если кого обидел.
17 февраля 2011
(обратно)
История про гипноз
А вот вопрос: если где нибудь (или в голове у кого-то из моих читателей-специалистов) сконцентрированное изложение современных взглядов на гипноз? То есть, как современная наука объясняет воздействие одного человека на другого, договорились ли о стадиях торможения, как отделяют собственно гипноз от каких-то иных способов сужения сознания?
Как там вообще-то.
Правда, я сразу оговорюсь — я людей, которым задаю такие вопросы, уважаю, и лежащие на поверхности Сети справочные тексты посмотрел.
Извините, если кого обидел.
19 февраля 2011
(обратно)
История про рисунки на полях
Отчего-то на полях сначала тетрадей, а потом рукописей я постоянно рисовал самолеты. Чаще даже — шасси. Носовую стойку, в фас и в профиль. Иногда — кусок крыла, остекление кабины. К чему всё это?
Простор для психоанализа — что-то, подталкивающее к простым и неправильным выводам.
Извините, если кого обидел.
22 февраля 2011
(обратно)
История про покойников
Нехорошо говорить о покойниках плохо, но, бесспорно, нехорошо говорить плохо лишь о недавних покойниках.
Извините, если кого обидел.
22 февраля 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
Спрашивать здесь:
http://www.formspring.me/berezin
— Пирожки или расстегаи? (Вопрос серьёзный, осуждений не бойтесь)
— А какие тут могут быть осуждения? Ведь расстегаи — частный случай пирожков, у них просто душа нараспашку.
Можно обсуждать любовь одним к расстегаям против любви других к кулебякам. Я вот и те и другие люблю, только расстегаи — это лёгкая кавалерия, жизнь их коротка, век недолог — раз-раз, с уланской атакой на вражеские танки.
А вот кулебяки — сухопутные дредноуты с прочной многослойной бронёй, это стимпанковская крепость на гусеничном ходу, царство огня и пара.
Но если приличный расстегай сейчас ещё найдёшь, то хорошая кулебяка редка — они, по большей части пересушены.
— Вы читали "Дневники Зевса" Мориса Дрюона? Что думаете о книге?
— Честно говоря — нет, не читал (И тут хорошо бы закончить ответ, но я объясню свои мотивы). Дело в том, что с детства мне кажется, что Дрюон — довольно скучный писатель. Это, да ещё и наложенное на тему (с которой мало кто справлялся, вообще-то), и сделало дело. Вот что я думаю об этой книге.
— А Курильские острова — чьи-всё таки?
— …где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь.
Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь?
(Иов, 38, 4)
— А все равно, кто краше и полезнее — худые или полные, со вторым размером или с пятым? И как вам мнение, что устройство головы подруги зависит от размера её груди?
— Мне это мнение чуждо.
— Чтобы самозванцы в ЖЖ не интриговали, продолжим наши игры. Нравятся ли вам записные книжки Вяземского?
— Интриг не заметил, а записные книжки очень нравятся. Там несколько бонмо, что введены в оборот именно Вяземским, а не нашими современниками. К примеру, есть одно известное выражение, которое приписывалось Микояну, который отправился с одной правительственной дачи на свою, рядом стоящую — причём в дождь. Ему предлагали зонт — "Я пойду между струй", ответил он. И вот несколько изданий считают его автором этой фразы. Меж тем, Вяземский пишет: "Есть лгуны, которых совестно называть лгунами: они своего рода поэты, и часто в них более воображения, нежели в присяжных поэтах. Возьмите, например, князя Ц. Во время проливного дождя является он к приятелю. "Ты в карете?" — спрашивают его. "Нет, я пришел пешком". — "Да как же ты вовсе не промок?" — "О, — отвечает он, — я умею очень ловко пробираться между каплями дождя".
Извините, если кого обидел.
23 февраля 2011
(обратно)
История про одну цитату
Сегодня в ящик личных сообщений обнаружил кучу однотипных посланий от разноимённых ботов.
Все они предлагали заняться самоусовершенствованием.
Стиль изложения чрезвычайно напоминал одну цитату (Собственно, это моя любимая цитата). Человек моего круга и моих привычек легко вспомнит, откуда она. Вопрос лёгкий.
"Если вас интересуют такие вопросы как существование души, существование Бога, смысл жизни, что делать, кто виноват, как уклониться от призыва в армию, как получить непыльную и денежную работу, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной, как отбить подружку у приятеля, как получать долгие и интенсивные оргазмы до восьмидесяти лет, как завоевать мир за восемь часов пятнадцать минут, как покончить с собой, чтобы позавидовали все друзья — приходите завтра вечером на Собрание, где наш гуру подробно осветит всё вышеперечисленное и не только эти проблемы. Будем играть хорошая музыка. Клёвая еда и выпивка — обеспечены. Приходите, не пожалеете".
Извините, если кого обидел.
23 февраля 2011
(обратно)
История про одну библиотеку
А вот и другой корреспондент оставил мне в ящике личных сообщений письмо: «Добрый день, меня зовут Иван, мне очень понравилось как вы пишите в своем блоге, ваш стиль написания статей, а также умение вести свой дневник. У меня к вам вопрос — не хотели бы вы написать статью о электронной библиотеке со ссылкой на нее, в своем блоге или блогах? Не обязательно именно о библиотеке, можно о какой нибудь книге прочтенной вами ранее. Предложение не коммерческое, так как финансовых средств пока библиотека не приносит, а то что она собирает, тратится на ее развитие. Если вы хотели бы помочь с написанием обзоров напишите мне на почту пожалуйста *******@yandex.ru ну или в ЛС. Все посты останутся у вас на вашем блоге. Если у вас есть другие блоги — я также буду очень рад, если вы опубликуете статьи туда. Заранее благодарен за любой ответ каким бы он ни был, спасибо! В принципе не важно что напишите, не обязательно супер пост литературным языком. Это может быть просто рецензия на какую нибудь книгу или просто что то о библиотеках электронных. Лишь бы была ссылка с вашего блога в тексте на сайт… Электронная библиотека www.all-library.com посмотрите… Если есть еще блоги или твиттер можете и там упомянуть, буду ждать ссылки на ваше творение… Спасибо огромное».
Что мне сказать? В этом случае я всего лишь орудие Божьего промысла, а ведь Господь наказывает нас тем, что наши желания сбываются буквально. Вот и я, спросив адрес библиотеки, задал вопрос как там, дескать, с авторскими правами? После чего мой собеседник перестал мне отвечать.
Так вот, находясь в подчинении Божьей воле, я должен исполнить вашу просьбу, как бы вы ни хотели обратного.
Во-первых, эта рассылка удивительная иллюстрация к анекдоту про чукотский вирус, который представляет собой письмо с приэттаченым файлом, в тексте которого говорится: «Здравствуйте, я чукотский вирус. Мы пока плохо пишем вирусы, так что не могли бы вы сначала отключить ваши антивирусные программы, а потом сохранить прикреплённый файл в директории Program files, а потом
разархивировать там. После чего нажмите пожалуйста, иконку Install. Спасибо».
Во-вторых, я посмотрел вашу библиотеку. Должен сказать вам (если вы об этом не догадываетесь — ведь всяко бывает) и потенциальным любопытствующим, что этот сайт — унылое говно. То есть, это тривиальная свалка ссылок на разнообразный неструктурированный контент, причём неудобный в использовании. Контент безумный — от книг и фильмов до софта и вопросов ЕГЭ. Я видел довольно много сайтов такого рода, и некоторым даже удивился — но это были редкие результаты остроумного подхода талантливых людей.
А тут никакого удивления нет — тривиальная пиратская библиотека, в которой я даже обнаружил свои тексты. Нет, не подумайте, я вовсе этим не раздражён, просто хотел вам указать, что чрезвычайно дурной тон: распространяя пиратские копии, при этом ещё требовать регистрации на сайте. Это и некрасиво и недальновидно.
Всякая библиотека такого рода живёт (и приносит доход) постольку, поскольку в ней есть какая изюминка — ну вот если это порнобиблиотека со справочником, или сайт частных рецензий (поверьте, я знаю такие). То, что я вижу у вас на сайте — обычное говно, вполне унылое. Типовое, я бы сказал.
Но не всё ещё потеряно. Если, кстати, вы задумаете создать порнобиблиотеку я мог бы вас проконсультировать.
Извините, если кого обидел.
23 февраля 2011
(обратно)
История про падающих людей
Вот, по-моему, совершенно
чудесное разглядывание картин — именно за это я и люблю Живой Журнал? за умных людей. Умный человек ведь отличается зрением — видит разные мелочи, мимо которых прочие проходят.
Извините, если кого обидел.
24 февраля 2011
(обратно)
История про то, как сик транзит, глория-то, извините, мунди
— Кстати, о процентщицах. Посетил станцию метро «Достоевская», и убедился в том, что Гаев мой кумир. Он всё-таки чрезвычайно удачно продал душу дьяволу. Восстановленная мозаика со сталинским гимном на «Курской», теперь вот эта мозаика…
— Гаев масон, это все знают. Он из тайного Общества Ткачей.
— Он гений, точно. Чувство эстетики, своевременности и административная грация у него безупречны. Надо написать про него роман.
— Напиши, коль не боишься. Я как-то написал про Чубайса, и меня даже почти не преследовали наемные убийцы. Зато сколько удовольствия.
— Ну, тут видишь ли, разница. Чубайс — ветреник. То волейбол на Сретенке, то электричество, а то ему орден вручают за многолетний труд на нанотехнологических нивах. А вот Гаев — крот. Знает своё подземное место, не кричит попусту «Кто накакал мне на голову». Никакой дурацкий Квачков ничего ему не сделает. И даже не от того, что убоится, а просто в мысли не придёт.
Извините, если кого обидел.
24 февраля 2011
(обратно)
История про быстротекущую жизнь
Когда долго существуешь в каком-нибудь социальном качестве, то обнаруживаются различные поводы для сравнений.
К примеру, возникают разные наблюдения о Живом Журнале.
Вот в тот год, когда мне подарили код для аккаунта, можно было хвалиться количеством подписчиков. Теперь меня каждый день включает в свою ленту три пустых журнала, а один — покидает.
Если не помереть раньше времени, то ты видишь удивительные перемены в самой среде твоего обитания.
Я помню какие-то удивительные истории рассказанные людьми лет десять назад — вот девушка откровенно рассказывает. как изменяет своему богатому мужу-придурку, и вдруг дневник обрывается. Утонула? Случайно разбилась на машине?
Или бравый бандит — что с ним стало, шьёт варежки? Закатан в фундамент своей дачи вместе с ноутбуком?
Первый электронный труп, первая электронная любовь.
То, что казалось стильным тогда, выглядит сейчас как мужские расклёшеные джинсы и бачки восьмидесятых на нынешнем старичке.
Гордились числами и количествами — боты в пятнадцать минут нагоняют эти параметры.
А какие были драмы! Ты добавил Митю, как ты посмел, ты сам черносотенец, а сначала ты мне казался милым. Прочь-прочь!
Теперь всё перемешалось и ленты стали циничными удовлетворителями.
Злотые времена во всяком явлении — очень странная штука. Когда было золотое время Серебряного века? В 1910? Или, всё-таки в 1970? Вдруг окажется, что издали Серебряный век был куда приличнее. Что спустя полвека он был прекрасен, а в реальном мире — удивительно пошл. И счастье тем старичкам, которые дожили до Ренессанса — они получили гешефт и за себя, и, на всякий случай, за мёртвых.
В общем, как гласит старая истина — если достаточно долго ждать, то ты ощутишь, как ты приподнялся и плывёшь над дорогой, а мимо тебя движется дом врага.
Извините, если кого обидел.
26 февраля 2011
(обратно)
История про рекламу
Ещё мне нравится седой благородный мужчина. что рекламирует шоколад.
Он, наверное, бывший полковник, и, выйдя в отставку он сохранил привычку к хорошим костюмам и тщательно выглаженным рубашкам.
Он ходит по бабам с шоколадным набором будто коробейник. и наверняка знает, что его надинамят и в этот раз. И верно, с первыми звуками блюзовой музычки. бабы убегают с шоколадом.
Он так и знал.
И тогда он улыбается горькой улыбкой как Гарибальди, которого гонят за излишнюю любовь к родине.
Он, собственно так и знал.
Извините, если кого обидел.
27 февраля 2011
(обратно)
История про Диалог CVI
— Я знаю правильный комментарий: «Блин!»
— Да. Но его нужно переписать 25 раз и отправить друзьям. Только тогда можно надеяться, что вам завтра утром подадут в постель стопку блинов со щучьей икрой.
— Почему с щучьей?! Это волюнтаризм. Я специально указывала, что с красной. Я же писала во все инстанции, чтобы не ниже кетовой!
— Не брезгуйте щучьей. Вас могут услышать.
— В смысле? Привезут блины с щучьей? Да у меня вообще вся семья куда-то пропала. Я сижу одна, как Золушка — ни блинов, ни икры, ни волшебной щуки.
— А пионэры?
Извините, если кого обидел.
28 февраля 2011
(обратно)
История про весну
Ну что, дожили до весны.
Извините, если кого обидел.
01 марта 2011
(обратно)
История про весну

— А знаешь, — вдруг сказал он. — Давай посмотрим, что там, в твоей посылке? Интересно ведь!
— Да иди ты к бую, — сказал я. — Ты понимаешь, что говоришь? Тебе забава, а я потом не отмоюсь, может.
Он обиделся, и в тот день мы больше не читали.
Начал моросить противный мартовский дождь. Вот она, весна, — впрочем, я старался не жаловаться, ведь чаще всего именно когда заходит речь о погоде, люди наполняют вою речь жалобами и предложениями. Когда холодно и ясно, они жалуются на холод, когда наступит летняя жара — на жару. Манят дождь, а как дождь зарядит,
неблагодарные пайщики требуют великую сушь. Гибрид персонажей Искандера с персонажем Олейникова. Как изменится что — так и жалуются. Как поплывут зимние какашки по улицам, как увидим, кто где срал, так вновь заплачут любители психотерапевтического выговаривания. И опять потянутся жалобы, начнутся слёзы в буквах. Нет, уроды, нечего вам жаловаться. Хрен вам в грызло. Не гневите Бога. Нет, я знаю, что всё равно вы будете ныть, высчитывая градусы и миллиметры ртутных столбов, хотя, как я знаю, среди вас нет угрюмых мужиков, копошащихся в яме с дырявыми трубами теплоцентрали или там часовых, мёрзнущих у братских могил. Напрасно я это говорю, ведь всё равно ничего не изменится. Я и сам знаю, но это как писал мой любимый Шкловский: «Мне скажут, что это к делу не относится, а мне-то какое дело. Я-то должен носить все это в душе?»…
И тут же, ожидая машины, в которой увезёт нас Елпидифор Сергеевич отсюда куда подальше, я начал жаловаться. Дождь поливал подмосковную землю, стучал по жестяной крыше.
Ну что за весна, что за ужас? — так я собрался сказать, но вдруг заснул и во сне уже поднялся, обхватил руками проклятый свёрток с иностранной посылкой, сел в приехавшую машину, привалился к плечу Синдерюшкина и сладко зачмокал, покрутив носом.
А вот не заснул бы я тогда — попросил бы вовремя остановить машину и к ночи попал домой, а не в совершенно непонятное, странное место.
Извините, если кого обидел.
01 марта 2011
(обратно)
История про тафономию
Евсюков лежал на койке в общежитии, и сверху над ним висел чёрный блин репродуктора.
Чёрнота доверительно говорила с Евсюковым.
— …И в том и в другом случае наука перестает быть наукой, или превращаясь в беспочвенные умствования, или же схоластически и неверно освещая сложные и противоречивые явления с какой-то одной стороны. Указанные особенности палеонтологии приводят к тому, что при формальном, безидейном развитии исследований, разрыв между двумя основными способами подхода к вымершим организмам усугубляется и приходит в тупик, в противоречие с теми возможностями, какими вообще располагает данная наука. Такое состояние характерно в настоящий момент для зарубежной палеонтологии. Там исследователи или хватаются за формулы морганистской генетики, ища в них выхода и не считаясь совершенно с конкретным фоном геологической истории, или же объявляют палеонтологию "жалкой" наукой, пригодной только для того, чтобы помогать геологам устанавливать последовательность напластования горных пород, составлять геологические разрезы.
Евсюков слушал чёрную тарелку внимательно, как демона из другого мира. Вдруг чёрный круг издал такой звук, который получается, когда на раскалённую сковородку случайно плеснуть воды. Но это был мужественный прибор, и, оправившись, он закончил:
— И то и другое направление сходятся в общем тупике признания непознаваемости мира, бессилия науки дать материалистическое объяснение всей великой восходящей лестнице развития живых существ. Диалектическая марксистская философия дает советской палеонтологии, как и всем другим наукам, возможность избежать тупиков формального мышления и схоластики.
Ср.
“Сверкающее кольцо казачьих сабель под утро распалось на мгновение на севере, подрезанное горячими струйками пулемёта, и в щель прорвался лихорадочно, последним напором, малиновый комиссар Евсюков”.
…На спине у Евсюкова перекрещиваются ремни боевого снаряжения буквой Х, и кажется, если повернётся комиссар передом, должна появиться буква В (Христос Воскресе). Но этого нет. В Пасху, Христа Евсюков не верит. Верит в Советы, в Интернационал, в чеку и тяжёлый воронёный наган в узловатых и крепких пальцах”.</i>
Извините, если кого обидел.
01 марта 2011
(обратно)
История по ходу календаря
Честно говоря, история первомартовцев для меня куда трагичнее, чем все эсэовские дела и даже метания интеллигенции между Омским правительством и большевиками.
Потому что она — ближе. Сытое, в общем-то стабильное общество, покушения как романтический спорт, одухотворённые лица на дагерротипах и заунывное пение Александра Городницкого "Улица Желябова, улица Перовской".
Причём в этой истории, как на картинке с зародышем в медицинском учебнике, видно всё — и убитые дети, и бессмысленность, и неповоротливое государство, что не может никого защитить, даже себя, и неправота всех, и кровь, и снег. Младенец растёт, увеличивается в размере, но сохраняет свою суть.
А во достойные люди говорят, что если спросить двадцатилетних, так для них первое марта — день убийства Листьева.
Извините, если кого обидел.
01 марта 2011
(обратно)
История в ночном
А не заняться ли мне ночным обжорством? Надо же счастья, а? надо?
Извините, если кого обидел.
02 марта 2011
(обратно)
История про день писателя
Сегодня — день писателя.
Я вам по этому поводу вот что скажу: нет более востребованного нынче писателя, чем Даниил Хармс. Любое событие современной жизни я могу предварить цитатой из него.
Вы уже догадались, какой эпиграф можно взять из него к сегодняшнему празднику? Да?
Ну, конечно — это знаменитый текст: «Четыре иллюстрации того, как новая идея огорашивает человека, к ней неподготовленного».
Извините, если кого обидел.
03 марта 2011
(обратно)
История про писателя Наумова
Посетил премию Белкина.
Премию дали Мамедову.
Отнёсся он к этому удивительно хладнокровно — вот что значит настоящий писатель.
После премии Белкина был приглашён к писателю Наумову.
Писатель Наумов шёл по улице, делая большие шаги своими длинными ногами.
Я бежал за ним, звеня и подпрыгивая, как достоевский пятак.
Когда я совсем не поспевал, то катился колобком по мартовскому льду.
Дети писателя Наумова расчищали дорогу и лупили зазевавшихся прохожих по головам дипломом своего отца.
профессор Бак смотрел на нас издали и говорил: "Какая редкость всё-таки среди писателей такая дружная семья".
А дома у писателя Наумова дома блины толщиной в палец.
Это было мне утешение.
Извините, если кого обидел.
03 марта 2011
(обратно)
История про Фейсбук
Знаете что, дорогие друзья? Если вы отвечаете на какие-то остроумные, так сказать, вопросы про меня в одном из приложений facebook, то лучше расскажите мне об этом сами. Вдруг там что интересное.
Я всё равно прочитать этого не могу.
А то facebook ко мне лезет с уведомлениями, и в какой-то момент разозлит этим настолько, что я просто зачищу отвечателей.
Извините, если кого обидел.
04 марта 2011
(обратно)
История про стихи
По-моему самым упоминаемым стихотворением в телевизоре этой весной будет гениальное:
А я люблю когда весною
Берёзы в роще шелестят
И я весеннюю порою
Всё жду тебя, тебя, тебя…
Извините, если кого обидел.
05 марта 2011
(обратно)
История про март
…Но всё же в атмосфере происходили какие-то изменения. Настал март.
Однажды вечером я пошёл к Белорусскому вокзалу, по слякотным улицам к мосту, под которым начиналась толкучка, где стояли белорусы с сумками. Из сумок высовывались связки сарделек, и росли голые стволы колбас.
А ещё в этих сумках жили мокрые пачки творога, из них извлекались белые пакеты, а на пакетах было написано: «СМЯТАНА». А ещё из этих сумок доставали сыр, более похожий на брынзу, и суетились вокруг всего этого городские жители.
Дальше толклись московские старушки с батонами сервелата, хрустящим картофелем, пивом да водкой, ещё дальше стояли вереницей ларьки с дешёвым спиртом, шоколадом и бритвенными лезвиями. Из них неслась то резкая и хриплая, то заунывная, тоскливая и безрадостная музыка, электронная музыка большого города — и я шёл мимо неё.
Это был шум времени, он цеплял меня за ноги, хлюпал в промокших ботинках, колотился в уши, мешал думать.
Оскальзывался между продрогшими старухами народ, обтекал провинциала с колёсной сумкой, затравленно глядевшего вокруг.
Падал провинциал за дубовую дверь метро, чтобы выбраться уже на другом вокзале, Курском или Ярославском, где тоже толчея, где к ночи жгли костры и плясали вокруг них языческий танец. Где трепались на ветру голые ноги с обложки порнографического журнала. Где в лютую стужу продавали мороженое и пиво со льдом внутри. Где милиционеры уже не ходили влюблёнными парами, а сбивались в волчьи стаи.
На шеях у них болтались короткие автоматы, и хмуры были их лица.
И последнее, что видел приезжий, сжав зубами свою бурлацкую лямку, был кроваво-красный закат от рекламы SAMSUNG или SONY…
Мелкие события теснили мою жизнь, загоняя её в предначертанное кем-то русло. Детали этой жизни, чужие взгляды, слова незнакомых людей, унесённые и донесённые ветром, обрывки сообщений догоняли меня — словно требовали сопереживания.
Время шумело, ревело, пело на своём языке — языке времени.
А я был этому — свидетелем.
Шёл идиотский мартовский снег. Время от времени его смывало дождём.
Однажды такой дождь шёл всю ночь, и с шумом падали в темноте снежные глыбы с крыши.
Соседи сверху веселились, звенели бутылками, а потом ссорились — чуть ли не дрались. Казалось, что время от времени они выкидывают гостей из окна.
Мокрые снежные комья всё падали и падали, тяжело ударяясь о козырьки подъездов и крыши железных гаражей.
Через два дня снова пошёл снег, и всё повторилось.
А потом навалился апрель. Я глядел на апрель и вспоминал фразу из чужих дневников: «Просто ходил в лес смотреть на апрель, исследовать его свойства».
Извините, если кого обидел.
06 марта 2011
(обратно)
История о времяпровождении
Полвечера говорили с Б. о жизни, смерти и фисташках.
Правильно, я считаю, поговорили — в мире-то, в общем больше и нет ничего.
Извините, если кого обидел.
08 марта 2011
(обратно)
История о делании и не делании (давнишняя)
Самое главное в тот момент, когда ждёшь чего-то важного, не что-то делать, а кое-что не делать. Вот что написано по этому поводу давным-давно:
«Сейчас я накрою Джафара этим одеялом и прочту молитву.
А все вы, и Джафар в том числе, должны, закрыв глаза, повторять эту молитву за мной. И когда я сниму одеяло, Джафар будет уже исцелён. Но я должен предупредить вас об одном необычайно важном условии, и если кто-нибудь нарушит это условие, то Джафар останется неисцеленным. Слушайте внимательно и запоминайте.
Родственники молчали, готовые слушать и запоминать.
— Когда вы будете повторять за мною слова молитвы, — раздельно и громко сказал Ходжа Насреддин, — ни один из вас, ни тем более сам Джафар, не должен думать об обезьяне! Если кто-нибудь из вас начнет думать о ней или, что ещё хуже, представлять её себе в своём воображении — с хвостом, красным задом, отвратительной мордой и жёлтыми клыками — тогда, конечно, никакого исцеления не будет и не может быть, ибо свершение благочестивого дела несовместимо с мыслями о столь гнусном существе, как обезьяна. Вы поняли меня»?
Извините, если кого обидел.
11 марта 2011
(обратно)
История (давняя) про старпёров
Вот интересно — «старпёром» я привык в детстве называть старшего пионерского вожатого, а многие считают, что это «старый пердун».
Нет, конечно, нам тогда казалось (не без оснований), что часть старших пионерских вожатых была пердунами, да ещё и старыми. Утончённые люди продполагали, впрочем, что понятие восходит к star père — но, увы.
Я помню свой пионерский лагерь — и, сдаётся мне, это было ещё и видовое название.
Одна девушка, услышав это, сказала, что была всегда уверена, что «вожатый»; но бабушка — её бабушка! — использует это слово для характеристики старикашек в транспорте, следовательно — никаких пионерских предводителей в виду не имеет.
Я заметил саркастически, что, кажется, мы присутствуем при этимологической трагедии.
Нам-то что — нам, кто считал, что за таинственной вывеской "Плиссе-гофре" в одном подъезде на улице Горького скрывается тайный публичный дом. Табличка была маленькая, но медная, хорошо начищенная.
Извините, если кого обидел.
11 марта 2011
(обратно)
История о публичности
Чтобы случайно сказанное не пропало, я, пожалуй, запишу его сюда.
Рассуждение о публичности — одно из самых интересных рассуждений.
Особенно, если речь идёт о публичности в Сети.
А в Сети нынче все, и всех это касается. У всех есть что-то интимное, и почитай, у большинства никаких других ценностей у них нет.
Во-первых, при моей профессии чем больше скандала, тем лучше. Другое дело, что мне это скучно и неприятно, поэтому — чёрт с ней, с профессией, с этими продвижениями книг на рынок и персональной известностью. Иногда литературу сравнивают с журналистикой, и считается что публичность помогает журналисту. (Я-то не совсем журналист — даже совсем не, хотя эту самую журналистику преподавал и большую часть своих денег заработал прикрываясь именно этим названием). "Журналистика" сейчас — это огромная сфера, которая включает в себя половину человечества — это вроде как сто лет назад почти все шофёры были профессионалами, а теперь машину водят все. (Хотя профессионалы, конечно, тоже есть). И вот статьи, сообщения, манифесты и обращения пишут все. Но и среди занимающихся этим постоянно есть огромное количество непубличных журналистов: от биржевых аналитиков до no-name корреспондентов, от критиков, что сидят в своих норах, до написателей женских журналов. Кто требует публичности от написателя миллионной по счёту статьи о диетах в журнале "Сиськи и попы"? Да никто. Публичность наступает в крайнем случае — если это колумнист, который совершает определённые публичные действия, а потом о них докладывает. Вот была такая, ныне забытая журналистка Даша Асламова, которая стала известна на том, что рассказывала с кем и как переспала. (Она писала так же и о локальных войнах, но в том же ключе — я правда не знаю, как сложилась её жизнь, но надеюсь, что она здорова и счастлива).
Так вот это — публичность.
Но её можно вполне профессионально избежать.
Во-вторых, а Сети у меня изначально была установка на публичность (ни одной записи под замком, и осознание того, что "что знают двое, то знает и свинья").
Поэтому работает два типа внутренней цензуры.
Один из них — ответственность перед работодателем: то есть, если я пишу статью для глянцевого журнала, то не издеваюсь над тупостью заказчика. Даже если он меня приводит в бешенство — эти эмоции должны быть исключены из публичного оборота.
Что, собственно, цензурировать? Как правило, это не PIN-коды и не секреты Генерального штаба. Цензурировать нужно злость и хвастовство, собственное психотерапевтическое выговаривание. Но я за собой замечаю некоторую свою безжалостность в публичном пространстве, когда я сталкиваюсь с глупостью и агрессией.
Если бы я был добрым христианином, то я погасил бы в себе раздражение, но я не весьма добрый христианин.
И я считаю, что пограничное пространство блогосферы — это такая лемовская "бесильня", где можно, в отличие от обычной жизни позволить людям чуть больше. Чуть-чуть, сразу остановится, но всё же позволить. И тут как раз срабатывает цензура — то есть, приличия, нравственность не привязаны к выгоде. Это плод не морали, а рассчёта. Примерно, как требование в самолёте сначала надеть кислородную маску на себя, а только потом уж на ребёнка.
Другой вид цензуры есть, и он куда интереснее — это просьба эмоциональной помощи — я один в доме, у меня депрессия, поговорите кто-нибудь со мной и всё такое. Или внутрисемейное дело, когда к ссоре, разрыву или прочим коллизиям подключается сообщество. И вот тут, конечно, никогда не говори никогда, но десять лет у меня получается держаться. И дело не в определённом кодексе, а к тому, что публичность в этом деле — вроде очень сильного лекарства с очень сильным побочным действием.
То есть, от приступа депрессии ты спасёшься, но неизвестно, чем это тебе аукнется через год-два. Ну многое другое может произойти.
Извините, если кого обидел.
11 марта 2011
(обратно)
История про ночь
Интересно ночью, пустынно. Только забежит какой-то одинокий бот-порнограф, неловкий как садовый клоп.
Сайт "Одноклассники" при этом бодро сообщает: "День работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России" и тут же, ухмыльнувшись, предлагает:
Поздравить друзей
Извините, если кого обидел.
12 марта 2011
(обратно)
История про отрывок из старого письма в иностранный город Х
"…Прочитал, между прочим, в «….» стихотворение, правда, без фамилии автора:
Взывают они к трудовому народу,
Всегда презиравшие труд.
Едят нашу кашу и пьют нашу воду,
А песни не наши поют.
Откройте же им ворота и границы,
Оформите визы скорей.
Не может из них всё равно получиться
Радетелей и сыновей.
Поймем их заботу, поймем их измену,
Икоркой в дорогу снабдим.
За них отстоим сверхурочную смену,
И вахту, крепясь, отстоим.
Зато будем помнить и знать, что отныне —
На всё по-бесовски горазд —
Никто у младенца кусок не отнимет
И матерь свою не продаст".
Извините, если кого обидел.
13 марта 2011
(обратно)
История про президентов
Много лет назад, роясь в отвалах одного литературного конкурса, я нашёл чудесный текст. Это, без преувеличения, великое произведение, я бы даже сказал провидческое — ведь оно написано в 1999 или 2000 году. Я, к сожалению, ничего не знаю об авторе, но уверен, что судьба его сложилась удачно и он занял достойное положение в обществе.
ДВА ПРЕЗИДЕНТА
[5]
— Чернышёва, к доске, № 249 б).
[6] Захар, кончай болтать.
— Пишу я, Лариса Георгиевна, пишу…
Но Захар Романов в этот момент даже и не делал вид, что пишет. Думал он только об Ольге Чернышёвой, которая стояла от доски.
— Заха-ар, — прервал его мечтания голос учительницы, — по-моему нужно вызывать твоих родителей в школу.
— Да ладно, Лариса Васильевна, до конца урока минута осталась.
— Этого времени мне как раз хватит, чтобы написать замечание. Давай дневник… А ты, Чернышёва, решай, решай…
Наконец-то спасительный звонок… А на следующем уроке можно было и отдохнуть — география. Дело в том, что Захар был любимчиком у Анны Викторовны, которая вела этот предмет. Из-за этого он часто конфликтовал со Славой Валерьяновым, который знал географию гораздо лучше Захара. Этот день опять закончился дракой между ними, поскольку за контрольную Захар, который списал с учебника, получил «5», а Слава получил «4». Захар опять ушёл домой побитым, но на следующий день его друзья-старшеклассники избили Славу. Он поклялся отомстить. С тех пор отношения между одноклассниками окончательно испортились…
Тем не менее им пришлось пришлось поселиться в одном номере в гостинице, когда они ездили в Санкт-Петербург в следующем году. Здесь они устроили небольшой праздник и весь вечер рассказывали друг другу разные истории из своей жизни (рассказывал в основном Захар), хотя каждый считал другого ниже своего достоинства. Здесь Слава узнал, что Захар без ума от Оли Чернышёвой…
По окончании школы их пути разошлись: оба поступили в престижные университеты — Слава в МГУ, а Захар (его родители были богаты) — в Оксфорд.
***
— И кто же сегодня на первом месте? Уже шестую неделю подряд его занимает Вячеслав Валерьянов с песенкой «Золотой мираж». Надо же, всего лишь месяц его никто не знал, а сейчас этот 27-летний певец творит чудеса… Ладно, с вами была Татьяна Костина и хит-парад «20 песен недели». Смотрите нас через неделю. А сейчас «Золотой мираж»
[7] в исполнении Валерьянова. Слушаем….
Эта песня уже известного нам Вячеслава Валерьянова стала хитом во всём мире, его стали приглашать на все фестивали и праздники. Он стал президентом многих финансовых компаний, владел 2 журналами, руководил одним из российских дециметровых каналов, играл большую роль во всём мире. У него был один из самых больших автомобилей в мире, дома в Испании, Франции, Португалии, Греции, США, свыше 70 телохранителей.
[8]
Захар Романов, живший в Англии, знал об успехах своего «школьного друга» и ненавидел его всё сильнее.
***
— Пап, ну почему ты не хочешь? А вдруг выберут. И ещё 4
[9] года безбедной жизни.
— Да кому я нужен… 70-летний старик.
— Но ведь были президенты и постарше тебя.
— А ты знаешь, насколько я популярен в народе? Всего 12 %, а у Разумного — почти 35… Зачем я его премьером сделал…
— Точнее зачем ты его потом снял…?
— Да уж. У него было всего 10 % против моих 50.
— А после его рейтинг стал расти: 14 против 42, 21 против 36, затем поровну: 29 на 29, потом 32 против 16, и вот, 35 против 12 %.
Такой разговор происходил между президентом России и его сыном, премьер-министром.
[10] Действительно, до выборов оставалось всего полгода, но рейтинг нынешнего президента стремительно падал, а у его главного соперника, бывшего премьер-министра Сергея Разумного, рос. Дело в том, что будучи премьером, Разумный провёл много реформ: уменьшил налоги, увеличил пенсии и т. д. Когда рейтинги президента и премьера совпали, Разумный был отправлен в отставку, а премьер-министром стал сын президента Савелий Степанович Никаноров. Экс-премьер Разумный создал свою партию и прошёл в Государственную Думу, его рейтинг рос, он сообщил о своём намерениии баллотироваться в президенты.
***
[11]
Тем временем Захар Романов вернулся в Россию, вступил в партию Сергея Разумного, стал вице-спикенром Госдумы. Захар, как и Разумный, тоже нравился многим людям, он был моложе и красивее своего шефа. За четыре месяца до выборов список людей, которых россияне хотели бы видеть в качестве президента выглядел так:
Сергей Разумный……41%
Степан Никаноров…..11%
Павел Лошаков………6%
Захар Романов……….3%
Вячеслав Валерьянов..2%
Другие кандидаты……1%
К тому времени о своём намерении баллотироваться в президенты заявили только С.Разумный и П.Лошаков. Нынешний президент страны С.Никаноров раздумывал, З.Романов хотел иметь только большее могущество, чем В.Валерьянов, который вовсе не хотел быь президентом, он говорил, что ему «так всего хватает».
Теперь подробнее о кандидатах: С.Разумного вы уже знаете, а П.Лошаков был лидером одной из партий, он завоевал свою популярность в народе благодаря экстравагантным костюмам и громким высказываниям.
[12]
Захар Романов……….42%
Сергей Разумный……38%
Степан Никаноров…..4%
Павел Лошаков………2%
Остальные кандидаты не набрали и процента.
***
— Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эти секунды завершились выборы Президента Российской Федерации. Борьба кандидатов за заветное кресло была очень сложной и сейчас мы узнаем предварительные итоги выборов… У нас на связи корреспондент из информационного центра «Выборы»… Андрей, вы меня слышите?
— Да, Евгений, прекрасно слышу.
— Не могли бы вы назвать предварительные итоги выборов…
— Конечно… Итак обработано всего лишь 3 % избирательных бюллетеней, и тем не менее… Лидирует Сергей Разумный, у него 35,37 % голосов, далее идёт Захар Романов — 29, 68 % и далее неожиданость: на третьем месте с 6,87 % — Павел Лошаков, у нынешнего Президента России Степана Никанорова всего лишь 2,12 %…
Это был небольшой отрывок телевизионной программы, вышедшей сразу после окончания выборов. Далее в течение ночи эти данные почти не менялись или менялись очень слабо. В 6 часов следующего дня произошёл резкий скачок:
Захар Романов……….37,14%
Сергей Разумный……36,92%
Степан Никаноров…..4,02%
Павел Лошаков………3,06%
Первая и вторая двойки находились слишком близко. В это время шла информация из штабов кандидатов. Репортёрам удалось найти радостного Захара Романова, говорившего, что победа у него уже в кармане… И действительно, через два часа он лидировал: у него было 38,02 %, а у Сергея Разумного 37,93 %… Около 18 часов того же дня появились свежие данные: в выборах приняло участие 67 % россиян, проверено 98,5 % бюллетеней. Предварительные итоги:
Захар Романов……….42,11%
Сергей Разумный……40,34%
Степан Никаноров…..3,65%
Павел Лошаков………3,58%
Захар Романов и Сергей Разумный вышли во 2-ой тур.
У 54-летнего Разумного случился инфаркт… По стране ездить он уже не мог. Захар Романов торжествовал: и не зря: он победил во 2-ом туре:
Захар Романов……….54,21%
Сергей Разумный……42,03%
***
Тем временем Москва готовилась к проведению Евровидения. Новый Президент России провёл встречу с деятелями искусств в Кремле. Тут произошла встреча двух непримеримых врагов — Президента РФ Захара Романова и президента нескольких компаний и медиа-структур Вячеслава Валерьянова.
Не позвать Валерьяновва Президент не мог: Валерьянов мог сорвать проведение конкурса исполнителей песен…
[13]
После этой встречи Захар подошел к Вячеславу:
— Мне надо поговорить с тобой.
— О чем?
— Помнишь Ольгу Чернышёву?
— Ну, помню, — усмехнулся Слава. — Ты до сих пор её любишь?
— Да. Ты знаешь о ней что-нибудь?
— Знаю… Так… Чернышёва Ольга Васильевна, 1984 года рождения, проживает в Москве, в микрорайоне Жулебино, не замужем…
[14]
— Есть. Если найдешь её, я… Что угодно сделаю… Пожалуйста, найди её, постарайся…
— Завтра я позвоню… Мне надо идти.
— Я жду.
***
— Паша, останови машину.
— Но…
— Я сказал, стой.
— Ладно, если что случится, виноват будешь ты.
— Все нормально.
Вячеслав Валерьянов возвращался домой, но заметил девушку
[15] (изрядно выпившую), которая пыталась остановить машину.
— Слава? Вот так номер… Отвези меня домой…
— Ладно, поехали…
— Спасибо, я всегда думала, что ты хороший парень…
Эту девушку звали Ольга Чернышева, именно о ней Захар со Славой говорили двадцать минут назад. Теперь Слава торжествовал: судьба Президента России в его руках.
***
— Не думала, что сразу двое великих людей со мной в классе учились… И влюбилась в обоих… Чёрт…
— Оля, заночуешь сегодня у меня, а завтра мы с тобой кое-куда поедем.
— Куда?..
— Завтра утром скажу. Ложись спать.
— Ладно, Слав. А..?
— Я буду в соседней комнате. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
***
— Где я? Слава… Нет… Этого не может быть, — подумала Оля.
Было уже утро и она вышла из комнаты.
— Доброе утро, Оля, — Слава сидел на кухне и ел яичницу.
[16]
— Доброе утро…
— Сядь, поешь чего-нибудь.
— Нет, я лучше пойду домой.
— Оль, погоди. Нам нужно будет съездить к Президенту…
— Захару…
— Да, всего на пару минут. Дело в том, что он будет с женой, и просил меня придти со своей девушкой, она очень хочет познакомиться…
— Разве Захар женат…
— Да, зато я холостяк на все 100 %… Ну что, сыграешь роль…
— Ладно…
— Хорошо, сейчас позавтракаем и поедем…
***
— Оля? Привет, как дела — Захар просто сиял.
— Нормально, а у тебя?
— Как видишь, всё отлично…, — произнес Президент России и подошел к Славе.
— Слав, спасибо… Можешь оставить нас с Олей вдвоем?..
— Могу… Оля, нам пора, — Слава взял её за руку и поцеловал.
— Но….
— Оля, пойдем… Прощай, Захар.
— Пока…
Ваза стоимостью 30.000 долларов полетела в дверь…
— Сволочь… Всё, ему не жить…
***
— Слава, а почему…
— Оль, так надо… — Слава стал придумывать историю о ревнивой жене Захара.
— Останови машину… Знать тебя больше не желаю, я всё поняла… Остановись, я сказала…
— Но я хотел…
— Прощай, больше меня ты не увидишь…
***
На следующий день было открыто уголовное дело на владельца телеканала В. Валерьянова, заморожены его счета во многих банках, а его самого взяли под стражу. Через два дня он был убит…
[17]
***
— Да прекратите Вы ходить по вагону…
Этот семидесятилетний старик садился, но тут же вставал… Дело происходило в поезде Иркутск-Москва, а этого человека звали Сергей Романов.
— Сядьте же Вы. Что с Вами случилось?
— Не со мной, а с моим сыном…
***
— Наконец-то он мёртв, — злорадствовал Захар.
— Извините, но какой-то старик желает Вас видеть…
[18]
— Какой ещё старик?
— Стоит возле ворот… Не хочет уходить… Говорит, что он Ваш отец…
— Сергей Евгеньевич Романов?
— Да…
— Приведите его ко мне… Приехал отец… Двенадцать лет его не видел, с тех пор, как уехал в свой Иркутск…
***
— Захар…
— Не подходи ко мне… Зачем приехал?
— Я почти год копил деньги на билет, хотел вас видеть…
— Кого это — нас?
— Тебя и брата твоего…
— Какого брата?..
— Он старше тебя на год, ты его знаешь, Это Слава Валерьянов, он взял фамилию моей первой жены… Захар, что с тобой?
— Всё… нормально. Мне нужно выйти в другую комнату…
Захар Романов взял револьвер и выстрелил себе в висок.
[19]
Извините, если кого обидел.
14 марта 2011
(обратно)
История биографического типа
— Глаз у него тусклый, на дагеротипе. Оно конечно, шулер не игрок, но какая-то искра должна быть. Я не верю, это он сам все выдумал
— Да нет, его подельники сдали. А обыски и финансовая ревизия подтвердили.
— Удивительно! И что, имел доход?
— А то. Отстроил коттеджик в Карабихе. Поляну накрывал регулярно. Жил по понятиям.
Извините, если кого обидел.
15 марта 2011
(обратно)
История про технический прогресс
Ходил в телевизор — говорить об адронном, извините, коллайдере.
Вынес оттуда полезное — стащил со столика бутылочку с газированной водой.
Извините, если кого обидел.
15 марта 2011
(обратно)
История про старые письма
Владимир Сергеевич, не умирай. Купи Нурофену.
21 мая 2002
Какой там Бах… Я вот гриппом заболел.
Вот, как сказал бы Лис из горячо ненавидимой мной сказки про Пти-Принс'а: нет в мире совершенства. Правда, он имел в виду наличие куриц и охотников, а я вот смотрю в окно — там хорошая погода, температура высокая. Смотрю на градусник (медицинский) — тоже, блин, дело. Тоже температура высокая.
Наверняка, это — грипп. Специфика весны — жар чувств, ледяное равнодушие — когда приходит первое и окатывает второе — немудрено простудится.
Вот тебе текст Астафьева — там прям на второй странице столько диаклектизмов — ужас! Ну там, где про копчёных вьюнов и всякую рыболовную лексику. Пользуйся.
Зато вот имел беседу с Р. Теперь я могу её оптически выделять из ряда других сотрудников.
17 апреля 2000
Я протестую. У меня нет желудочного гриппа. У меня простуда. Мне как всегда повезло!
Вы то там как? живы ли, веселы ли?
11 марта 2005
Извините, если кого обидел.
16 марта 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
С обречённостью мы должны признать, что даже на
http://www.formspring.me/ красивых девушек спрашивают чаще, чем меня. Я не интересен человечеству — единственно спросили недавено, ебу ли я коз, и только я придумал остроумный ответ, как случайно стёр вопрос. А девушкам-то хорошо, их про то спрашивают и про это.
Что-то и вовсе спрашивать перестали.
Извините, если кого обидел.
18 марта 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— А почему вы ничего не говорите о реформе образования?
— А почему я без особого приглашения должен об этом говорить? Тут какое-то недоразумение.
— А вас, как писателя, не пугает сокращение программы?
— Для начала я скажу, что когда я учился в школе, то русский язык у нас кончился в восьмом классе (и оценка из восьмого как раз пошла в аттестат), а вот девятый и десятый класс у нас ровно никакого русского языка не было.
Я вижу несколько мифов головах у прогрессивной общественности — во-первых, это миф о том, что сейчас в школе всё стало ужасно плохо, как плохо не бывало. Обычно на него наслаивается рассуждение о том, что в советской школе эту прогрессивную общественность учили куда лучше, я же не питаю никаких иллюзий по этому поводу. У меня и школа при всей её прусской системе была туповатая, и насчёт прогрессивной общественности у меня большие сомнения. А уж я сам в школе преподавал во время гайдаровских реформ, там такое было, что мне надолго жизненного опыта хватило.
Во-вторых, я совершенно не увязываю набор обязательных предметов с качеством образования. Любые дисциплины преподать можно так, что святых выноси, а можно и по-человечески.
В-третьих, когда твои друзья, прекрасные душой люди, выказывают возмущение, подписывают письма, и шепчут про правительство, будто про Назарет: «разве может быть оттуда что-то хорошее?», я оказываюсь в сложном положении. Я уже несколько раз я получал пиздюлей, становясь на пути высоких чувств и пытаясь ввести несколько логики в чужие манифестации. А способ эмоционального мышления я вижу часто — с кнопками «перепост», если идёт речь о милиции — то с обязательной ремаркой «что ждать от этих убийц», если об авторских правах — то с обязательной ремаркой «даёшь свободу информации», если об образовании — то с обязательной ремаркой «из нас делают рабов». (Понятно, что законов и их проектов никто не читает, вместо документов все довольствуются пересказами незнакомых людей). Ну вот что, я должен с этим движением прекрасных людей делать? Биться, рискуя задарма со всеми поссориться?
Ничего хорошего от общества и вообще больших масс людей я не жду. И это меня тревожит больше, чем набор предметов в старших классах.
Извините, если кого обидел.
18 марта 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
— Романы Вирджинии Вулф нравятся Вам?
— Вы знаете, я отнёсся к тому, что читал (а прочитал я по-настоящему только один
роман) очень спокойно. Не знаю, что тут сыграло большую роль — то ли, что я немного опасаюсь сумасшедших, то ли ещё что — не знаю.
— Самое интересное не о чем это, а как это сделано. Разве обязательно быть сумасшедшим, чтобы писать не хуже В. Вулф??? (Но, возможно, сумасшедшинка и помогает.)
— В этом и есть интересное — вот вы, к примеру, поклонник Вирджинии, а я — нет (Мне она кажется скучноватой). Но в вас такое мнение вызвало бы возмущение — ведь это ТАК сделано! Ну а для меня нет этого всплеска эмоций (причём он мне не чужд вовсе — но вот в данном случае отсутствует).
И интересно, во-первых, что во мне заставляет подозревать поклонника Вирджнии Вульф.
Во-вторых, можем ли мы в объяснить эмоции, что вызывают в нас любовь к тем или иным произведениям. Это может быть импринтинг в детстве, первая любовь, воспоминания о счастливых/несчастливых днях, связанные с книгой, воспоминания о собственном состоянии — был молод и здоров, любил перечитывать Лескова — вот поэтому то, и только поэтому — он лучший, ну и тому подобное.
— Что в вас заставляет подозревать поклонника Вирджинии? (Но ведь я тут могу только задать вопрос, а не отвечать, правда?) Магия текста В.В. и ваш вкус — короче в этом формате не скажешь.
— Здорово! Но где-то механизм сбоит — я не люблю Вирджинию Вульф.
— Вот, сравнили с Вайлем-Генисом. Обидно?
— Да нет, отчего же? Они хорошие. Жизнь у них была интересная. Правда, Вайль умер — но это тоже не страшно. Отчего ж не сравнить?
— Что Вы думаете о творчестве поэта Алексея Никонова?
— Раньше ничего не думал. Сейчас посмотрел, и боюсь, продолжу пребывать в этом же состоянии. Мне это показалось скучным.
— У меня споры, до пены, с другом — о Веллере. Не выношу, когда ко всем презрительно относятся (хоть скольки бы пядей во лбу) А Ваше мнение каково? (Вы не боитесь возможных последствий после нелицемерного ответа?) Не люблю его — как писателя и ни как! А Вы?
— Да как вам сказать… В моём-то понимании, Веллер человек обуреваемый комплексом мачо, То есть, он дурной писатель, спекулирующий на возбуждении читателя от разных эмоциональных призывов "Встать с колен! Расстрелять! Вооружить!" До "От нас скрывали, а вот на самом деле…". Причём оказывается, что в качестве откровения он представляет читателю ужасную ахинею. Да
вот и
вот.
— Зачем Вам вопросы? Из них можно что-то извлечь? Хорошо, тогда: как Вы думаете, если люди (сейчас же пост и всех призывают к покаянию) действительно все, искренне, в раскаянии (а его может дать Один Бог) упадут на колени — случится Чудо?
— Пути Господни неисповедимы.
— И это всё? Вы не считаете нужным быть искренним? Как по-Вашему — искренность — признак «недалёкости»?
Со скорбью чувствую в вашем вопросе недовольство. Я с опаской отношусь не к «искренним» (это вообще чорт знает, что за понятие), а к легко возбудимым людям. Мой опыт говорит, что экстаз у легковозбудимого человека быстро сменяется депрессией и, чаще всего, обидой. Очень сложно всё время держать высокий градус эмоциональности.
И вы ещё учтите — прелесть анонимных вопросов в том, что они тут штучны — как на пресс-конференциях. На больших пресс-конференциях, как правило, второго вопроса не дают. Здесь диалог не получается: вас легко перепутать с другим анонимом.
— «Вас легко перепутать с другим анонимом» — спасибо за содержательный ответ. А откуда у Вас познания в человеческой природе?
— А у меня нет никаких познаний. Собственно, никаких тайн в человеческой природе тоже нет: это как с диетами. Диетических теорий в мире, наверное, существует сотни тысяч, межу тем, все, буквально все знают, что для того, чтобы похудеть, нужно меньше есть и больше двигаться. Но спрос на журналы со статьями об этом устойчив, и диетологи нынче небедны. Хотя казалось бы.
Извините, если кого обидел.
18 марта 2011
(обратно)
История про мамонта
…И Еськов сложил это кенигсбергское воспоминание в дальний уголок сознания, будто снова вернул на место папку с камеральными отчётами, сданную в архив десять сезонов назад.
Он всё замечал, но не позволял себе всплеска эмоций.
В чудесные совпадения он не верил.
Он вообще не верил в чудеса, хотя всё, что касалось мамонтов, аккуратно складывал себе в память — даже чудесное.
Одни книги говорили Еськову, что мамонт боится солнечного света, оттого он живёт под землёй. Там он сопит и ворочается. Страшный рёв его слышен накануне провалов почвы и землетрясений. По весне мамонт бредёт подо льдом рек, и лёд, синий и белый, играющий на солнце, трещит от его шагов. О том, что мамонт живёт под землёй и землю эту ест, знают все народы, только зовут его по-разному.
А на Руси звали его Индрик-зверь, только подойдёшь к нему поближе и выходит, что он вовсе не таков. Каким его представлял. То он похож на слона, то на лошадь, то у него голова коня, а тело рыбы.
Говорили и о том, что мамонт похож на большую щуку, и выглядывает по ночам из-под воды чёрных озёр. И когда он высовывается оттуда, то озеро мелеет вполовину. А всё оттого, что мамонт — сын морского царя, и слишком молод, чтобы сидеть смирно под водой. И вот тогда он ворует у людей рыбу, которая идёт в сети.
Может, земляной зверь и вовсе меняет свои обличья — в других книгах было написано, что сначала жил да был лось, а состарившись, стал он земляным зверем. Время унесло у лося рога, как уносит зубы у стариков во всяком племени. Но потом старый лось, как и все старики, переселяющиеся в другой мир, отращивает себе новые рога.
Иногда мамонт — это зверь, похожий на дракона, и иногда этот дракон помогает людям, а иногда враждебен им. А иногда вовсе не поймёшь, что он хочет, да и жив ли он. Иногда оголодавший северный народ собирался вокруг найденных костей, и шаман бил в бубен, причитая. Если он делал это правильно, то кости обрастали мясом на радость голодным.
У китайцев мамонт был похож на огромную крысу, ещё у кого-то на выдру, а у прочих — на медведя.
Но всё равно это был подземный зверь, гость из царства мёртвых.
Извините, если кого обидел.
19 марта 2011
(обратно)
История про жизненные наблюдения
Сегодня предавался размышлениям о жизни и о еде. (О еде я думал преимущественно экзотической, восточной — той, где не поймёшь сразу — курица это, или креветка. А ведь в Пост это разница принципиальная — курица — это курица. а креветка всё равно что акрида какая-нибудь).
Правда потом я вспомнил одну давнюю историю — про то как одна девушка, потрепав меня по лысине, сказала своей подруге:
— Ну вот пойдёшь за него?
И тут вторая. быстро так ответила:
— Нет!
Тут я, правда, разревелся, и все кто там был бросились меня утешать, кто-то совал в рот огурец, кто клал чайные пакетики на глаза… Ну, безобразная сцена, понимаю.
Тут ведь вот в чём дело: настоящий мужчина привыкает к отказам. Я-то знаю, но знаете ли вы, как меня писатель Бутов
унижает ставит на место в этом случае?!
И вот настоящий отказник знает, как это делают милосердные женщины. Они услышав подобные вопросы качают головой и говорят: "Ах, это невозможно!" Причём самые умелые сдерживают веселье, и скорбно так это говорят. "Ах…" "Невозможно…" И ты понимаешь, что. конечно, когда-то, в иной параллельной жизни это было и возможно, но так повернулись звёзды, Юпитер в акциденте, Луна в семи восьмых, никто не виноват, что ты такое говно. Ну, правда, есть ещё вариант, когда тебе говорят "Ах, мы бы были так несчастливы!". Это, я считаю, прекрасно: потому что если мужчина честный, он спрашивая самого себя, может ли он кого-то осчастливить, сразу покрывается испариной. Верьте мне, я покрывался.
Но беда, когда тебе говорят "нет", как отличника, которого разбудили ночью, чтобы спросить, сколько будет дважды два. Или есть ещё выражение, с каким одна моя знакомая, поглядела на меня, когда я. забывшись, сказал что-то о тензорах. Она на меня посмотрела как на телевизор, который надо хлопнуть по боку, и тогда в нём обнаружится прежний и понятный звук. Ясный и чистый.
Или вот писатель Бутов, который…
Нет-нет, об этом я не буду ночью. тут могут оказаться неподготовленные люди, а я за вас за всех отвечай.
Извините, если кого обидел.
20 марта 2011
(обратно)
История про Грелку
О! Оказывается, идёт очередная "Грелка". Расспросил, чо. Хорошая тема —
я стремительно пять рассказов набросал — кому надо, пользуйтесь.
Извините, если кого обидел.
20 марта 2011
(обратно)
История про астрономию
Ну, что? Пришла весна — отворяй ворота?
Извините, если кого обидел.
20 марта 2011
(обратно)
История про путешествия
Есть очень важный (и, как всегда, страшный) вопрос — «Зачем?».
В двадцать лет он не вызывал во мне страхов. Мне казалось, что перемещение в пространстве самоценно. Но жизнь стал подтачивать эту уверенность.
Нет, есть люди, для которых это часть службы — тут вопросов нет. А вот в прочих специальностях — это вопрос. Вопросы «Зачем?» и «Что остаётся от нашего путешествия?» — вопросы оттого страшные, что ответы на них могут отказаться неприятными.
То есть, уже придуманы ответы-затычки типа «Встряхнуться», «Отдохнуть», и подобные им — но они не решают ничего.
Это отговорки.
Я-то как раз верил многим людям, что они получали беспримесное удовольствие в пути, отчего же не верить — я сам такой. Но вопрос всё равно оставался.
Я как маленький герой, коротышка Незнайка, веду разговор со своей Совестью и говорю ей, что мне нужно встряхнуться. И Совесть спрашивает, не пробовал ли я менее энтропийные для этой цели? Нет ли тут иллюзии? Не бьёшься ли ты с давно умершим миром, чтобы доказать ему, что ты можешь двигаться? Он и сам умер, а ты ему хочешь что-то доказать?
Путешествие вообще хорошо сравнивать с сексом — и то и другое прекрасно, но им часто занимаются не по велению сердца, а от скуки или для того, чтобы хорошо выглядеть в чьих-то глазах.
И совесть моя это хорошо знала.
Вся человеческая жизнь пронизана разговорами о сексуальном, потому что секс — идеальный индикатор успеха. Если ты молод и здоров, если ты богат и хитёр (тут бы надо убежать в рассуждениях от наукообразия от гендера) — то всё это доказывается, демонстрируется в сексуальной жизни. А не сходится один человек с другим в постельной схватке, не сочиняет животное о двух спинах — что-то тут не так: страшная болезнь, психологические проблемы или человек просто валяется под забором пьяный.
Кто захочет пьяного под забором? Кто хочет быть пьяным под забором?
Немногие, да.
Это как в старом анекдоте про еврейского сына, что экономил на телеграммах и кричал из поезда отцу, стоящему на платформе: «Папа, ты какаешь?». И был прав, потому что через утвердительный ответ узнавал не только о пищеварении, но и о благосостоянии. То же самое с туризмом. Много лет назад советский человек, что побывал за границей, демонстрировал это не только через воспоминания и даже не через купленные там вещи или отоваренные здесь чеки «Берёзки». Это значило, что он был выездным, что он был абсолютно социализирован, он был успешен и как бы половой гигант в социальном смысле. И чем дальше его пустили: в Улан-Батор, Будапешт, Белград или Париж, — всё что-то означало.
Сначала все ездили в Турцию, потом в Египет, затем на Кипр. Потом настала пора Европы, затем подвалила экзотика с непроизносимыми названиями. Сейчас в приличном обществе нельзя признаться в путешествии в Анталью: на тебя посмотрят как на неудачника, что делил описанное море с бухгалтершами из Торжка.
Меня всегда забавляли горделиво вывешенные карты Ойкумены, где красным закрашивали посещённые страны (при визите в Нью-Йорк автоматически краснела и Аляска). Но я-то сам, меж тем, рассуждаю сам с собой о том, какой тип перемещения по миру более честен внутри моей собственной системы координат.
Есть случай Канта, который вообще никуда не ездил, кроме как перемещался по Восточной Пруссии (хотя теперь там то Польша, то Литва). Между прочим, этот домосед умудрился читать географию как науку, и, по отзывам современников, довольно занимательно.
Но есть случай профессионального путешественника — какой-нибудь Амундсен, к примеру. Вот раздражает меня Амундсен? Вовсе нет. Конюхов, правда, отчего-то раздражает.
И чистое утверждение «Я люблю путешествовать», которое именно что отговорка. Но всегда я склонен к психоанализу — я или безумие моей Совести. Последовательно отвечая на вопросы «Зачем?» мы можем многое выяснить — как, например, в кабинете окулиста, по очереди закрывая то один, то глаз.
Вдруг у вас (только не обижайтесь) это род нервной тревоги, вид бегства от какой-то другой деятельности.
А вдруг выясниться, что если кого-то обязать совершать свои путешествия в тайне, они потеряют для вас свою прелесть. Вдруг окажется, что вам нравится запах внутри самолёта, и всё равно куда лететь.
А так-то Портос был логичен: «Я дерусь, потому что дерусь» — но мы-то знаем, что и у него это была отговорка. Ему на самом деле было страшно, что кто-нибудь узнает, что у него перевязь была показушная. Мы всё-таки вступили на путь психоанализа.
Продвигаясь по нему постепенно, со временем можно понять, что лежит в причине влечения.
Хотя, можно, конечно, и отказаться от познания, если оно тревожно.
Например, может выясниться, что у частного путешественника ничего в итоге не остаётся — не считать же восемь миллионов фотографий «Я на фоне Эйфелевой башни» и шесть миллионов фотографий «Мы на фоне пирамид» рациональным итогом.
Нет, я знал людей, что совершали путешествия в более экзотические страны — осколок коммунистической Кореи или Кубу. Или в Верхнюю Вольту без ракет. Но это просто дополнительный слой упаковки всё над тем же вопросом «Зачем?».
И не надо говорить, что для познания мира — для того, чтобы познать город, нужно полжизни. Так на два тебя и хватит — что притворяться, что ты что-то понял, разглядывая Мачо Пикчу или напившись в любимом баре Хемингуэя.
Тут магическая пропасть неизвестности и отчаяния.
Извините, если кого обидел.
21 марта 2011
(обратно)
История про кинофестиваль
Однажды я поехал на какой-то кинофестиваль. «Какой-то» тут фигура речи — я, конечно, помню на какой, но это совершенно неважно. Жил я в старинном доме с толстыми стенами и окнами-амбразурами. Но оказалось, что слышимость в этой гостинице была превосходная и в последний день я всё не мог уснуть, ворочался в своей полутороспальной постели. В соседний номер пришёл старик — знаменитость, и вот он битый час трахал в соседнем номере какую-то журналистку. Он был худой и старый, седой и совершенно пьяный.
Сквозь стенку я вдруг услышал его дребезжащий голос:
— Вот стою я, перед тобой го — о — олый… Голенький…
И меня передёрнуло от того ужаса, с которым я представил себе вид этой сцены. Зашептал я всякие слова, да полез в холодильник за ворованным банкетным алкоголем.
Извините, если кого обидел.
22 марта 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Писатель Березин, вы мой кумир! Как вы относитесь к восторженным поклонницам? И как вы с ними обращаетесь?
— К восторженным поклонницам отношусь насторожённо. Восторг — это ведь дело недолгое и быстро сменяется депрессией. Я читал, что часто восторженные поклонницы потом вооружаются бутылками с кислотой и начинают караулить своих кумиров и членов их семей в подъездах. Этого бы мне хотелось избежать.
Вот если бы они скупали мои книги пачками, а потом раздаривали друзьям — это было бы интересно.
Ну, или присылали мне деньги в надушенных конвертах.
Если конвертов было бы достаточно много, то книги можно и не скупать.
— Какое у вас отношение ко всему этому сыр-бору околосетевому с Н. Михалковом? Было бы просто чудесно, если бы вы ответили поразвернутее.
— Это удивительно сложный вопрос. И вот почему — сейчас придётся объяснять базовые понятия моего мировоззрения. Да-да, не пугайтесь только, но без них никуда не денешься.
Во-первых, скандалов вокруг Михалкова в Сети было довольно много — и фильмы его ругали, и показывали, как он какого-то нацбола ногами бьёт за то, что тот в него помидором засветил (Там ужасно было то, что нацбола при этом держала михалковская охрана). Я думаю, что имеется всё-таки не это и не блог Михалкова, а его публичное утверждение, что это Бог наказал Японию землетрясением (Правда, вот меня тут поправили, не за Курильские острова, как обозреватели говорят, а вообще за всё дурное "постоянное использование, унижение окружающего мира, включая людей, себя самих, детей, природу"), ну и за грехи всего человечества. "И посылает бедным японцам девятибалльное землетрясение с цунами, реактором, который сегодня опять потрясло, и он на грани взрыва". Ему тут же напомнили — люди православные, что вовсе не дело иерарху Церкви, а уж мирянину и подавно, с уверенностью говорить о замыслах и мотивах Господа, а агностики справедливо добавили, что эмоция «У соседа корова сдохла — мелочь, а приятно» — очень опасная. Особенно, когда речь идёт не о смерти коровы. Мне всякий сыр-бор не очень интересен, а те слова, что я слышал сам — как Михалков оправдывается за мигалку, кажутся мне больше, чем преступлением — потерей вкуса. Но это, повторяю, не очень интересно.
Во-вторых, (хотя тут можно было бы и закончить) интересно рассуждать зачем нам явлен Михалков в этом своём современном качестве. Вот он был молодым режиссёром, и фильмы эти мы помним, потом до нас доходили слухи о каких-то необъятных поместьях и семейных богатствах, фильмы уже были несколько хуже, и вот мы имеем перед глазами не режиссёра, а то, что точно определяется словами «общественный деятель». Деятель этот поступает глуповато, говорит ужасно противные для всякого слушающего водителя слова значимости своей «мигалки» и всё такое.
Я всё думал, отчего это так? Ведь, если из всякого явления можно извлечь нравственный опыт, то какой — из этого?
Отчего человек произносит вещи, после которых о нем большее количество людей будет думать хуже, чем раньше?
Иногда мне кажется, что схема может быть такой: человек цинично понимает, что народ стерпит всё — и ныне, и присно, и вовеки веков. И Михалков уже снабдил себя такими прокладками между собой и народом, такими подушками безопасности, что защищён абсолютно.
Не пойдут на новый фильм? Да и ладно, всё уже заложено в смете.
Не дадут денег? Да у него уже есть.
Пристанут на улице? Да он по улицам не ходит.
При этом он знает, что чернь продажна и всё равно прибежит узнать, что случилось, если он скажет очередную громкую фразу, быть может, непродуманную. Возможно, у него просто есть предчувствие, что за «Цитаделью» для него кино кончилось, а, значит, кончился старый вид адреналина. Возможно, что он решил стать политиком типа Жириновского — кстати, непонятно ещё, кто кого сборет.
И хоть кино кончилось, но формат — не кончился. И в этом формате и будет политическим деятелем — но, я думаю, всё же не губернатором. Михалков всё-таки неглуп, да и пример несчастного Евдокимова с ужасным позорищем, который нам явило это губернаторство от начала до конца, ещё не забыт.
Я думаю, Михалков метил бы на государственный пост адекватный министру, или председателю думского комитета, или просто Главе Кинематографии (или и вовсе — Главе Культуры). Можно основать Академию — либо Академию Киноискусства, либо Академию Культуры. Время от времени отправляться по Руси в странствие, облачаясь в рубище, и ничто не будет выдавать великого человека кроме группы видеооператоров, бредущей следом.
В-третьих, это и есть польза: размышление над примером жизненного пути, что нам тут явлен.
Вот вам
бонус на всякий случай.
Извините, если кого обидел.
22 марта 2011
(обратно)
История про чудо-книгу
Вот на что я не готов потратить 35.000 рублей, но очень бы хотел прочитать. Ау, нет ли у кого pdf?
Дело К. Д. Семенчука и С. П. Старцева. Стенографический отчет заседания Верховного Суда РСФСР. — Л., изд-во Главсевморпути, 1936. - 560 с.
Извините, если кого обидел.
23 марта 2011
(обратно)
История про день метеорологии
О! Сегодня день метеорологии. У меня как раз был по этому поводу душещипательный рассказ
— Папа… Папа… Папа… — Сын не унимался, и Сидоров понял, что так просто он не уснёт.
Дождь равномерно стучал по крыше, спать бы да спать самому, но сын просил сказку.
— Про гномиков, пап, а? Про гномиков? — Сидоров прикрутил самодельный реостат на лампе и вздохнул. — Ну вот слушай. Жил один мальчик на берегу большого водохранилища… Водохранилище было огромным — недаром его звали морем. Горы на другом берегу едва виднелись, но мальчик никогда там не был.
Он почти нигде не был.
— Я тоже нигде не был, — сказал сын из сонного мрака.
— Ты давай, слушай, — сурово сказал Сидоров, — сам же просил про гномиков.
— А будут гномики?
— Гномики обязательно будут. Мальчик жил на берегу… Так… Мать уехала из посёлка давно, и мальчик жил с отцом. Отца за глаза звали Повелителем вещей, оттого что отец работал ремонтником — и чинил всё. Сейчас он сидел в пустом цеху и возвращал к жизни одноразовые китайские игрушки, оживлял магнитофоны и автомобили, ставил на ножки сломанную мебель, паял чайники и кастрюли.
Много лет назад, когда посёлок возник на берегу водохранилища, там одновременно построили завод. Времена были суровые, и строительством завода ведал сам Министр Нутряных Дел и ещё двенадцать академиков. Завод получился небольшой, но очень важный. На этом совсем небольшом заводе много лет подряд делали очень большую Ракету. Посёлок тогда был не то, что сейчас — куда больше и веселее. Два автобуса везли людей на завод, а потом обратно. В кинотеатре крутили кино — по утрам за десять копеек детское, а вечером, за рубль — интересное.
Мальчик это помнил плохо, может, это были просто чужие рассказы, превращённые в собственную память — ему казалось, что он вечно сидит в своём доме, обычной деревенской избе на окраине посёлка. Правда печь давно не топилась — и тепло и огонь давал газ. Жизнь давно изменилась — и в доме редко пахло своим хлебом.
Но потом оказалось, что Ракета не нужна, или она вовсе построена неверно, и люди разъехались кто куда. Дома опустели, а саму Ракету разрезали на несколько частей. Из одного куска сделали козырёк над входом в кинотеатр, да только фильмов там уже не показывали.
— А у них были Испытания? — перебил не к месту сын.
— Конечно. Испытания — очень важная вещь, без них ничего работать не будет, — ответил Сидоров, а про себя подумал, что часто — и после. Он хлебнул спитого чая и продолжил: — На заводе осталось всего несколько людей, и среди них — Повелитель Вещей. Он привычно ходил на завод, а в выходные исчезал из дома, взяв рыболовную снасть.
Повелитель вещей замкнулся в себе с тех пор, как уехала жена. Мальчика он тоже не жаловал — за схожесть с ней.
А вот на рыбалке было хорошо — хоть никакой рыбы там давно не было.
Нет, посёлок, стоявший на мысу, издавна славился своей щукой, сомом и стерлядью. Объясняли это идеальным микроклиматом, сочетанием ветров и холмов, приехали даже учёные-метеорологи и уставили весь берег треногами с пропеллерами и мудрёными барометрами. Но потом, когда начали строить Ракету, метеорологов выгнали, чтобы они не подсматривали и не подслушивали. К тому же одну важную и ужасную деталь для Ракеты при перевозке уронили с баржи в воду. И деталь эта была до того ужасна и важна, что вся рыба ушла от берега и рядом с посёлком теперь не казала ни носа, ни плавника.
Впрочем, в обезлюдевшем посёлке никому до этого не было дела.
Повелитель вещей просто отплывал от берега недалеко и смотрел на отражение солнца в гладкой солнечной воде. Возвращаться домой ему не хотелось — дом был пуст и разорён, а сын (он снова думал об этом) слишком похож на бросившую Повелителя Вещей женщину.
Когда отца не было, Мальчик слонялся по всему городу — от их дома до свалки на пустыре, где стоял памятник неизвестному пионеру-герою.
Однажды мальчик нашёл на этом пустыре военный прибор, похожий на кастрюлю. Мальчик часто ходил на пустырь, потому что там, у памятника безвестному пионеру-герою, можно было найти много странных и полезных в хозяйстве вещей. Но этот прибор был совсем странным, он был кругл и непонятен — даже мальчику, который навидался разных военных приборов. Можно было отнести его домой и отдать отцу, но мальчик прекрасно знал, что нести военный прибор в дом не следует, поэтому он положил кастрюлю на чугунную крышку водостока.
Тогда он стал представлять, как увидит гномиков.
Но только он отвернулся, чтобы открыть дверь, как услышал за спиной писк.
Бесхозный драный кот гонял военную кастрюлю по пустынной улице. От кастрюли отвалилась крышка, и из её нутра жалостно вопили крохотные человечки.
Мальчик кинул в кота камнем, и тот, взвизгнув, исчез.
Содержимое кастрюли высыпалось в пыль и стояло перед мальчиком, отряхиваясь.
Мальчик хмуро спросил:
— Ну, и кто будете?
Он привык ничему не удивляться — с тех самых пор, как из недостроенной Ракеты что-то вытекло, и несколько рабочих, попавших под струю, заросли по всему телу длинным жёстким волосом.
Ответил один, самый толстый:
— Мы — ружейные гномы. Есть у нас химический гном, есть ядерный — вон тот, сзади — который светится. Много есть разных гномов, но название всё равно неверное. Лучше зови нас «технические специалисты». Много лет назад мы были заключены в узилище могущественным Министром Нутряных Дел, и с тех пор трудились не покладая рук. И вот, мы на свободе, наконец, и даже избежали зубов этого отвратительного подопытного животного.
— Ну а теперь я вас спас, и вы мне подарите клад?
— Мальчик, зачем тебе клад? В твоём городе золото с серебром хрустит под ногами, а на свалке лежит химическая цистерна из чистой платины. Мы, правда, можем убить какого-нибудь твоего врага.
— У меня нет врагов, — печально ответил мальчик, — у меня все враги уехали. У нас вообще все уехали.
Технические специалисты согласились, что это большой непорядок — когда нет настоящих врагов. Каждый из них мог легко передать мальчику свой дар, но дар этот был не впрок. Гном с ружьём мог только научить стрелять, гном с колбой мог научить смертельной химии, гном с мышкой — смертельной биологии, лысый светящийся гном вообще не мог ничему мальчика научить, потому что только трясся и мычал. Правда, оставался ещё один, самый неприметный, с зонтиком.
— А ты-то за что отвечаешь?
— Я отвечаю за метеорологическое оружие. Правда, в меня никто не верит, оттого я такой маленький…
Но мальчик уже зажал его в кулаке и строго посмотрел в маленькие глазки:
— Ты-то мне и нужен.
Суббота началась как обычно. Отец собрал удочки, но только отворил дверь, как порыв ветра кинул в дом мелкую дождевую пыль.
Погода стремительно менялась, и отец удивлённо крякнул, но отложил снасть и принялся за приборку. Мальчик таскал ему вёдра с водой и подавал тряпки.
И в воскресенье стада чёрных туч прибежали ниоткуда, и, наконец, в воздухе раздался сухой треск первого громового удара.
На следующей неделе рыбалка опять не вышла — погода переменилась за час до выхода, и отец, вздохнув, снова поставил удочки к стене.
Так шло от субботы к субботе, от воскресенья к воскресенью — отец сидел дома. Сначала они как бы случайно встречались взглядами, а потом начали говорить. Говорили они, правда, мало — но от недели к неделе всё больше.
Вдруг оказалось, что Ракета снова стала кому-то нужна, и в посёлок приехали новые технические специалисты — нормального, впрочем, роста. Первым делом они оторвали от заброшенного кинотеатра козырёк и отнесли его обратно за заводской забор. Съехались в посёлок и прежние люди — те из них, что помнили о микроклимате, изрядно удивились перемене погоды.
Погода портилась в субботу, а в понедельник утром снова приходила в норму.
Сначала природный феномен всех интересовал. Первыми приехали волосатые люди с обручами на головах и объявили посёлок местом силы. Но один из них засмотрелся на продавщицу, и против него оборотилась сила всего посёлка. За ними появились люди с телекамерой. Красивая девушка с микрофоном снялась на фоне памятника пионеру-герою и сразу уехала — так что парни у магазина не успели на неё насмотреться.
Приезжали учёные-метеорологи, измеряли что-то, да только забыли на берегу странную треногу.
Так всё и успокоилось.
Погода действительно отвратительная — ни дождь, ни вёдро. То подморозит, то отпустит. И, главное, на неделе всё как у людей, а наступят выходные — носа из дому не высунешь.
Но все быстро к этому привыкли. Люди вообще ко всему привыкают.
Мальчик сидит рядом с отцом и смотрит, как он чинит чужой телевизор. Повелитель вещей окутан канифольным дымом, рядом на деревяшке, как живые, шевелятся капельки олова. Телевизор принесли старый, похожий на улей, в котором вместо пчёл сидят гладкие прозрачные лампы. Внутри ламп видны внутренности — что-то похожее на позвоночник и рёбра.
Недавно отец стал объяснять мальчику, что это за пчёлы. Но больше мальчику нравилось, когда отец чинит большие вещи. Тогда мальчик подавал ему отвёртки и придерживал гайки плоскогубцами.
Жизнь длилась, на водохранилище шла волна, горы на том берегу совсем скрылись из виду, а здесь, хоть ветер и выл в трубе, а от печки пахло кашей и хлебом.
Сидоров понял, что он давно рассказывает сказку спящему. Сын сопел, закинув руку за голову. Сидоров поправил одеяло, хозяйски осмотрел комнату и вышел курить на крыльцо.
Дождь барабанил по жести мерно и успокаивающе, как барабанил, не прерываясь, уже десятый год после Испытаний. За десять лет тут не было ни одного солнечного дня.
Извините, если кого обидел.
23 марта 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— А почему это мы должны Вас развлекать?
— А что вам, жалко что ли?
Извините, если кого обидел.
23 марта 2011
(обратно)
История про меня и Ливию
Я на фоне исторических катаклизмов всегда выгляжу неважно.
История всегда выглядит лучше — она кровава и интересна.
Однажды я пришёл в университет, но нас тут же выгнали на улицу. Всё дело в том, что американцы бомбили Ливию. F-111 взлетели в Британии, обогнули континент (французы и испанцы не дали разрешения на пролёт) и зашли на Триполи со стороны пустыни. В то же время А-6 с авианосцев бомбили Бенгази. Ливийцы сбили один F-111, а американцы уничтожили неизвестное количество ливийских солдат и сорок гражданских лиц, включая годовалую приёмную дочь Каддафи.
Вот поэтому сырым апрельским днём нас вывели из зданий факультетов и поставили на мокрую площадь перед главным входом. Мы должны были протестовать против действий американских стервятников.
Было сыро и пасмурно.
Ветер уносил прочь слова ораторов, и я ничего не слышал. Не помогал и мегафон — когда в тающем снеге, переминаясь, стоят несколько тысяч человек он мало помогает. Да и вообще мне было не до этого.
Я был влюблён в одну однокурсницу.
Она была похожа на маленького зверька.
Вот, собственно и всё.
Извините, если кого обидел.
23 марта 2011
(обратно)
История про писателей
·Сегодня новая напасть в мире — все пишут коллективные письма. У меня лента прям разбухла от этих коллективных писем — одни снобы пишут коллективное письмо про других, чтобы других отставили, потом писатели сказались — и написали письмо Медведеву. Натурально, писателей стали чморить и мумукать читатели. Отрады души во мне не вызывают ни те, ни другие, ни третьи.
Нет, читатели мне всё-таки более противны — потому что они похожи на куклу Барта Симпсона у которой из попы торчала верёвочка. Дёрнешь за неё — кукла машет руками и произносит "Съешь мои трусы". Что бы ни произошло, оказалось ли, что в старших классах не преподают русский язык, писатели хотят денег, или тоже новость — японцы.
Это хороший набор — в последние дни прямо масса поводов выказать свою глупость. Про японцев — все тасуют как карты в колоде понятия (и, конечно, их путая) локальная шкала магнитуд Рихтера, шкала Меркалли (MM), макросейсмическая шкала (EMS), шкала Японского метеорологического агентства (Shindo) и шкала Медведева-Шпонхойера-Карника (MSK-64). Ну, несколько миллионов человек уверены, что ядерный реактор — это такая ядерная бомба, которая под контролем просто медленно взрывается, будто пар из кастрюли стравливают.
С писателями — так это тема авторских прав рулит. Документов никто не читает, но все, как футболе знают, что и как устроено. Лишь истошный крик раздаётся "Даром за амбаром!", да вторит ему крик "Жмоты!". Былочи крикнет кто-то "Жиды!" по ошибке, да втянет голову в испуге.
Боюсь, нас всех действительно утопят.
Но меня-то, чистого и нежного — за что? За что?
Извините, если кого обидел.
24 марта 2011
(обратно)
История в плане подливания масла
Одна из моих любимый цитат — это слова Ивана Михайловича Сеченова: “ Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к Родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге, — везде окончательным фактом является мышечное движение”.
Мне нравится самый звук этой фразы.
Так вот, когда люди легко возбудимые начинают говорить об авторском праве и вообще об интеллектуальной собственности, обычно говорят много, приводят красивые и не очень аргументы, меж тем везде окончательным фактом является мышечно… то есть, простой вопрос — является ли интеллектуальная собственность — частной собственностью или нет.
То есть, любой спорщик, и тот, что кричит в ажитации "От вас не убудет!", и тот что огрызается "Даром за амбаром!" и весь остальной хор безумцев (а, верьте мне, все они безумцы — и с одной, и с другой и даже с третьей стороны), все они утыкаются в вопрос о частной собственности — признают они её или нет.
Извините, если кого обидел.
25 марта 2011
(обратно)
История про нового Франциска
Новый Франциск, коли явится, должен проповедовать не птицам, но ботам.
Он должен разговаривать с ботами, и если вера его достаточно крепка, боты сами будут уничтожаться.
Но не все.
Оставшиеся будут платить десятину и помогать бедным.
Извините, если кого обидел.
26 марта 2011
(обратно)
История про две жизни

О! Сейчас мне по телевизору показывают фильм "Две жизни". Я как раз вспоминал его, потому что рассуждал о нём в книжке. "Был один советский фильм, суть которого я переиначил в своём воспоминании. Мне казалось что там, в начале шестидесятых годов, с круизного лайнера (здесь аллюзия на фильм «Бриллиантовая рука») на французскую землю сходят советские туристы. И вот в ресторанчике один из них, советский генерал, рассказывает историю своей жизни, не замечая, что его подслушивает официант. И мне казалось, что генерал был в молодости денщиком у будущего официанта, а потом их развела Гражданская война. Однако в настоящем фильме денщик был молодым офицером и пал жертвой розыгрыша в каком-то имении, но дело не в этом. Здесь очень интересная задача в области прагматики (если отвлечься от идеологии и идеалов). Например, понятно, что в 1916 году быть офицером лучше, чем денщиком.
А вот когда настал двадцатый год, и уже началась давка у ялтинского причала — лучше быть краскомом и бывшим денщиком.
Но понятно, что французскому официанту не грозит чистка и 1937 год. А вот красный командир крепко рискует — рискует он и попасть в котёл под Киевом. Однако в 1950 году генерал Советской армии живёт несколько лучше, чем официант в Ницце. Допустим, они оба Мафусаилы, и вот наступает 1991 год. И вот одинокому французскому официанту (или метрдотелю — должен же он расти) опять несколько лучше, чем одинокому отставному советскому генералу в его московской, а то и хабаровской квартире.
— Что? — ответил мне Синдерюшкин вопросом. — Что, брат, мы хотим? Хочется выжить и иметь кусок хлеба с маслом и никаких бомбёжек? Хочется ли преуспеть? Хочется ли прославиться? Это всё очень интересно в мечтаниях, да только никто их точно сформулировать не может. Например, вот тебе вариант не первый и не второй — судьба советского командарма в общем-то завидна: чёрная «эмка», белая скатерть в санатории имени Фрунзе, на груди горят четыре ордена, и — апоплексический удар за переполненным столом, пока чекисты медленно поднимаются по лестнице. Или пожить всласть, награбить и наесться, всласть натешиться девичьими телами в бандитском логове — а потом схлопотать пулю от немытых голодных ревкомовцев. При этом ревкомовцы останутся до смерти голодными — будут лежать в грязи под телегою, жевать промокший хлеб и думать про город-сад, потом получат свои срока и снова — в грязь под телегу, а потом на войне то ж, пока не пресечётся их жизнь, полная убеждений.
А можно лелеять мысль об удачном воровстве активов с ноября по июнь и бегстве в Европу, а то и в Америку… Но мы ведь понимаем, что такое Европа в восемнадцатом году. В Германии голод, вспыхивают то там, то сям революции. (Швейцария тогда, кстати, была небогатой и совершенно непривлекательной.) Ну ладно, сбежали в Америку, поднялись за десять лет и вложили активы в фондовый рынок. И прыг в Гудзон вниз головой с известного моста.
Было бы прилично и в Сербию, и родные купола горели бы среди белградских улиц. Однако ж и оттуда в 1945-м можно было уехать эшелоном куда подальше, а то и повиснуть в петле. То же касается и Харбина. В Аргентине можно попасть под раздачу Перону, по соседству — прочим диктатурам.
Можно осесть в Праге и стать рантье, но в 1947-м этой радости придёт конец, поскольку во второй половине XX века быть рантье можно только западнее Вернигероде. Да и судьба официанта или таксиста в 1940-м могла сложиться по-разному. Понятно, что французы особо не жаловали Сопротивление, но отчего не разделить судьбу Вики Оболенской?
Всё дело, конечно, в том, как именно доживать — как очутиться в скромной норке, мелком уюте, который нужно спасти от горячего дыхания истории-монстра?
— Это, — ткнул в меня пальцем Синдерюшкин, и ткнул как-то очень обидно, унизительно ткнул. — Это всё сны несчастного Бальзаминова, расплывчатая мечта Макара Девушкина. Это всё твоё смутное мандельштамовское желание спастись от века-волкодава под какой-нибудь иностранной шубой, потому что какое дело умирающему в девяностом году отставному генералу до былых заслуг. Нищета на его пороге и неправильные выборы в его жизни — лишь фантом.
— Ну а если за тобой пришёл голод или люди с ружьями?
— Если за тобой пришли люди с ружьями — то отчего же не перейти пограничную реку вброд? Или, если стало голодно, не сесть на лодочку и причалить к европейским берегам? Просто выбор этот не навечно, и определяет он конкретное спасение, от конкретных людей с ружьями, а не спасение навсегда. И у твоего («Почему моего? — опять обиделся я) парижского таксиста Газданова в «Призраке Александра Вольфа» есть такая история: «К шаху пришел однажды его садовник, чрезвычайно взволнованный, и сказал ему: «Дай мне самую быструю твою лошадь, я уеду как можно дальше, в Испагань. Только что, работая в саду, я видел свою смерть». Шах дал ему лошадь, и садовник ускакал в Испагань. Шах вышел в сад; там стояла смерть. Он сказал ей: «Зачем ты так испугала моего садовника, зачем ты появилась перед ним»? Смерть ответила шаху: «Я не хотела этого делать. Я была удивлена, увидя твоего садовника здесь. В моей книге написано, что я встречу его сегодня ночью далеко отсюда, в Испагани». Сомерсет Моэм рассказывает эту историю, используя иные географические названия".
Извините, если кого обидел.
26 марта 2011
(обратно)
История про чернуху
Я обнаружил примечательный рассказ известного писателя. Писатель давно уже умер, популярен он вовсе не этим коротким текстом, а совсем другими романами.
Суть короткого рассказа в том, что герой-палеонтолог летит на север, где нашли рогатого мамонта. (Мамонт там в итоге оказался вовсе не при чём). Летит палеонтолог не просто так, а на электрическом самолёте — "только что вступила в эксплуатацию первая воздушная линия электропланов, пользующихся электроэнергией, передаваемой по воздуху без проводов".
Там "на массивной железной полке с толстыми металлическими подпорами, к которой мы подошли, лежало нечто похожее на большой ком теста. Ниже, под полкой, начинался ковш, хобот которого уходил куда-то под пол. В стороне от «теста» на полке стояло несколько черных кубиков величиною в кубический сантиметр".
— Попробуйте приподнять один из этих кубиков, — говорит техник (в фантастических рассказах техники абсолютно безумны и постоянно предлагают пассажирам что-нибудь потрогать и всё объясняют). Естественно, никто кубики приподнять не может, и пассажирам объясняют, что они просто очень тяжёлые. Это, говорят им, потому что тяжёлая материя, составлена из атомов, лишенных электронов. И она представляет собою положительный заряд огромной концентрации. "И именно в силу этого она должна была с необычайной силой притягивать к себе отрицательные заряды-электроны. А где их нет? Таким образом, с самого момента своего рождения материя, искусственно ставшая тяжелой, стремилась возвратить себе то, что у нее было отнято, — электроны, отрицательный заряд, а вместе с ними вернуть себе и прежние свои свойства. Одним словом, к кубику тяжелой материи отовсюду потек
электрический ток".
Кубики эти являются идеальными аккумуляторами.
— Таким образом, при помощи теста — тяжелой материи — вы высасываете электроны из невидимых проводов высоковольтной передачи? — спрашивает один пассажир.
— Правильно, — отвечает техник. — В данном случае «ТМ» заменяет нам землю, заземление. Настоящая земля далеко под нами, и отработанный ток поглощается тяжелой материей. Понятно?
(Правда тут у них случилась неприятность, тряхнуло, изоляция нарушилась и из кубиков полезло какое-то тесто как мишкина каша, его начали выбрасывать вон, оказалось, что тесто это ещё и пахнет, и по изменениям запаха электролётчики нашли направление и вернули электролёт к лучу электрического питания… Но я не об этом, а о маленьких кубиках.
Так вот — это чернуха. То есть особый энергетически-ёмкий материал, что получается в желудке прожорливых нибблонианцев. Плотность чернухи чудовищна − каждый её фунт весит 10000 фунтов.
А рассказ написан в 1938 году, если что.
Извините, если кого обидел.
28 марта 2011
(обратно)
История про одну статью
Мне вот что удивительно — в общем-то понятно, что статья Латыниной, которую все тут обсуждают, дурная. Она совершенно в контексте того, что она пишет и писала раньше, она по-прежнему осциллографична. Однако ж я наблюдал десятки, казалось бы здравомыслящих людей, что носились взад-вперёд с выпученными словами и криками "крокодил сказал доброе слово!"
Ведь рецепт написания эпатажных статей прост — удивительно прост.
Удивительна общественная реакция, то есть когда люди, казавшиеся тебе вменяемыми вдруг начинают реагировать странным образом. Нет, и раньше я был мизантропом, но зачем мироздание меня, чистого и нежного мизантропа, хочет в этом качестве утвердить?! Не надо! Я уже! Я давно!
Извините, если кого обидел.
28 марта 2011
(обратно)
История про одно убийство
Интересно, что в конце концов произошло с убийцей набоковского отца (тут усмешка истории — Набоков-старший, поди, никогда не думал, что его будут называть "отец знаменитого Набокова"), так вот, в справочниках о нём говорится скромно "Таборицкий Сергей Владимирович (1895—после 1922).
Меж тем, говорят, что он был начальником молодёжного отдела в созданной в 1936 году "Vertrauenstelle fur Russische Fluchtinge", а в 1939 — руководителем Национальной организации русской молодежи и в немецких документах писался — фон Таборицки. Вроде бы во время войны он поставлял переводчиков в группу армий "Центр".
К чему это я? Забыл.
Извините, если кого обидел.
29 марта 2011
(обратно)
История по мешки
Всё дело в том, что никто не хочет мешки ворочать, а хочет
иного.
Не забыть прописать себе в интересах — "не мешки ворочать".
Извините, если кого обидел.
29 марта 2011
(обратно)
История про маленьких бесогончиков
Не так давно ко мне стали ходить никитомихалковские боты. Они приходили и беседовали между собой.
Я им как бы и не нужен был уже вовсе.
Я чувствовал себя хозяином квартиры, к которому пришли гости, и вдруг, не обращая внимания на хозяина, стали ебаться на обеденном столе.
Нет, я, конечно, люблю порно, но — до известной степени.
И после эстетического взгляда перешёл к аналитическому рассматриванию.
Сначала мне казалось, что я имею дело с принципиально иным подходом к ботоводству. Кто-то покупает программистов-ботоделов за мелкий прайс, а Никита Сергеевич послал в имение за холопами, раздал им ноутбуки, и, пока посевная не началась, велел им впрячься.
Но, потом я решил, что это всё дело рук нанятых приказчиков. Не барское это дело, холопам этакие задания раздавать.
А вот приказчики купили у заезжих купцов граммофон, а если накинуть три рубли, предложили полведра ботов в добавок. Купцы уверяли их, что в Париже теперь все так делают.
Ко мне боты приходили на слова об адекватности Никиты Сергеевича Сети, кою он до этого поносил разными словами. Мне кажется, тут нет никакой неадекватности — просто общество атомизируется. Есть кластеры в которых принято одно, и те, в которых принято другое.
И Никита Сергеевич просто не отслеживает мелкие, или мало влияющего на его кластер — зачем?
Вот он вызывает лакея в кабинет:
— Селифан, есть бурление говн?
— Есть, батюшко!
— Ну и хорошо.
Так и казус Бесогона — это ведь не стратегический план с завоевательными целями, покориссь, сетевой человек. поцелуй папскую туфлю и живи в смирении. Я думаю, что Михалков не так много думает о Сети вообще.
Бурление говн есть? Меня обсуждают? Ну и хорошо!
А ведь внимательный человек понимает, что толпа — мычащее стадо, как она Михалкова сейчас ругает, так его будет превозносить. Она, эта толпа как Гришковец, ругающий Ваенгу за бездуховность. Есть известный апокриф, история о том, как в мае 1935 года министр иностранных дел Франции Пьер Лаваль попросил Сталина смягчить жизнь католиков в СССР. "О! — будто бы сказал Сталин. — Папа! А сколько у него дивизий?"
Там было смешное продолжение, но не в этом суть.
А бесоботы ничего так, забавные.
Купцы не продешевили.
Извините, если кого обидел.
29 марта 2011
(обратно)
История про снег
Довольно давно, в ином историческом времени, я работал рядом с московским зоопарком. Я работал по ночам, когда подходила моя очередь. В те ночи я выучил мрачное дыхание зоопарка.
Это был запах сена, навоза и звериного нутра.
В темноте пронзительно скрежетали павлины, и тяжело ухал усатый морж.
Однажды, открыв окно, я увидел, как идёт снег.
Было первое апреля, хмурый день. Нахохлившиеся лебеди под казённым окном возмущённо кричали.
Потом улица, разделяющая зоопарк на две части, была раскопана и перегорожена — на много лет. На ней лежали бетонные блоки и трубы. Внешне это было похоже на баррикаду.
Теперь-то этого уже никто и не помнит, как и баррикад рядом. Случился военный переворот, а во время переворотов полагается возводить баррикады. Вышли они на этот раз хлипкие, слабенькие.
Два моих приятеля спьяну перегородили Садовое кольцо фермой от строительного крана — десятки людей повиновались им, движение встало. А он пошли себе дальше — возвращались, кстати, из бани.
Модно было гулять на баррикадах.
Какая-то девица сидела на танковой пушке, сверкая капроновыми чулками. Другие, в трико и белых свитерах, гуляли с парнями.
У костров грелись лохматые люди в штормовках, а в небе болтался аэростат.
На антенной привязи аэростата висело четыре флага: большой трёхцветный российский, поменьше — жовто-блакитный украинский, за ним — литовский и ещё какой-то, неразличимый в вышине. Потом этот аэростат оторвался и путешествовал по московскому небу самостоятельно. Его принимали за летающую тарелку.
Товарищ мой встал на баррикаду, чтобы осмотреть окрестности. Она зашаталась под ним, как два стула, поставленные один на другой.
Начали записывать в десятки и сотни. Появились командующие люди. Люди благоразумные с ужасом представляли, как в случае поражения их будут хватать по этим спискам.
Шкловский пишет: «Много я ходил по свету и видел разные войны, и всё у меня впечатление, что я был в дырке от бублика.
И страшного никогда ничего не видел.
Жизнь не густа.
А война состоит из большого взаимного неумения».
Извините, если кого обидел.
30 марта 2011
(обратно)
История про дни рождения
О! Сегодня день рождения Банаха. Банах крут, вот что.
Извините, если кого обидел.
30 марта 2011
(обратно)
История про спам
О! Я как-то отстал от жизни, а теперь вместо нигерийского спама пошёл французский:
Dear Berezin,
Please forgive my using this means to reach you but I can’t think of any other way of letting you know the urgent matter at hand. I acted as personal attorney to (late) Mr. A. Berezin, who lived and worked here for more than twenty years as a major contractor and businessman, On the 1st of October 2007, he and his wife and only daughter were involved in an automobile accident while visiting a neighboring country on vacation. They were buried two weeks after and I have exhausted all means of reaching who may have been related to them. This has been made more difficult because no mention was made of any relative while he was alive. To the best of my knowledge, before his death, he had an investment deposit totaling more than Nine Million Five hundred thousand United States Dollars (US$9.500.000.00) with the major bank here and now they have asked me to provide a next of kin if there is, or the estate will then revert to the government and so it would be lost. My proposal is that you allow to be presented for this role so that documentation can be processed and payment made in your favor. This is a project which will see us partner to realize. I would be willing for us to discuss terms of participation in order to protect our various interests.I want to assure you right away that I have positioned this deal to not last for more than two weeks. I shall be willing to discuss father on this if write back or send to me your direct telephone number so we can discuss in the type of confidential atmosphere which this matter requires.
Thanks for your prompt response. Kindly Contact Me on My Private Email: (richardroberts044@hotmail.fr)
For More Detail's Richard Roberts Esq.
Украсть, что ли, этот сюжет для романа? (Это я насмотрелся писательницы Шиловой в журнале "7 дней").
Извините, если кого обидел.
30 марта 2011
(обратно)
История про прокладки
…Г. рассказал мне такую анекдотичную историю.
Однажды, в середине семидесятых, выяснилось, что огромные правительственные автомобили высшего класса начали оставлять под собой на кремлёвском асфальте и брусчатке безобразные масляные пятна.
Дошло дело до того, что комендант Кремля пообещал высаживать министров у Боровицких ворот, чтобы их автомобили не портили вид из окон ещё более высокого руководства.
И вот на заседании правительства министру автомобильной промышленности начали говорить:
— Ты что? Не можешь машину нормальную сделать? Как не стыдно! — ну и тому подобное далее, что всякому министру обидно.
Заведующему лабораторией гидромеханической передачи позвонили домой, в полночь:
— Вы сегодня выезжаете в Горький.
За ночь они приехали с коллегой в Горький, на автозавод, умылись в гостинице и утром уже были в лабораториях завода. Документация вся в порядке, и в недоумении пожав плечами, командированные и хозяева пошли на испытательный стенд.
Обычно тогда для проверки брали белый лист бумаги. Его подставляли к детали — и если на него попадала хоть капля масла, то её было сразу видно. Инженеры взяли с собой лист ватмана и увидели, что вся коробка окутана масляным облаком — какие там капли, масло было везде! Какой там Кремль! Какие пятна на кремлёвской брусчатке. Оказалось, что вопрос был прост — на коробке правительственных машин стояло в качестве уплотнителя резиновое кольцо, которое деформируется и не даёт возможности маслу вырваться наружу. И вокруг этого кольца был облой, оставшийся от литья. Его большими стальными ножницами отрезала женщина лет пятидесяти-пятидесяти пяти. Она плохо видела — и вероятно, никогда в жизни не видела Кремля, не видела, наверное, и живого министра. Но, несмотря на дефект зрения, всё равно работала без очков, в результате отхватывая от рабочей части кольца большой шмат резины.
В половине одиннадцатого они позвонили в Москву. К вечеру несчастную бабку убрали с этого места, и всё наладилось.
Причём хитрые инженеры умудрились ещё и починить все подтекающие маслом машины из Кремлёвского гаража (тогда он обозначался аббревиатурой ГОН — «Гараж особого назначения») на коммерческой основе — заключили с гаражом трудовое соглашение и за пару дней устранили неисправности.
Извините, если кого обидел.
31 марта 2011
(обратно)
История про одного зоолога
А вот ещё история с открытой датой — в отличие от прошлого упыря, убийцы Набокова, человек это приличный.
Был такой препаратор, таксидермист, палеонтолог Евгений Васильевич Пфиценмайер (Pfizenmayer Eugen Wilhelm), родившийся в 1869 году. Он служил в Зоологическом музее с 1897 (Его специально позвали из Германии), принял в 1901 русское подданство и ездил в Сибирь за знаменитым мамонтом, о чём написал книгу (Пфиценмайер, Е.В. В Сибирь за мамонтом. Очерки из путешествия в Северо-Восточную Сибирь / Пер. с нем. Н. Нейман. — М.: Л., 1928 — 179 [2] с.: ил., карт.). С 1908 года он уже был в Тифлисе начальником музея.
Так вот, Евгений Васильевич был человеком непростой судьбы — когда началась война с немцами, его, было не тронули, но 5 августа 1916 арестовали по подозрению в шпионаже.
Он просидел полтора года, всё его имущество пропало, и известно только то, что в 1917 году он уехал в Вюртемберг.
Академические справочники заменяют дату его смерти вопросом.
Это всё очень грустно.
А ведь мог прожить долгую жизнь — в 1950 ему могло быть около восьмидесяти, если не погиб под бомбёжками.
Извините, если кого обидел.
31 марта 2011
(обратно)
История про приказ праздничного дня
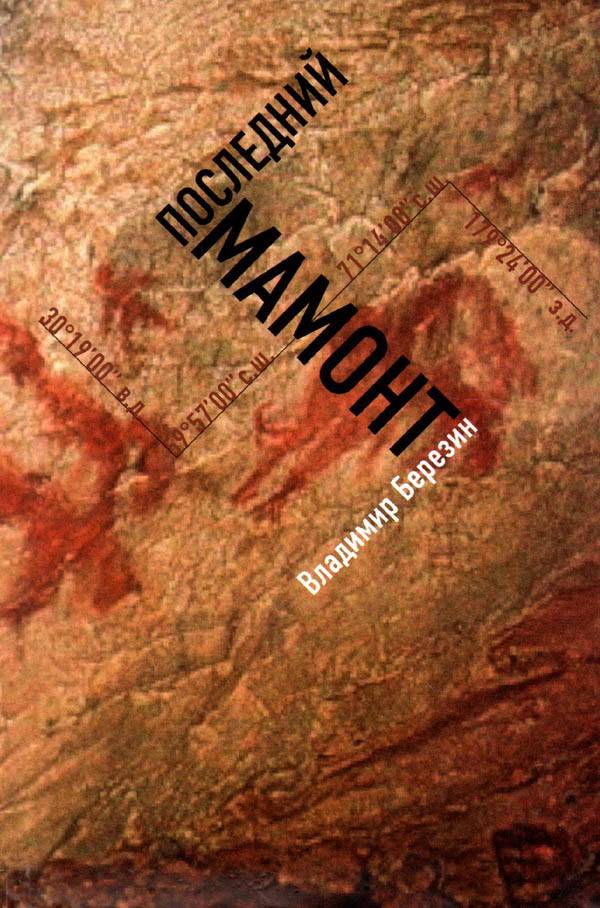
Ну, что — все сфабриковали на машинке фальшивый приказ об увольнении Кукушкинда? Все разослали его по двадцати адресам?
Это обязательно нужно сделать — ведь этот приказ № м228 уже 228 раз обошёл вокруг света.
И кто перепишет его двадцать раз — будет тому счастье.
А кто не перепишет его двадцать раз и не разошлёт друзьям — будет тому несчастье.
Маршал Тухачевский не переписал этот приказ двадцать раз, пожалел ленты на пишущей машинке "Ундервуд" — и прямо утром за ним пришли.
А вот маршал Ворошилов не пожалел ни ленты, ни своего времени — и сам пришёл за маршалом Тухачевским. И потом ещё много лет жил счастливо и богато, и даже посетил Индию.
А одна крестьянка перепечатала этот приказ двадцать раз, хотя и была неграмотна — и ей сразу было счастье.
Ей выдали по шесть луковиц на трудодень, и было ей оттого счастье.
А вот хасид Шнеерзон выкинул пришедший ему по почте приказ в корзину, и сразу было ему несчастье. Ему пришлось уехать в Израиль, где ему запретили есть сало и кататься на лифте по субботам.
А вот демократический человек Долидзе, служивший в одной бесперспективной партии переписал приказ об увольнении Кукушкинда, и сразу стал членом новой правящей партии и очень перспективным партийным работником.
И одна девушка, что боялась залететь, переписала этот приказ десять раз, и судьба стала к ней благосклонна — теперь у неё вообще никогда не будет детей..
А космонавт Трофимов получил этот приказ в письме перед стартом и не стал его переписывать.
И было ему несчастье. Его ракета промахнулась и улетела на Марс — и с тех пор космонавт Трофимов ходит по Марсу и питается какими-то червяками. А первым космонавтом вместо него стал Юрий Гагарин, который сами понимаете что сделал.
Торопитесь, ведь переписать и разослать приказ об увольнении Кукушкинда можно только один раз в году, то есть сегодня.
Секретные слова из этого приказа такие — хуггр-муггр, Даниил Андреев, 6814555ух.
Извините, если кого обидел.
01 апреля 2011
(обратно)
История про книги
Любимое телевидение показало мне фильм про Велесову книгу. Фильм как фильм, обычное говно — то, что называется "докудрамой" с переодеваниями и трагической музыкой. Но что меня поразило — так это новый поворот сюжета: история деревянных дощечек была продолжена вглубь от 1919 года.
То есть, она была не просто найдена в разорённом имении во время Гражданской войны, а была сначала привезена во Францию Анной Ярославной в качестве приданого, а затем восемьсот лет хранилась в католическом монастыре в качестве святыни (уже хорошо). Монастырь был разграблен во время Великой революции, а дощечки были подобраны русским дипломатом. На дипломата, ясен перец, начали охоту масоны, травили его, но так и не получили книги.
А потом явился
незабываемый 1919, и всё заверте…
Я уже начал ждать, что мне теперь расскажут про Николая Степановича Гумилёва, но тут фильм кончился.
У меня было подозрение, что Лазарчук с Успенским написали и Велесову книгу, но не до такой же степени.
Извините, если кого обидел.
02 апреля 2011
(обратно)
История про начальника геологического управления
Заговорили об А., и я подумал, что молва к нему была жестока более, чем он заслуживал — его дело мне представлялось мне тёмным, очень печальным. Однако к нему был приклеен небольшой, но заметный ярлык стукача, и, как мне рассказали, погибла его дочь, многие перешептывались, что вот она, расплата.
Жизнь наша состоит из тысяч злодейств, мелких и крупных, и одни общественность легко прощает, а на других концентрируется.
Этот процесс прихотлив и во многом непонятен. Да и само слово «стукач» мне вовсе не нравилось — им много разбрасывались, палили вхолостую и оттого боёк этого слова стёрся.
Но отвлёкшись от давно умершего человека я думал о самом механизме — отчего одним могут простить оговор, а другим — нет. Один мой родственник, человек, надо сказать, вовсе вне литературной среды, и присевший ещё в СЛОН говорил, что показания на допросе вообще для него не аргумент — «не оговорил никого? ну, мало били». И в моей голове срабатывает «обратный принцип Екатерины Второй»: лучше в десяти мучителях найти что-то доброе, чем пригвоздить к позорному столбу одного непричастного.
В ту пору многие оговаривали других, следователи садились на место подсудимых, и ряд исчезал — будто в гигантском «Тетрисе». И спустя много лет мы часто идём на поводу у ненаучности — «мог — значит сделал, логично — значит было».
Но я мизантроп, мне не нравятся люди в целом, и пуще — общественное мнение, что выносит приговоры безжалостно и небрежно и куда круче следователей и троек. Да, собственно, нам это писатель Даниэль доходчиво описал в известном рассказе. И душа моя сопротивляется этой лёгкости — много всякого могло быть с человеком, а отчётность пожелтевших сводок и протоколов изобилует приписками, не меньше чем статистика социалистических удоев и успехов птицеводства. Может быть, может быть, а может быть что-то другое.
Собственно, в этот момент я рассуждал об одном персонаже, который у меня ткался из ударов по клавишам, домашней пыли и ночных звуков большого города.
Был он начальником геологического управления Дальстроя, и, разумеется, генералом внутренней службы. Сразу после смерти Сталина (и первой реорганизации Дальстроя) в отставке, потом тридцать лет прожил в Москве, ничем, кажется, не занимаясь. Что там у него было, как? Это никому не известно, воспоминаний нет.
А ведь как я напишу, так и будет. И не сказать, что я, может, ночью спать не буду, но определённая боязнь написать роман «Чёрная металлургия». Что тогда делать?
Конечно, я всё-таки пишу прозу, а не биографическое исследование, и могу себе позволить шалости «там где документ заканчивается».
Но, чтобы надолго изменить образ человека, вовсе не нужно опираться на документ. Керенский всю жизнь оправдывался, что не бежал в женском платье, а бежал в мужском — но многие годы давнишнее острословие было непобедимо. Вот этого и стоило бы избегать.
Есть знаменитая статья Оксмана «Доносчики и предатели среди советских писателей и ученых», впервые опубликованная анонимно в 1963 году в эмигрантском журнале «Социалистический вестник» № 5/6." (Её перепечатал Журнал «Русская литература» 2005 в № 4, с. 161–163). Удивительно, что текст в Сети недоступен, удивительно. Стоп! Благодаря доброму
m_bezrodnyj она тут есть.
Извините, если кого обидел.
03 апреля 2011
(обратно)
История про статью Замятина о боязни
Евгений Замятин
Я БОЮСЬ
Впервые — в «Дом искусств. — Спб.: 1921 с. 43–46. Здесь по изданию Замятин Е. Избранное. — М.: Советская Россия, 1990.
Я боюсь, что мы слишком бережно и слишком многое храним из того, что нам досталось в наследие от дворцов. Вот все эти золоченые кресла — да, их надо сберечь: они так грациозны итак нежно лобызают любое седалище. И пусть бесспорно, что придворные поэты грацией и нежностью похожи на прелестные золоченые кресла. Но не ошибка ли, что институт придворных поэтов мы сохраняем не менее заботливо, чем золоченые кресла? Ведь остались только дворцы, но двора Уже нет.
Я боюсь, что мы слишком уж добродушны и что французская революция в разрушении всего придворного была беспощадней. В 1794 году 11 мессидора Пэйан, председатель комитета по народному просвещению, издал декрет — и вот что, между прочим, говорилось в этом декрете:
«Есть множество юрких авторов, постоянно следящих за злобой дня; они знают моду и окраску данного сезона; знают, когда надо надеть красный колпак и когда скинуть… В итоге они лишь развращают вкус и принижают искусство. Истинный гений творит вдумчиво и воплощает свои замыслы в а посредственность, притаившись под эгидой свободы, похищает её именем мимолетное торжество и срывает цветы эфемерного успеха…»
Этим презрительным декретом — французская революция гильотинировала переряженных придворных поэтов. А мы —
[404]
своих «юрких авторов, знающих, когда надеть красный кол пак и когда скинуть», когда петь сретение царя и когда молот и серп, — мы их преподносим народу как литературу, достойную революции. И литературные кентавры, давя друг друга и брыкаясь, мчатся в состязании на великолепный приз — монопольное право писания од, монопольное право рыцарски швырять грязью в интеллигенцию. Я боюсь — Пэйан прав — это лишь развращает и принижает искусство. И я боюсь, что если так будет и дальше, то весь последний период русской литературы войдет в историю под именем юркой школы, ибо неюркие вот уже два года молчат.
Что же внесли в литературу те, которые не молчали?
Наиюрчайшими оказались футуристы: не медля ни минуты — они объявили, что придворная школа — это, конечно они. И в течение года мы ничего не слышали, кроме их желтых, зеленых и малиновых торжествующих кликов. Но сочетание красного санкюлотского колпака с желтой кофтой и с не стертым еще вчерашним голубым цветочком на щеке — слишком кощунственно резало глаза даже неприхотливым: футуристам любезно показали на дверь те, чьими самозваными герольдами скакали футуристы. Футуризм сгинул. И по-прежнему среди плоско-жестяного футуристического моря один маяк — Маяковский. Потому что он — не из юрких: он пел революцию еще тогда, когда другие, сидя в Петербурге, обстреливали дальнобойными стихами Берлин. Но и этот великолепный маяк пока светит старым запасом своего «Я» и «Простого, как мычание». В «Героях и жертвах революции», в «Бубликах», в стихах о бабе у Врангеля — уже не прежний Маяковский, Эдисон, пионер, каждый шаг которого — просека в дебрях: из дебрей он вышел на ископыченный большак, он занялся усовершенствованием казенных сюжетов и ритмов. Впрочем, что же: Эдисон тоже усовершенствовал изобретение Грэхема Белла.
Лошадизм московских имажинистов — слишком явно придавлен чугунной тенью Маяковского. Но как бы они нe старались дурно пахнуть и вопить — им не перепахнуть и перевопить Маяковского. Имажинистская Америка, к сожалению, давненько открыта. И еще в эпоху Серафино один, считавший себя величайшим, поэт писал: «Если бы я не боялся смутить воздух вашей скромности золотым облаком почестей, я не мог бы удержаться от того, чтобы не убрать окна здания славы теми светлыми одеждами, которыми руки похвалы украшают спину имен, даруемых созданиям проходным…» (из письма Пиетро Аретино к герцогине Урбинской). «Руки похвалы» и «спина имен» — это ли не имажинизм?
[405]
Отличное и острое средство — image — стало целью, телега потащила коня.
Пролетарские писатели и поэты — усердно пытаются быть авиаторами, оседлав паровоз. Паровоз пыхтит искренне и старательно, но непохоже, чтобы он поднялся на воздух. За малыми исключениями (вроде Михаила Волкова в московской «Кузнице») — у всех пролеткультцев революционнейшее содержание и реакционнейшая форма. Пролеткультское искусство — пока шаг назад, к шестидесятым годам.
И я боюсь — аэропланы, из числа юрких, всегда будут обгонять честные паровозы и, «притаившись под эгидой свободы, похищать ее именем мимолетное торжество».
К счастью, у масс — чутье тоньше, чем думают. И поэтому торжество юрких — только мимолетно. Так мимолетно было торжество футуристов. Так же мимолетно проторжествовал Клюев, после патриотических стихов о подлом Вильгельме — восторгавшийся «окриком в декретах» и пулеметом (восхитительная рифма: пулемет — мед!). И, кажется, не торжествовал даже мимолетно Городецкий: на вечере в Думском зале он был принят холодно, а на его вечер в Доме Искусства — не пришло и десяти человек.
А неюркие молчат. Два года тому назад пробило «Двенадцать» Блока — и с последним, двенадцатым, ударом Блок замолчал. Еле замеченные — давно уже — промчались по темным, бестрамвайным улицам «Скифы». Одиноко белеют в темном вчера прошлогодние «Записки мечтателя» Алконоста. И мы слышим, как жалуется там Андрей Белый: «Обстоятельства жизни — рвут на части: автор подчас падает под бременем работы, ему чуждой; он месяцами не имеет возможности сосредоточиться и окончить недописанную Фразу. Часто за это время перед автором вставал вопрос, иужен ли он кому-нибудь, то есть нужен ли «Петербург», «Серебряный Голубь»? Может быть, автор нужен, как учитель «стиховедения»? Если бы это было так, автор немедленно положил бы перо и старался бы найти себе место среди чистильщиков улиц, чтобы не изнасиловать свою душу сурчатами литературной деятельности…»
Да, это одна из причин молчания подлинной литературы.
Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, если он хочет жить. В наши дни — в театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь; Тургенев во «Всемирной Литературе», несомненно, переводил бы Бальзака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Балтфлоте; техов служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить — жить так, как пять лет назад жил студент на сорок рублей,
[406]
— Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре «Ревизора» Тургеневу каждые два месяца по трое «Отцов и детей» Чехову — в месяц по сотне рассказов. Это кажется нелепой шуткой, но это, к несчастью, не шутка, а настоящие цифры Труд художника слова, медленно и мучительно-радостно «воплощающего свои замыслы в бронзе», и труд словоблуда работа Чехова и работа Брешко-Брешковского, — теперь расцениваются одинаково: на аршины, на листы. И перед писателем — выбор: или стать Брешко-Брешковским — или замолчать. Для писателя, для поэта настоящего выбор ясен.
Но даже и не в этом главное: голодать русские писатели привыкли. И не в бумаге дело: главная причина молчания — не хлебная и не бумажная, а гораздо тяжелее, прочнее, железней. Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически-правоверным, должен быть сегодня полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатоль Франс, — тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло.
Пытающиеся строить в наше необычайное время новую культуру часто обращают взоры далеко назад: к стадиону, к театру, к играм афинского демоса. Ретроспекция правильная. Но не надо забывать, что афинская а' yopà — афинский народ — умел слушать не только оды: он не боялся и жестоких бичей Аристофана. А мы… где нам думать об Аристофане, когда даже невиннейший «Работяга Словотеков» Горького снимается с репертуара, дабы охранить от соблазна этого малого несмышленыша — демос российский!
Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, по не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоя литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от как то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь я боюсь, что у русской литературы одно только будущее прошлое.
1921
Сурчатами = суррогатами. Не вношу эту пошлую правку по справедливому настоянию
roman_shmarakov
а' yopà — Он написал по-гречески: ἀγορὰ. А уж набрали как смогли. как нам прекрасно уточняет
platonicus
Извините, если кого обидел.
04 апреля 2011
(обратно)
История про юмор
Заговорили о юморе, и я заметил, что интересно было бы почитать книгу «История юмора». Я даже представляю себе издание — «Новое литературное обозрение», в серии между «Ароматы и запахи в культуре» и «История вилки».
Но, кажется, такой книги пока нет, а процессы, что происходят сейчас в смеховой культуре. Стремительны. Недавно мне жаловались, на то что молодые люди не знают радио Чипльдук — тем более, оно сейчас закрывается из-за недостатка средств. Молодые люди спрашивали, кто такой Кнышев.
Это история, трагическая вдвойне — с учётом того, что Кнышев несколько месяцев назад показал труды дел своих по телевизору. Это была такая попытка вернуться, что называлась «Дуплькич, или рычание ягнят».
Многие любили Кнышева и за это, ностальгия или цеховое чувства святы, ворону Кнышеву другие птицы глаз не выклюют.
Но я-то Человек-Северная-Корея, а изгоям ничего не страшно.
Страшно было, правда, немного, когда я это увидел. Дело в том, что «юмор» за последние тридцать лет ушёл очень далеко, ушла далеко сама технология юмора.
А Кнышев сделал чудовищно затянутую передачу, с несмешными шутками (пародию на телевидение, которое давно уже само — пародия). Это ужасно — как если бы сечас на трибуну вышел острослов времён Перестройки с шутками насчёт статей конституции и родимого пятна Горбачёва (речь не о политике, конечно, а о механизме подачи). Оказалось, какой-то тип сценичности стареет, да так стареет, что глядя на него нужно отвести глаза в сторону.
Факторов много — убыстрилась жизнь, и убыстрился юмор (я говорю не про валовую продукцию петросянов, конечно — она-то стабильна: шёл купец по фамилии Петерсен, поскользнулся и упал» — это явление вечно и удивительно статично. Эволюция ему без надобности).
Итак, шутка довольно быстро становится
бояном и вызывает вместо смеха раздражение. То есть шутка честная, качественная, но из-за мгновенного проникновения в Сеть она слишком быстро распространяется и надоедает.
Дальше — явление формата: многие табуированные вещи были смешны (ранний «Камеди-клаб» выехал на том, что слово «жопа» было табуировано на сцене), а теперь нет этой грани запрета, не через что преступать. Ну и, конечно, в своё время было открытием, что не только зритель из зала, но и артист со сцены может сказать зрителю «А, по-моему, ты — говно», но через пару лет этот приём просто не работает.
Тут есть ещё нечто поколенческое, сила юмористической ностальгии:
— Ах, деточка, я ещё в девушках была, когда выходит этот… И как пошутит про пидарасов!.. А Серёжа мой покойный в этот момент как мне колено и сожмет… Вспомнить приятно! И этот приём эксплуатируется пока только возможно.
Мне кажется, что у Кнышева безусловно останутся не визуальные проекты, а «Тоже книга» — из-за того, что у него там находки на универсальном, вневременном уровне. При этом спрос на клоунов сейчас особенно высок. Даже, я бы сказал, как никогда высок.
Да, в общем, что я говорю —
ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет.
Извините, если кого обидел.
04 апреля 2011
(обратно)
История по порядку ведения
Пока я тут торгую буфетами и роялями, тут оказывается, нововведения.
Во-первых, Живой Журнал второй раз был неживой и в этом усматривают гнусную руку гнусных спецслужб.
Во-вторых, СУПовцы веселят тем, что обрубили возможность длинных постов — правда, говорят, что это временная мера.(Эта длина-то и раньше была ограничена — я не всякий рассказ мог зафигачить, а теперь пост может быть около машинописной страницы — если кто не знает, она 1825 знаков). Тёмкин, Тёмкин, я брат твой! Поплачем вместе!
СУП, как я и говорил много лет назад ужасно напоминает ЖКХ, что паразитирует на народной инерции и проложенных при прежней власти, успевших проржаветь трубах.
Причём, когда трубы прорывает и все жильцы недоумённо стоят в говне, оказывается, что средства, которые собирали помесячно много лет, куда-то делись, а новых труб не проложили.
Их надо снова закупать, и поэтому нужно ужаться и потерпеть.
В-третьих, ко мне пристают развязные идиоты. А хотелось бы, конечно, чтобы приставали красивые девушки — как к герою известного квазихармсовского текста — "да и не они мучили героя, а он их".
Весна, текут ручьи, всё говно вперемешку с окурками лежит на ноздреватых сугробах, как на столах.
Извините, если кого обидел.
05 апреля 2011
(обратно)
История про прокладки
Разбирая шкаф с инструментами, обнаружил баночку с несколькими десятками уплотнителей для водопроводных кранов. Жуткий был дефицит при Советской власти. Часть прокладок — фабричная, а часть я сам резал из резиновых подошв.
Дело в том, что в старые времена водопроводные краны были не с шаровым запором, а внутри них выдвигался (при вращении барашка) шток с этой самой прокладкой уплотнителем. Через некоторое время он портился — то ли из механических причин, то ли из-за качества резины, не знаю.
Прокладку надо было менять.
Но их не было.
И вот он, запас.
Прямо смотрю и плачу.
Надо ведь выкинуть.
Извините, если кого обидел.
05 апреля 2011
(обратно)
История про официантов
…Официанты в этом греческом пансионате были чрезвычайно нерасторопны. То и дело они исчезали в вечность, отправлялись в странствия как Одиссей, а посетителю оставалось только плести бахрому на скатерти и снова распускать её.
Извините, если кого обидел.
08 апреля 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Оказывается, у вас есть книжка в серии ЖЗЛ. В нонешнее время это: некий символ успеха/признания/попадания в касту; добротный профессиональный заработок/приработок; что-то еще (плюс комбинация всего перечисленного?
— Ну всё происходящее есть комбинация множества свойств. ЖЗЛ сейчас главная биографическая серия, и, в общем, лучшая. В ней важна издательская культура — то есть, это не на коленке делается, а с правильным оформлением всего — до сносок и ссылок (по крайней мере то, что я видел, а я видел много). Я бы там ещё кое-что издал, но не хватает комбинации времени, бесстрашия и усидчивости — никак дописать не могу, а книга такая, что ругать будут обязательно. Потому как все имеют мнение об этом персонаже.
— Т. е. все-таки некий разговор типа — вот я такой крутой писатель, хочу биографическую книжку написать, возьмите меня к себе, буржуины проклятые — происходит. Кстати, а при историческом материализме автор ЖЗЛ — это было круто?
— Вовсе нет. Один раз мне предложили, второй раз я предложил. Но тут надо понимать, что эта серия вовсе не прибыльна — тиражи около пяти тысяч, так что гонорары невелики. Скорее, создаётся визитная карточка исследователя. Ну при историческом материализме любая книга это было круто — год можно было на гонорар от одной книги прожить. А то и больше.
— Я в бОльшей степени не про год прожить — автор этой серии при ИМ — это визитная карточка (кроме исследователя) кого? Допущенного к телу, добротного профессионала, краеведа/людоведа и т. д.?
— Тут нет общих правил, не только авторы, но и персонажи-то разные! Иногда это что-то типа беллетризованной (иногда даже не очень беллетризованной) диссертации. То есть, научный работник формулирует orbi et urbi свой взгляд на человека и его время. Иногда это возможность литературного произведения — то есть, человек более склонный к литературе, чем к точному знанию формализует своё видение (Таков «Лев Толстой» которого написал Виктор Шкловский — «Толстых» там, кстати, в разное время было три или четыре). Есть книги, которые пишутся именно «допущенными к телу» (но всё равно редактура производит зачистку и в некоторой мере унифицирует книгу в серии).
А при Советской власти там тоже разные расклады бывали — и Советская власть в разные сроки имела разный стиль, и люди тоже писали биографии кто более научные, кто более литературные.
— Ой, я ж совсем забыл, что это мы вас развлекать должны как восприняли бурление говн в своем жж? Каких-нибудь профессионально-денежных последствий не может быть, а то скажут клятые буржуины — не дадим тебе больше книжек биографических писать, и шабаш.
— К сожалению, этот абзац так синтаксически устроен, что я не сумел уловить его смысл.
— Тьфу, в первой фразе после «должны» вместо тире нажал Enter, строчка у меня в окошке набора перенеслась, а вам пошел сплошной текст. А вторая биографическая книжка — это про исход графа Льва Николаевича? Если да — кто был инициатором вы или издательство?
— Нет-нет, не про Толстого. Про Толстого я написал обычный роман, вернее, необычный роман про то как четверо друзей едут из Ясной Поляны в Астапово — на манер путешествия по Темзе лоботрясов Джером-Джерома. А в ЖЗЛ я хочу написать совсем про другого человека.
— У, а про кого? а этот прожект — нынешняя ЖЗЛ — он полностью коммерческий? Хотя бы 5К экземпляров, но расходится «на руки», без советского библиотечного фонда?
— Ну, знаете, если бы я хотел вам сказать про кого — так и сказал бы. Что до коммерческой составляющей, то 5000 экземпляров в серии как раз тот оптимум, который приводит к безубыточности. Сделать стартовый 30.000 — вот это уже риски, а напечатать пять тысяч, а потом, если книга будет знаменитой, допечатать — вот, собственно обычная стратегия крупных издательств.
— А в чём фишка — секретить имя? книжка же рано или поздно выйдет. Если как-то задел — мои извинения, я в ваших писательских вопросах полный… инопланетянин.
— Мне бы вашу уверенность — «рано или поздно».
— Особенности марсианского представления, а почему-то был уверен, что биографические книжки пишут только «с готовым контрактом». А почему Поляков? Отрасль чужая, это видно по обсуждению (на всякий случай — это ни разу не шпилька/подколка/попытка оскорбить).
— Она не совсем чужая — меня давно интересовали косыгинские реформы и история советского машиностроения, и книга собственно про это. Ну и обсуждения-то я такие видел многократно. На моих глазах автомобилисты чуть не в волосы друг другу вцеплялись — понимаете, есть несколько точек в обывательской культуре, которые похожи на спусковой крючок. Тронь его и человека начинает нести: «Да я, да вы! Да пока вы были грязными каплями, я сидел за рычагами боевой машины!»…
Это всё не от глупости даже, а просто человек так устроен. Потом оказывается, что кто-то в ажитации что-то недопонял, но остановиться уже не может. То есть, люди воюют не за истину, а ради самоутверждения.
Тут и хорошо быть чуть в стороне, быть спокойным исследователем. Человек неугомонно самоутверждающийся всегда выглядит глуповато — эта психотерапия не стоит свеч.
В той же книге приведена история молодого (тогда) инженера, что защищал проект в министерстве. Там один начальник уцепился за строчку «исходя из восьмого разряда», и закричал:
— Позвольте?! Какого восьмого разряда?! — по всей стране шестиразрядная рабочая сетка!
Инженер отвечал, что на его заводе, сохранена восьмиразрядная тарифная сетка. Они пошли к какому-то специалисту и тот подтвердил, что да, восемь. И что там сохранили эту сетку в порядке исключения.
А когда я сам работал на заводе, то считал, что больше шестого разряда не бывает. Привычки спорить не имел, и хорошо: ведь скажи мне кто про восьмой разряд, стал бы махать руками и опозорился. А так — просто узнал задним числом.
Такое в истории случается часто, так что полезно быть «над схваткой» — не строить из себя специалиста, лучшего, чем фигуранты, а слушать. Правда, если мне скажут, что секретный советские физики достигли температуры минус триста градусов, тут я фигуранта переспрошу.
— В отрасли предприятие знают по — что выпускает, кто начальники+изюминка(что-то необычное). Поволокли по коридорам+шептун-всезнайка — явный фольклор. 15 минут гугля-8е разряды АБСОЛЮТНО ЛЕГАЛЬНО дожили до конца Союза. Мне стало грустно, а вам?
— Мне стало как-то неловко. Беседует человек со мной, вдруг начинает волноваться, теряет грамматику и синтаксис. Наверное, он чем-то взволнован, надо ему помочь, а непонятно как.
— Березин, спасибо, когнитивный диссонанс рассосался. Вы удивительно точно недавно себя охарактеризовали — «не мешки ворочать». И ведь лет эдак через дцать ваша книжонка станет серьезным трудом/аргУментом в спорах, а написана-то она про людей как раз ворОчавших.
— Вот я и говорю, надо вам как-то помочь, успокоить, налить воды. А непонятно как. И от этого охватывает меня печаль.
— История про прокладки вызвала живой отклик. Не странно ли? Что это говорит о ваших почитателях?
— Что ж в этом странного? Вот если бы я заговорил о женских гигиенических прокладках, а два десятка мужчин это бы с жаром подхватили — вот тогда это было бы удивительно. А уж то, что много мужчин имеют своё мнение об автомобильных потрохах, и высказывают его, впадая в ажитацию — вполне ожидаемо.
Извините, если кого обидел.
08 апреля 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Знаете, почему сократили размер постов до печатной страницы? Потому что СУП жаден и не очень умен: вместо обрезки тяжелых рекламных бантиков и прочего дизегни, режет тексты юзеров.
— Это не вопрос. Это — утверждение.
— Хорошо, тогда вопрос: доколе? Вы лично не подумываете об альтернативном варианте? Можно ведь транслировать контент оттуда в жж, а в моменты неживости, как сейчас, спокойно обсуждать что угодно, подальше от ЖКХ.
— Мне кажется, что эсхатологическая паника «Нам всем конец, давайте искать ковчег»
сродни ажитации вокруг последнего листка отрывного календаря майя и планете Нибиру. Можно, конечно, метнуться и купить акции Компании по Строительству Спасительных Космических Кораблей, но можно и не суетиться.
Будем жить — пить-гулять будем, а смерть придёт — помирать будем.
Рецепт верный:
«1 фунтовый бифштекс и 1 пинта горького пива каждые 6 часов.
1 десятимильная прогулка ежедневно по утрам.
1 кровать ровно в 11 ч. вечера.
И не забивать себе голову вещами, которых не понимаешь».
— Да это не паника, а мысли о втором санузле, безо всякой суеты. Вот вы же завели вопрошальник, и мило отвечаете на вопросы, пока сантехники занимаются первым.
— Нет, этот вопрошальник совсем иная игра — что-то вроде фантов. То есть, это пространство, где некто может мне задать абсолютно анонимный вопрос.
Причём на любую тему — и весь фокус в том, что я не веду здесь диалог (и этот бы не вёл, потому что мне тут диалоги не нравятся).
То есть, я тут отвечаю на отъединённые вопросы, причём говорю даже с потенциальным знакомым как с настоящим анонимом. Это очень интересный опыт именно в процедуре ответов, когда я даже и не хочу знать, кто меня спрашивает. Это вопросы Мироздания.
— Кто вопросы задает? Им (нам) что — делать нечего? И охота Вам с такой публикой дело иметь? (Поберегите себя для русской литературы (науки).)
— Ну так ведь и читатели ровно такие же — есть те, кому нужно разобраться, есть обиженные жизнью, а есть просто пьяные. Ничего страшного, главное, чтобы специально не мусорили.
Это ведь как в гостях — если вы нечаянно тарелку разбили, ваш друг-хозяин только вздохнёт, а если вы приметесь один за другим предметом весь сервиз бить, то вас быстро выведут, да ещё и по шее надают.
— Это вопросы Мироздания? Не льстите ли Вы нам/себе?
— Ну, если вы меня внимательно читаете, то я говорю: «я воспринимаю это как вопросы Мироздания». А так-то кому и кобыла невеста.
Иногда ведь у меня в глубине души шевелится подозрение, что спрашивающий — просто идиот, но я это чувство подавляю: Мироздание так Мироздание.
— Это вы так думаете, а у Мироздания могут быть другие правила игры в ваш вопрошальник. И что тогда?
— А это зависит от степени агностицизма. У меня — очень высокая.
Извините, если кого обидел.
08 апреля 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Читали последнюю книгу Л. Гинзбург?
— Если последняя (сама она умерла двадцать лет назад, понятное дело) — «Проходящие характеры: Проза военных лет. Записки блокадного человека» — то нет. Я не знаю чем она отличается от моего издания, которым я прилежно пользуюсь: Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. — Спб.: Искусство-Спб, 2002. — 768 с.
Наверное, примечаниями, что мне немного обидно, но что делать. Однако почти восемь сотен страниц, я думаю, перекрывают многое.
— Откуда такой интерес к Записным книжкам Гинзбург, и как вы ими прилежно пользуетесь?
— Гинзбург одна из «младоформалистов» и часть той среды, которая мне давно была интересна — история литературы двадцатых и тридцатых годов прошлого века, Тынянов, Шкловский и Эйхенбаум.
С другой стороны, она мастер точных наблюдений безотносительно от её специальности.
А когда питерцы издали этот толстый том лет десять назад, я сказал им, что напишу про него статью, а они пусть только мне его подарят (он какой-то ужасно дорогой по тем временам был).
Извините, если кого обидел.
08 апреля 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
***
— Какие события (явления) в общественной жизни России внушают Вам надежды?
— Восходы и закаты.
***
— Вы любите петь?
— А то как же!
— А что поете и каким голосом — басом там, баритоном?
— «Раскинулось море широко» — надтреснутым баритоном, годным для исполнения в электричках.
— Надтреснутым, о как. Женщинам, поди, нравится?
— Нет, траченые жизнью мужики больше подают.
***
— Что с погодой творится, а?! Снег и гроза, возможно ли такое?
— Это зависит от того, насколько последовательный вы агностик.
— А теперь и вовсе солнце. Как можно сохранить последовательность в таких условиях?
— Зависит от вашей веры.
***
— А бывает у вас, что хочешь что-то изменить, что-то сделать не так как обычно делаешь. Готовишься к этому, но когда наступает момент, какая-то «консервативная» пружина возвращает к привычному образу. Какой-то предохранитель встроенный не пускает меняться?
— Конечно, бывает. Я вообще постоянно борюсь с собственной ленью.
***
— На какую тему Вы хотели бы прочесть цикл лекций (например, на канале «Культура»)?
— Это хороший вопрос, потому что он сразу напоминает мне о разнице между «могу» и «хочу». То есть, я бы очень хотел бы почесть цикл лекции о литературе двадцатых годов прошлого века, о том, что именно в ней сконцентрирован шанс на выживание для литературы нынешней. Но есть десятки докторов наук, которые этим занимаются и меня попросту съедят.
Причём съедят не просто так, а действительно поймав на неточностях — ведь я писатель, а не доктор наук.
А вот мог бы я прочесть лекцию о современной мистике — о том, как на смену вере в научный прогресс приходит вера в мистику, во все эти заговоры (во всех смыслах этого слова), про то, как живёт сейчас научное знание. Ну, и как давит на него мистическое сознание.
Вот это, я думаю, было бы интересно.
— А вы сами чувствуете давление мистического сознания на научное знание, внутри себя? (Вопрос мой, наверное, идиотский, но зато ноги длинные).
— Я-то чувствую, но мне легче, чем многим: я написал тогда мистический рассказ — и порядок! Освободился.
И поэтому в остальной жизни я совершенно не мистик.
В остальной жизни у меня строго.
Если ко мне электрик забредёт, а потом будет оправдываться, что не починил проводку, потому что в квартире феншуй некачественный, и надо на полу пентаграмму нарисовать, то конец этому электрику.
Извините, если кого обидел.
09 апреля 2011
(обратно)
История про пятничный вечер
Как и заведено, приходили алкоголики.
Непростой вечер.
Да и снег пошёл.
Полночи шёл. От алкоголиков осталась масса скоромной еды. Теперь надо придумать, как её реализовать.
Извините, если кого обидел.
09 апреля 2011
(обратно)
История про алкоголиков — 2
Среди ночных разговоров с алкоголиками я пытался запомнить некоторое наблюдение: мне стали интересны человеческие судьбы, судьбы старых знакомых. И за много лет судьбы эти поворачивались, дёргались из стороны в сторону, и живой человек. с которым я был неблизко (важно. что неблизко) знаком, превращался в персонажа. И моя судьба виляла, происходило то, что один удавленник точно описал "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?!" — с таким оттенком недоумения и ужаса. Но вот дальние знакомые — да, с ними всё выходило ужасно интересно — как на сцене. Вышла замуж за француза, Работает главой представительства. Лежит на Донском. Уехал в Новую Зеландию — удивительно, к каким коротким предложениям сводима чужая жизнь, и ты-то думаешь. что твою жизнь так просто не опишешь.
Извините, если кого обидел.
09 апреля 2011
(обратно)
История про алкоголиков — 3
Снег выпал, с ним была плутовка такова.
С моими алкоголиками интересно, и я обнаружил ещё одно (то есть, я это и раньше замечал, но в эту ночь как-то особенно заметил) — это особенный тип суетливости пьяного человека. Пьяный человек, в своей средней, промежуточной стадии опьянения, очень хочет быть полезен обществу, и начинает кормить окружающих. Вернее, пытаться кормить.
То есть, он развивает какую-то утомительную активность, причём мой любимый алкоголик в этот момент забывает, что он не дома, и принимается командовать. Он норовит кормить женщин сложной судьбы, оказавшихся за столом, но, обессиленный, требует этого от меня, как от владельца трактира.
Это какое-то очень странное сочетание настойчивости и бессилия.
Я ему дивился.
Извините, если кого обидел.
09 апреля 2011
(обратно)
История про мирное небо
А вот сегодня — день ПВО. С чем сотоварищей своих и поздравляю.
Извините, если кого обидел.
10 апреля 2011
(обратно)
История про назидание
Я всё же думаю, что компания СУП дана мне (не знаю уж, как остальным) в назидание. Я ведь помню Живой Журнал на разных стадиях — до кодов-приглашений, с приглашениями, а потом снова без них. Короче говоря, я помню его до СУПа.
А СУП оказался, как я уже говорил, чем-то вроде современного ЖКХ. Взносы платятся, помещения сдаются, но трубы текут, а работники вопиют, что скажите спасибо, что на вас, граждане, ещё потолки не падают (хотя это заслуга ещё прежнего поколения строителей). Но СУП ещё и современная компания — с хорошими окладами, с фронтальной монетизацией и всем, что полагается.
Некоторое количество моих друзей там работали — и довольно большое количество знакомых получало эти деньги.
Правда, надо оговориться сразу: нравственные назидания — это как бочка с говном. Одно неловкое движение, и сами понимаете что будет.
Итак, начинается самое интересное — в разные годы я видел множество людей, что пиздили нефть, недоплачивали налоги, спекулировали квартирами и всё такое. Видел я людей, что делали аналогичные вещи в разных отраслях капиталистического хозяйства — и все они всё равно сходились за общими столами в разных кафе.
Конечно, никому в голову не приходило хвастаться тем, что он, риэлтер (к примеру) выгнал старичков
на мороз в Реутов и выгодно перепродал их четырёхкомнатную квартиру в сталинской высотке (у меня много аналогий с недвижимостью, да). То есть, некоторые персонажи умудрялись, конечно, хвастаться — даже в медиа, но не о них речь.
История с СУПом тем интересна, что она задокументирована в Сети — то, как били в бубен, открывая его, как постили картины неземной красоты интерьеров с видом не на пол-Москвы, а на всю Москву. То, как туда приходили разные люди, и будто приняв присягу, вдруг начинали хамить (мне и некоторым дамам как-то хамил лично юзер другой — перед дамами, правда, потом извинился, а я как энтомолог, не в обиде).
А другие люди с разной степенью умения оправдывали другие огрехи компании — часто это выходило как с Полонским и Mirax Group.
Интересна грань, до которой либеральный и метросексуальный (извините) человек готов прощать другим дурную работу — оказывалось, что плохую работу правительства никто не прощает, или там дурную работу врача, а собственную бессмысленную работу в качестве офисной плесени или некачественного топ-менеджера всем было легко оправдать.
То есть, те люди, что ездили в Гоа, пили на корпоративах, были как бы видовым образом "свои", потому что места кормления были схожи, как и сорта алкоголя.
И если кто-то работал плохо, это было в порядке вещей затратной экономики.
А вот дурная работа СУПа встала как-то всем поперёк.
Я, кстати, вовсе не могу сказать, что СУП — образцово-плохая структура, помесь гестапо и оргкомитета жидомасонского заговора — вовсе нет. Это просто зеркало определённой социальной среды. Особое такое зеркало.
Например, я как-то работал с нефтью, так там просто нефть не умела разговаривать, а доходный материал, с которым имеет дело СУП умеет говорить и стучать по клавишам. А так-то нефть вам много бы рассказала, и как её за углеводород не считают, и как на землю льют, и про вскрытие линзы варварским способом, и как… Ну, понимаете.
В этом и назидание — то есть, размышления о том, где тут грань видовых отношений? Люди в СУПе были ведь не правительством, не чекистами-негодяями, а ровно такими же любителями индийского Коктебеля, как и те, у кого подвисал обвешенный какой-то рекламной хренью журнал.
Тут, кстати, парадокс: благосостояние СУПа впрямую зависит от контента, так что аргумент "вы же бесплатно пользуетесь, так и не петюкайте" работает, да не совсем.
Зеркало, одним словом.
Врубель, Леонид Ильич.
Ага, вижу, что недорогая.
Извините, если кого обидел.
10 апреля 2011
(обратно)
История про юбилейный полтинник
Сегодня очень интересный праздник, хороший — потому что искренний, причём и тогда он был искренний, и сейчас это что-то вроде Нового года.
Правда при этом смотреть телевизор совершенно невозможно, потому что медиа устроены так, что в случае большого события надо сказать что-то оригинальное.
И среди телевизионных каналов начинается космическая гонка оригинальностей.
Новые тайны — это вновь открытые новые тайны космоса. ракет. космонавтов, Сталина и Берии, Королёва и Гагарина, новые тайны того как Гагарин сел, а потом встал. Новые тайны и новые очевидцы.
А ничего оригинального говорить не надо — и про МиГ-15 про Киржачом, и про прыжки с балкона, и про пистолет в бардачке космического корабля.
Но я-то этих людей понимаю — поставь надо мной какого начальника, испытаю то же ленивый бунт на коленях. Не захочешь, а сделаешь.
Одно хорошо — Черток жив и вполне бодр. Говорит связно, сидит в телевизоре как оправдание всему этому безобразию. Кремень образца 1912 года.
Пусть на него глянут, авось кому стыдно будет.
Извините, если кого обидел.
12 апреля 2011
(обратно)
История про Березина и Довлатова
Мы все живём рядом с общественно-значимыми людьми.
У Довлатова в «Чемодане» есть вот такой эпизод: «…Разговор, естественно, зашёл о литературе. Если Лена называла имя Гладилина, я переспрашивал:
— Толя Гладилин?
Если речь заходила о Шукшине, я уточнял:
— Вася Шукшин?
Когда же заговорили про Ахмадулину, я негромко воскликнул:
— Беллочка!..».
Так вот, писал мой далёкий друг уже своим друзьям: «… примерно по такой же схеме строился на вчерашне-сегодняшний разговор с Березиным про Живой Журнал, то есть, если я говорил:
— N*** (нет-нет, — имен не называем), то Березин восклицал:
— Ну, как же!!! N***!..
…Все это было интересно и познавательно, — иногда открывались совершенно неожиданные параллели. Разговор происходил за распитием Массандровских вин: сначала под бутылочку Мадеры, затем Муската белого, затем Мускателя розового…..наутро я понял, что совершенно отвык от употребления десертных вин… А Березин поехал в Севастополь, — чтобы выкурить трубку на Графской Пристани».
Кто-то из хороших писателей старшего поколения, вот уж точно не помню — кто, рассказывал такую историю. Катаев, уже на излёте жизни, выступал на каком-то мероприятии, и начал рассказывать о Горьком. Но в какой-то момент рассказа что-то в нём переключилось, и он стал произносить вместо фамилии «Горький» — фамилию «Гоголь».
Так и звучало над залом «Гоголь мне как-то сказал…» и «Мы с Гоголем вышли на невский Проспект…». Кто-то решил поправить Катаева, но его одёрнули: ему — можно. Он и с Гоголем наверняка… Он — со всеми…
Эт созвучно с наблюдением того же Довлатова: «…В его мемуарах снисходительно упоминались — Набоков, Бунин, Рахманинов, Шагал. Они представали заурядными, симпатичными, чуточку назойливыми людьми. Например, *** писал: «…Глубкой ночью мне позвонил Иван Бунин»… Или: «На перроне меня остановил изрядно запыхавшийся Шагал»… Или: «В эту бильярдную меня затащил Набоков»… Или: «Боясь обидеть Рахманинова, я всё-таки зашел на его концерт»… Выходило, что знаменитости настойчиво преследовали ***. Хотя почему-то в своих мемуарах его не упомянули…».
На самом деле знаменитости — рядом.
Вот они — тут, сделай шаг, произнеси слово, и можно врать потомкам вечно.
Если доживёшь.
Извините, если кого обидел.
12 апреля 2011
(обратно)
История про посмертные загадки
Заговорили об Аверченко, и, в частности, о том, что у него очень часто в рассказах бывают фразы, которые стоят самого рассказа.
Я сразу вспомнил, что полжизни повторяю фразу Аверченко: "Жестокий это боксёр — Константинополь. Каменеет лицо от его ударов". Я бы, может, даже исключил бы первое предложение — но сам рассказ был неплохой, А ведь у иного писателя бывает и совсем по-другому: рассказ — дрянь, а фраза за фразой — блистательные. Рассказ превращается в сборник афоризмов. А текст распадается как кубик сахара в стакане.
Так вот, у Аверченко, кстати, есть такой рассказ "Страшный человек".
Он начинается так: "В одной транспортной конторе (перевозка и застрахование грузов) служил помощником счетовода мещанин Матвей Петрович Химиков…" и рассказывает — разумеется — о маленьком человеке и его тщетных попытках сделать свою жизнь осмысленной и значительной. Ну, а потом, разумеется, герой умирает:
"Химиков лежал на своей убогой кровати, смотря остановившимся взглядом в потолок.
Около него сидел неутешный хозяйский сын Мотька и, со слезами на грязном лице, гладил бледную руку Химикова.
— Да… брат… Мотя, — подмигнул ему Химиков, — много я грешил на своем веку, и вот теперь расплата.
— Мама говорила, что, может, не умрете, — попытался обрадовать страшного счетовода Мотька.
— Нет уж, брат… Пожито, пограблено, выпущено крови довольно. Мотя, у меня не было друзей, кроме тебя… Хочешь, я тебе подарю, что мне дороже всего, — мой кинжал?
На минуту Мотькины глаза засверкали радостью.
— Спасибо, Матвей Петрович! Я тоже, когда вырасту, буду им убивать.
— Ха-ха-ха! — зловеще засмеялся Химиков. — Вот он, мой наследник и продолжатель моего дела! Мотя, жди, когда придут к тебе трое людей в плащах, с винтовками в руках, — тогда начинайте действовать. Пусть льется кровь сильных в защиту слабых.
Уже несколько времени Химиков ломал голову над разрешением одного вопроса: какие сказать ему последние предсмертные слова: было много красивых фраз, по все они не нравились Химикову. И он мучительно думал.
Над Химиковым склонился доктор и Мотькина мать.
— Кто он такой? — шепотом спросил доктор, удивленно смотря на висевшую в углу громадную шляпу и плащ.
— Лекарь, — с трудом сказал Химиков, открывая глаза, — тебе не удастся проникнуть в тайну моего рождения. Ха-ха-ха!
Он схватился за грудь и прохрипел:
— Души загубленных мной толпятся перед моими глазами длинной вереницей… Но дам я за них ответ только перед престолом Всевыш… Засни, Красный Матвей!!!
И затих".
По-моему, всё это — это естественное желание человека (меня, по крайней мере, оно посещало — едко кто, правда, кто настоящую виртуальную реальность доводит до осязаемого состояния). Но, если поискать, наверняка кто-то из великих ещё отметился. Так же, как и Ферма, который по слухам, с постановкой задачи своей знаменитой теоремы приписал на полях: "Я вообще-то доказал всё это, но тут на полях слишком мало места, и я как-нибудь потом запишу". Ничего, разумеется, потом не записал. И несколько веков посмертно морочил всем головы.
Извините, если кого обидел.
13 апреля 2011
(обратно)
История про текущие наблюдения
А всё же верно, мало что так задевает, как желание умного спокойного разговора с достойным собеседником.
Ведь есть же люди, что каждый день проводят в таких беседах, а?
Говорят, правда, что для этого нужна чума и бегство из города на дачу.
Извините, если кого обидел.
13 апреля 2011
(обратно)
История про радиоголоса
…А сейчас я расскажу про географию звуков и историю электрических помех.
Я всегда предпочитал приёмник магнитофону. В недавнем, или уже давнем, прошлом телепрограммы оканчивались в половине двенадцатого ночи, а в полночь, вместе с гимном, умирало радио.
Тогда я уже жил один, и мне казалось, что в этой ночи я отрезан от мира.
Содержимое магнитной пленки было предсказуемо, и только радио могло меня спасти.
Я уповал на приемник, который в хрипах и дребезге коротковолнового диапазона рождал голос и музыку. Тогда одиночество исчезало. Тонкая выдвижная антенна связывала меня со всеми живущими.
В приёмнике что-то булькало и улюлюкало, но я знал, что эти звуки будут жить всю ночь, будут продолжаться и продолжаться, и не угадать, что начнется за этим шумом и речью, а что последует дальше.
Непредсказуемость и вечность ночного эфира внушала надежду, и приёмник звенел в углу единственным собеседником.
Голос и одиночество несовместимы — вот в чём прелесть этой ситуации.
В чужих городах самое хорошее время — позднее утро. Запах высыхающей на траве росы. Время, когда жители разошлись по делам; поют пернатые, за кустом виднеется что-то хвойное, а там, дальше, в соседнем дворе — облако цветущей вишни.
Я сидел и слушал радио — средние волны были оккупированы французами, длинные — немцами, на коротких царило заунывное пение муэдзина.
Иные диапазоны мне были недоступны.
Включение и выключение света, работа кипятильника, его включение и выключение — всё отзывалось в моем приемнике, кроме голоса с Родины. Однажды русский голос в приемнике, как бы в наказание за то, что первый раз, прокручивая ручку настройки, я им побрезговал — исчез, пропал, превратился в шорох и шелест. Забормотал какой-то другой радиочеловек, которому, казалось, накинули платок на рот. Забормотал, забился он под своим платком — видно, последние минуты подошли, и надо сказать главное, сокровенное — но ничего непонятно, уже и его миновала полоса настройки, отделяющая большее от меньшего, будущее от прошедшего.
Волна менялась, плыла. Цензурированное уходящей волной сообщение приобретало особый смысл.
И совсем в другое время в той чужой стране, я поймал по какому-то (кажется, именно итальянскому) радио всё туже коммунистическую песню. А песня была не какая-то, какая-то она была лишь в первое мгновение, потому что дальше все было понятно, несмотря на чужой язык. И девушка брала винтовку убитого, Рим был в 11 часов, янки — на Сицилии, а дядюшка Джо ворочался в своей России, давя немцев как клопов — каждым движением. И опять был в этой песне отсвет великой идеи, и всё это мешалось с червонными маками у Монте-Кассино да песнями Варшавского гетто, русской «Катюшей», да медленно разворачивающимся «Эх, дороги, пыль да туман…» — всем тем, с чем люди жили и помирали, когда и где было назначено свыше — просто и с болью.
Не героически, в общем.
Извините, если кого обидел.
13 апреля 2011
(обратно)
История про прикосновение к кумирам
Внезапно обнаружил
отвечалку заслуженно знаменитого филолога Лейбова.
Редко когда увидишь этакие вменяемые ответы на совершенно разные вопросы.
И ведь я с ним хлеб преломил на бульварах. Да что там хлеб, я там водку пил из одноразовой баночки, называвшуюся в обиходе "русский йогурт" (а заслуженно знаменитый филолог — что-то более возвышенное) — и нас, за этим занятием там подсмотрели мои родственники.
Сразу вспомнил историю, что изложена в мемуарах Николая Чуковского:
«В 1911–1912 мы жили в Петербурге, на Суворовском проспекте. Мне было тогда 7 лет. Я помню вечер, дождь, мы выходим с папой из “Пассажа” на Невский»… Какой-то человек подходит к ним: "Остановясь под фонарём, он минут пять разговаривал с папой. Из разговора их я не помню ни слова. Он был высок и очень прямо держался, в шляпе, в мокром от дождя макинтоше, блестевшем в ярком свете электрических фонарей Невского.
Он пошёл направо, в сторону Адмиралтейства, а мы с папой налево. Когда мы остались одни, папа сказал мне:
— Это поэт Блок. Он совершенно пьян».
[20]
Извините, если кого обидел.
14 апреля 2011
(обратно)
История про поэта
Ну что, суки, убили Маяковского? А? А?!
Извините, если кого обидел.
14 апреля 2011
(обратно)
История про происходящее за окном
О, как! Тьма покрыла ненавидимый Прокуратором город! Ну и снег, натурально.
Извините, если кого обидел.
19 апреля 2011
(обратно)
История про вопросы и ответом
Пошёл глядеть на то, как красивые женщины общаются с публикой посредством forspringme. Это повергло меня в какую-то скорбь: это всегда со мной бывает, когда я вижу остроумных женщин.
Когда ко мне пришёл вечером Синдерюшкин, то я сразу же нажаловался ему.
— А я… А там… Красота неописуемая, а там ещё… — я немного поплакал у него на плече, а потом рассказал, как ко мне заходили алкоголики.
Сначала приходили алкоголики мои, обычно-пятничные вкупе со своими девушками трудной судьбы. А вот на следующий день пришли одноклассники моей матушки и, выпив три бутылки вина на тринадцать человек, весело кричали друг другу "Эй, девчонки! А, мальчишки"!"
Я задумался над тем, отчего мне так понравились эти старики. (Это известная реприза — когда славят старшее поколение и поносят сверстников. Я, кстати, встречал это у юных и красивых, но немудрых девушек — встречал в разном возрасти, и даже когда это была похвала мне, радости в ней не оказалось).
Так вот, я задумался о стариках, и решил, что это всё-таки поколенческое — они родились тогда, когда война стала клониться к Победе, в горькой любви и надежде, потом большая из них делала самолёты и ракеты. Психологические кризисы происходили и проходили на фоне общего технократического дела.
А теперь они радовались каждому дню — просто так, без надежд.
Сверстникам моим для радости нужна была надежда, маяк завтрашнего дня. А этим — нет, без маяка они радовались. Просто так.
Синдерюшкин, меж тем стал обнюхивать бутылки стариков, и цокая языком, хвалил их выбор и то, что ему досталось.
А потом мы поговорили о классовом чутье деклассированных людей, о фрондёрской любви к Михалкову, о конце света, о миграции блог(г)еров, о изменениях в погоде в связи с сегодняшним снегом и, разумеется, об умных красивых женщинах, с которых я и начал этот рассказ.
Извините, если кого обидел.
19 апреля 2011
(обратно)
История про грелку
А, может, кому надо рассказ на "Грелке" обозреть? А то я готов тряхнуть стариной.
Накануне меня попросили прочитать работы, присланные на один конкурс рассказа о любви. Я деловито спросил о злате, мне скорбно отвечали, что на моё злато не предусмотрены бюджеты.
— Но, — сказали мне, — наше агентство занимается организацией свадеб, и мы можем вам сделать скидку. Ну и на свадебное путешествие тоже.
Я ужасно развеселился (если кого заинтересовало, обращайтесь), а сам, впрочем, подумал, не устраивает ли какое агентство ритуальных услуг конкурс рассказа "Проходящая скорбь" или "Все там будем".
Потому как невесты на меня вряд ли польстятся, а вот эти услуги точно понадобятся всем без исключения.
Извините, если кого обидел.
20 апреля 2011
(обратно)
История про уготовления
Ну, поскольку я грелочников, кажется, распугал и никто рецензироваться не хочет, я расскажу про одну историю из Тынянова.
Дело в том, что мотив бегства к врагу в русской культуре старый и не с Курбского начался.
Он был всегда, и более чем в других народах был темой трепетной.
Бегство и предательство всегда было темой особой и готовых решений никто не имел (Булгарин сделал неплохую карьеру, но это так, к слову).
А в "Смерти Вазир-Мухтара" предательство — едва ли не главный мотив.
Есть там одна линия, связанная с русскими беглыми — солдатами и офицерами, что перешли на сторону персов и воюют со своими бывшими товарищами. Много лет я любил фразу Тынянова о том, что он начинает работу там, где кончается документ. Но действительность, как всегда богаче наших представлений о ней — и историчность Тынянова каждый раз оказывается особой, сложной. Неоднозначной.
И вот, эти русские…
Но нет, я вспомнил о разбежавшихся грелочниках. Обожду, пожалуй — пойду-ка я красить яйца.
Извините, если кого обидел.
21 апреля 2011
(обратно)
История про кулич
Вот наказал Господь: кулич у меня плохо поднимается. А ведь какой кулич выходил, какой кулич! И пахнет совершенно одуряюще.
Меж тем сходил за фисташками
nina_petrovna как всегда меня обманула: как я не искал, ни одной кошки в окрестностях не обнаружил. Но уж мне не привыкать.
Извините, если кого обидел.
21 апреля 2011
(обратно)
История про Светлое Христово Воскресенье
Залупил яичко с утра, что и говорить.
А потом отправился с профессором Владимиром Павловичем и неизменным спутником Иваном Владимировичем кататься на речном трамвайчике (праздники сместились, и теперь коммерческая навигация наступает ранее Первомая).
Говорили, впрочем, всё о том же — о девах былых времён.
Извините, если кого обидел.
24 апреля 2011
(обратно)
История про науку
А вот вопрос — не помнит ли кто автора фразы о том, что всякое явление можно считать умершим в тот момент, как появляется наука, хорошо его описывающая?
Мне казалось, что я слышал его применительно к филологии и литературе — но могу ошибаться. Мысль-то, поскольку радикальна, лежит на поверхности и могла приходить в голову многим (и мне) одновременно и порознь.
Извините, если кого обидел.
25 апреля 2011
(обратно)
История про утренние звонки
Утро началось с того, что ровно в девять утра мне позвонила компания "Мобильные телесистемы" и начала рекламировать бесплатное подключение. Вот ведь бесстрашные люди! Ничего не боятся.
Извините, если кого обидел.
25 апреля 2011
(обратно)
История про воспоминания Чудакова о Шкловском
Чудаков А. Спрашивая Шкловского. «Литературное обозрение» № 6, 1990
Номера страниц даны в заголовках комментариев.
По техническим причинам (ограничение объёма) страницы публикации пришлось разбить на два комментария.
Извините, если кого обидел.
25 апреля 2011
(обратно)
История о неверности
А вот вопрос — откуда пошло выражение
"Почему сие неверно во-вторых/в-третьих, в пятых" — я не так давно натыкался на ответ где-то в Живом Журнале, но никак не могу найти этой дискуссии.
Это очень известный текст русской классики (ранее 1923 года, во всяком случае), но мне память отшибло.
Это повесть Лескова, "Шерамур":
— Ко мне раз поп пришел, когда я ребят учу: "Ну, говорит, отвечай, что хранилось в ковчеге завета!" Мальчик говорит: "расцветший жезл Аваронов, чашка с манной кашей и скрыжи".
— "А что на скрыжах?"
— "Заповеди", — и все отвечал. А поп вдруг говорил, говорил о чем-то и спрашивает: "А почему сие важно в-пятых?"
Мальчонка не знает, и я не знаю: почему сие важно в-пятых. Он говорит: "Детки! вот каков ваш наставник — сам не знает: почему сие важнов-пятых?" Все и стали смеяться.
— Ученики ваши?
— Ребятишки отцам рассказали: "Учитель, мол, питерский, а не знает: почему сие важно в-пятых? Батюшка спросил, а он и ничего". А отцы и рады: "какой это, подхватили, учитель, это — дурак. Мы детей к нему не пустим, а к графинюшке пустим: если покосец даст покосить — пусть тогда ребятки к ней ходят, поют, ништо, худого нет".
Я так и остался.
Но и у Куприна в "Поединке" есть вот какое место:
"Другой офицер, подпоручик Епифанов, любил задавать своему денщику мудреные, пожалуй, вряд ли ему самому понятные вопросы. "Какого ты мнения, друг мой, — спрашивал он, — о реставрации монархического начала в современной Франции?" И денщик, не сморгнув, отвечал: "Точно так, ваше благородие, это выходит очень хорошо". Поручик Бобетинский учил денщика катехизису, и тот без запинки отвечал на самые удивительные, оторванные от всего вопросы: "Почему сие важно в-третьих?" — "Сие в-третьих не важно", или: "Какого мнения о сем святая церковь?" — "Святая церковь о сем умалчивает".
И вот теперь становится полной загадкой, кого имел в виду Лев Давидович Троцкий, когда в 1923 году писал:
"И наконец, — „почему сие неверно в-пятых“ — Шкловский приводит в качестве отдельного аргумента конкретный сюжет похищения, который прошел через греческую комедию и дошел до Островского"…
Извините, если кого обидел.
25 апреля 2011
(обратно)
История про один мотив
Дело в том, что мотив бегства к врагу в русской культуре старый и начался не с Курбского.
Этот мотив жил всегда, и более чем в других народах был темой трепетной. Бегство и предательство всегда было темой особой и готовых решений никто не имел, писаные правила не существовали. Булгарин сделал неплохую карьеру, но это так, к слову. В романе «Смерть Вазир-Мухтара» предательство — едва ли не главный мотив. Там есть одна линия, связанная с русскими беглыми — солдатами и офицерами, что перешли на сторону персов и воюют со своими бывшими товарищами. Много лет я любил фразу Тынянова о том, что он начинает работу там, где кончается документ. Эта фраза следует прямо за рассуждением о русских солдатах в Персии. Но действительность, как всегда богаче наших представлений о ней — и историчность Тынянова каждый раз оказывается особой, сложной. Неоднозначной.
Повествование Тынянова всё время упирается в «русский батальон» персиян как в проволочное заграждение.
То Грибоедову передают записку от Самсон-хана, где тот напоминает о беглых русских, уведённых Грибоедовым в Россию. Где они? Что с ними — и нет ответа. Потом «русского батальона» становится в повествовании всё больше. И вот он уже поворачивает действие, не даёт избежать смертного конца героям — косвенным образом, просто своим видом и русской песней над тегеранской улицей. Самсон-хан, а иначе говоря, Самсон Яковлевич Макинцев
[21] был командиром «русского полка» или «батальона».
Но это не вся история.
Был такой военный инженер, генерал-лейтенант прослуживший царю полвека — Иван Фёдорович Бларамберг.
[22] Он оставил чрезвычайно интересные мемуары о пребывании на Кавказе и в Персии, где, в частности, пишет: «Выше я уже указывал причину, которая побудила нас отправиться в лагерь под Гератом. Речь шла о выдаче батальона из русских и польских дезертиров, который находился в 1838 г. у Герата. Мохаммед-шах оттянул его выдачу до конца осады и возвращения армии в Тегеран. Наш новый министр имел поручение настоять на выдаче этих людей, и Альбранд, способный, умный, храбрый и энергичный офицер, выразил готовность препроводить упомянутый батальон из Персии в Тифлис и прибыл теперь с несколькими опытными линейными казаками — унтер-офицерами, чтобы выполнить свое намерение. Естественно, в батальоне уже давно знали о выдаче, и, как мы узнали, солдаты хотели воспротивиться этому, особенно поляки. Персидское правительство не имело ни желания, ни власти применить силу. Первый министр и Мирза Массуд, министр иностранных дел, заявили нам напрямик, что их правительство оставляет за нами право разоружить батальон и вывести его за границу; сами они якобы не имеют достаточно сил, чтобы его вывести. Итак, русскому министру и капитану Альбранду предстояло самим выполнить это рискованное предприятие.
Извините, если кого обидел.
26 апреля 2011
(обратно)
История про Альбранда и русских персиян, а так же Скрыплева
"…Капитан Альбранд начал с того, что послал своих казаков — унтер-офицеров на квартиры русских и польских беглецов, чтобы узнать их мнение, pour sender le terrain, как говорится по-французски. Наши кавказские линейные казаки, украшенные георгиевскими крестами, не жалели денег и угощали своих соотечественников вином и водкой. Они убеждали их, что те ведут жалкую жизнь в Персии, где их презирают как неверующих и в случае болезни дают подыхать как собакам; гораздо утешительнее когда-нибудь умереть среди родных и быть похороненным в родной земле — надежда, которую лелеет каждый русский, потому что они, особенно простые люди, очень привязаны к своей родине, обычаям и привычкам. Многие беглецы были готовы вернуться на родину, но боялись, что по прибытии в Тифлис будут прогнаны сквозь строй и будут потом служить всю жизнь. Казаки успокаивали их и уверяли, что солдатам, которые добровольно последуют за капитаном Альбрандом, все простят и не подвергнут их телесному наказанию».
В официальном и довольно подобострастном жизнеописании Альбранда автор рисует картины поистине мелодраматические. Спрерва, когда Альбрандт только знакомится с русскими солдатами на персидской службе, некий грозный старик попрекает его тем, что их всех на родине ждёт гибель, и посланец царя выманивает их на муку. Альбранду «было видеть горькое заблуждение старика, выливавшееся из страдальческой души его в диких и сильных словах; он быстро подошел к нему, распахнул грудь свою и сказал: «Старик, ты вздумал стращать меня, ты думаешь, что мне дорога жизнь, которою я не раз жертвовал в честном бою?.. так вот тебе моя грудь, пронзи ее, — но умирая, я заклеймлю тебя проклятием за то, что ты отступил от веры своей, забыл Царя и святую родину и, что слова твои не от Бога, а от сатаны, который губит тебя!» Как ни просты были эти слова, но увлечение Альбранда, но обнаженная грудь его, на которой кровавым пятном горела славная Гимринская рана, — подействовали сильнее всякого красноречия на слушателей его. Старик отступил назад и затрясся. Очевидно было, что сердце его отозвалось на молодецкий поступок Альбранда, — темный пламень глаз его исчез, в них выступили слезы, он упал на колена, крепко обвил руками ноги Альбранда и долго рыдал не могши произнести ни одного слова; наконец, едва внятным голосом он простонал: «Прости, или зарежь меня!» Альбранд хотел вырваться из судорожных объятий его, но это было невозможно, — старик прильнул к нему и не поднимая лица от земли, повторял с настойчивостью отчаяния тоже самое. Разтроганный до слез драматичностью этого положения Альбранд, наклонился к старику и положив ему руки на голову — простил его. Прощение это осветило угрюмые дотоле лица всех других беглецов; увлеченные примером своего вожака, они бросились к Альбранду, цаловали его руки, плакали и в один голос вызывались идти с ним на край света».
Бларамберг продолжает: «Поляки ничего не хотели слышать об этом, но немало русских беглецов пришло на следующий день в посольство. Здесь их хорошо приняли, дважды в день выдавали хорошую еду и порцию водки, и Альбранд, наделенный редким даром обращения с русскими солдатами, так расположил их к себе, что за первыми вскоре последовало столько, что в резиденции с трудом смогло разместиться такое количество людей. Альбранд часто приходил к ним, говорил с ними, как солдат с солдатом, пил с ними водку, и каждый вечер слышались русские песни под аккомпанемент тамбурина и колокольчиков. Так была усмирена русская часть батальона и возвращена к выполнению своего долга. С поляками у Альбранда дело обстояло хуже. Они не верили обещаниям, особенно те, кто на персидской службе получил звание офицера, и лишь заверение, что польские офицеры уволятся со службы, сохранив звание, и получат разрешение вернуться к себе на родину, если они добровольно со своими подчиненными последуют за капитаном через границу, сломило сопротивление, и они обещали сделать все возможное, чтобы их польские соотечественники прислушались к этому. Действительно, в русской миссии появилось и много поляков. Чтобы разместить всех перебежчиков, русский министр снял за городом большой караван-сарай, где расквартировали весь батальон. Здесь Альбранд устроил для солдат праздник, который превратился в грандиозную попойку, так как он нарочно пил с ними, чтобы еще больше склонить на свою сторону, и на самом деле все восхищались им и слепо ему повиновались.
Так как весь батальон перешел теперь на нашу сторону, началась подготовка к его отправке. Однако возникло препятствие, которое задерживало выступление: солдаты в течение 15 месяцев не получали жалованья, и персидское правительство заявило, что в настоящий момент не в состоянии заплатить батальону долг в размере 4 тыс. голландских дукатов.
Чтобы устранить это препятствие, полковник Дюгамель распорядился выплатить указанную сумму из казны императорской миссии. Теперь солдаты хотели получить деньги наличными, но Альбранд просил их положиться на него в этом деле. Он разделил батальон на роты и взводы, во главе которых остались те же офицеры, фельдфебели и унтер-офицеры, что и раньше, на персидской службе. Начальствовать батальоном он также доверил прежнему командиру, полковнику, в прошлом русскому унтер-офицеру, женатому на дочери Самсон-хана. Каждая рота должна была выбрать каптенармуса, которому бы она полностью доверяла. Альбранд приказал сделать ящик для батальонной кассы и четыре поменьше для ротных касс. Потом был объявлен полный сбор. Каждому солдату отсчитали по два дуката, а остаток поместили в ротную кассу, которая опечатывалась ротным каптенармусом и сдавалась в батальонную кассу с приложением печати командира роты и командира батальона. Сданные на хранение в батальонную кассу деньги должны были быть по прибытии батальона в Тифлис выплачены владельцам, что позднее и произошло. Солдаты поняли всю целесообразность заведенного порядка и успокоились. Полученные 2 дуката были тут же растранжирены и пропиты. Капитан Альбранд заключил контракты с несколькими армянами, которые должны были следовать за батальоном как маркитанты и снабжать его ежедневно бараниной, хлебом, рисом и водкой. Далее он нанял необходимое количество мулов, чтобы везти багаж, а также жен и детей семейных солдат. И когда все
было готово к выступлению, русский министр со всей миссией приехал в вышеупомянутый караван-сарай, где батальон был выстроен в каре в парадной форме. Здесь уже находился армянский православный священник со своими помощниками. Спели Те Deum, потом перед батальоном держал краткую речь полковник Дюгамель. Он поздравил солдат с тем, что они теперь снова стали верными подданными его величества императора, заверил их, что все данные им обещания будут выполнены, и пожелал благополучного пути обратно на родину. Батальон ответил громовым «ура!», и мы вернулись обратно в город, очень довольные тем, что так благополучно выполнили столь тяжелую миссию. Огромная заслуга в этом принадлежит капитану Альбранду; вряд ли кому-нибудь другому удалось бы выполнить это поручение лучше, чем сделал он.
22 декабря батальон выступил из караван-сарая. Было 8–10° мороза. Впереди шел Альбранд, певцы и музыканты следовали за ним, затем весь батальон с громким пением в полном вооружении; потом двигался обоз, т. е. мулы с женщинами, детьми и багажом; шествие колонны замыкал арьергард. Первую часть пути Альбранд шел пешком, чтобы показать солдатам хороший пример, и он благополучно провел всю колонну через Араке в Тифлис, несмотря на суровую зиму в Азербайджане в 1838/39 г. и сильные снежные бури, особенно в горах Кафлан-Кух; потерялись только два человека, которые, вероятно, погибли во время одного из таких снегопадов. По прибытии в Тифлис капитан получил в награду звание подполковника, пропустив чин майора. Польские офицеры уволились со службы и уехали на родину. Сам батальон с женщинами и детьми был поселен в станицах вдоль Кубани, офицеры и солдаты получили жилье и землю и были довольны своей судьбой. С тех пор никто больше не помышлял бежать в Персию. Так закончился у нас в Тегеране 1838 год.
Поскольку батальон, состоящий из русских и польских беглецов, провел в Персии около 30 лет, он участвовал за это время во многих походах, которые Персия предпринимала против курдов и туркмен. Мне рассказали много историй о мужестве батальона и о страхе, который он вселял упомянутым народностям и самим персам»
[23]
В той самой биографии Альбранда эта история завершается так: «К декабрю, весь батальон, состоявший из 4-х холостых и 1 женатой роты, в составе 385 человек, добровольно подчинился Альбранду. 6-го Декабря, в день тезоименитства Государя Императора, в доме занимаемом батальоном, совершено было, армянским священником, молебствие, в присутствии полномочного Министра нашего Полковника Дюгамеля и всех членов миссии; после чего, за обедом, данным солдатам, Альбранд произнес им речь, которая окончательно укрепила их в добром их намерении; воодушевление слушателей его не знало границ, прошедшее для них как будто бы не существовало и они, с слезами радости благодарили Альбранда за то, что он помог им развязаться с тяжким впечатлением сделанного ими проступка. Этим расположением людей надобно было пользоваться и Альбранд решился выступить не теряя времени и не смотря на позднее время года и на трудность достать провиант и подвозочные средства, при явном не желании правительства помочь этим заготовлениям. Но успех развивает энергию и в слабых природах, а у Альбранда не было недостатка в этом качестве; с помощию самых перебежчиков к при ревностном содействии Полковника Дюгамеля, он устранил все затруднения и 22-го Декабря выступил из Тегерана, а 7 Января 1839 года прибыл уже в селение Диза, лежащее в 15 верстах недоходя г. Зенгана, т. е. совершил почти пол-дороги; 14-го он был в г. Миане, а 22-го вступил в Тавриз, сделав таким образом, в зимнее время, с большим обозом, при коем находились женщины и дети, переход в 700 верст, без малейшей потери в людах. Отправив немедленно по прибытии в Тавриз женатую роту вперед, он разделил остальную часть батальона на два отряда к послав первый 2-го Февраля на границу, сам вступил с остальным 6-го числа и 5-го Марта благополучно прибыл со всею своею командою в Тифлис. Таким блестящим образом окончилось это трудное поручение. Вывод 597 дезертиров, 206 жен и 281 детей, всего 1084-х душ, стоил казне только 19, 971 р. сер., суммы, чрезвычайно незначительной, если принять в соображение трудности сопряженные с дальним заграничным походом, где все надобно было покупать у жителей на чистые деньги, почти не торгуясь; и потому не должно показаться приувеличенным заключение самого Альбранда в рапорте, при коем он представил Начальнику Штаба отчет о сделанных им расходах, где он говорит: «Не персидское правительство мне сдало дезертиров и вывело их на наши границы, — я их увлек, увел в Россию. Действуя не силою войска, но нравственною силою, я не мог обойтись без издержек; но издержки эти ничтожны в сравнении с теми, которые нужно было бы сделать, чтобы принудить их вооруженною рукою к возврату». Способности и усердие показанные Альбрандом при исполнении этого поручения, не могли остаться без Монаршего внимания: 16-го Января 1839 года Государю Императору угодно было произвести его в Майоры, 24-го Марта в Подполковники, и в тоже время дано ему было единовременно 300 червонцев.
[24] Как уже говорилось, с 1828 полком командовал, как писал Тынянов: «Белобрысое существо с яркими домашними веснушками, российский прапорщик Евстафий Васильевич Скрыплев». Скрыплев у Тынянова — человек вялый и блёклый, это своего рода ослабленный Самсон-хан. Однако ж Аполлон Шпаковский
[25] оставил о нём такое воспоминание: «В начале моих записок было сказано, из каких элементов составилось население Лабинской линии, слившееся в одно целое и стяжавшее громкую славу храбрых казаков. Считаю нелишним, в дополнение к прежнему, набросать краткий очерк тех типичных личностей, с которыми сталкивала меня судьба, и которые имели непосредственное влияние на сотоварищей-казаков. В числе их особенно замечательна личность Евстафия Васильевича Скрыплева по своим приключениям и по своему влиянию среди персидских выходцев, водворенных на Лабинской линии в станицах Чамлыкской, Михайловской, Петропавловской и, частью, в Лабинской.
Скрыплев, сын довольно зажиточного помещика Бахмутского уезда (Екатеринославской губернии), начал службу гардемарином в черноморском флоте; впоследствии, быв уже подпоручиком в одном из пехотных полков, участвовавших в персидской кампании 1827 года, он, по причине каких-то столкновений с батальонным командиром, еще юношей бежал в Персию и явился к командовавшему корпусом войск Самсон-хану (некогда штаб-трубачу Нижегородского драгунского полка, бежавшему в начале восьмисотых годов). Красивый и бойкий молодой офицер заинтересовал Самсон-хана, который не только благосклонно принял беглеца, но немедленно отправил его в Тебриз, а отсюда в Тегеран, где Скрыплев был представлен Фетх-Али-шаху, тогдашнему властелину Персии. Шах назначил его состоять при сыне наследника своего Аббас-Мирзы, Наиб-Султане, Магомед-Мирзе. По восшествии Аббаса-Мирзы на престол Ирана, Скрыплеву было поручено сформировать и образовать гвардейский батальон «сарбазов» (телохранителей), род регулярного войска из беглецов и взятых в плен русских, водворившихся в Персии и обзаведшихся семьями. Успешное выполнение этого поручения снискало Скрыплеву полную милость шаха, невзирая на все интриги английских инструкторов: он был назначен командиром «сарбазов», с чином «сарганьги», т. е. полковника, и из беков возведен в сан хана. За отличие в делах с туркменами, куртинами, курдами и другими кочевыми племенами, был награжден не только всеми степенями ордена «льва и солнца», но и званием «беглер-бея» (правителя области). Романическая женитьба на молочной сестре наследника престола, дочери Самсон-хана, сильно влиявшего на шаха, поставила Скрыплева в высокое положение; он уже не страшился интриг, но шел им наперекор и открыто ссорился с английскими и других наций агентами, образователями персидских войск. Эти ссоры порождали, впрочем, преоригинальные случаи; он был несколько раз разжалываем до чина «султана», т. е. капитана, который персидская политика не позволяла себе снимать с русского офицера, что однако, не мешало Скрыплеву по нескольку дней сидеть прикованным к цепи. После каждой такой невзгоды, он опять являлся в новой силе, осыпанный милостями.
Покойному императору Николаю Павловичу угодно было изъявить желание наследнику престола (нынешнему шаху) Наср-эддин-мирзе, чтобы все русские были возвращены, и дать знать, что все прошлое будет им прощено. Желание государя было исполнено новым шахом: Скрыпалев играл главную роль в этом деле, так что посланный главнокомандующим кавказским корпусом, бароном Розеном, адъютант его, Альбрант, нашел в Скрыплеве самого ревностного деятеля в выводе из Персии до шести тысяч русских, с их семействами. За такие заслуги, Скрыплев, с чином сотника, был зачислен в наше кавказское линейное казачье войско, а впоследствии, при занятии Лабинской линии, вместе с выходцами, водворился на ней и был назначен станичным атаманом Чамлыкской станицы; вскоре, потом он был произведен, за отличие в делах с горцами, в есаулы. После стольких приключений, этот руссо-персиянин сильно и непосредственно влиял на умы бывших своих «сарбазов», из которых большая часть не умела даже говорить по-русски, особенно молодежь, почему его назначили, сверх атаманства, еще старшиною всех выходцев, водворенных на линии. Я знал Скрыплева уже хилым человеком, лет пятидесяти; зрение его было плохо от персидского образа жизни — харема и от «хны» (краска минеральная и растительная), которой он сурмил брови и ресницы; но светлый ум заменял зрение, невзирая на всю полуперсидскую натуру и обстановку.
Мы все вообще любили Скрыплева за его радушие и патриархальное гостеприимство. Как-то мне пришлось, в одну из частых моих поездок по линии, заехать к Скрыплеву во время обеда; он угостил меня котлетами, приготовленными по-персидски, на рициновом (касторовом) масле, и, как я ни был голоден, однако едва мог проглотить несколько кусков. С этой поры он уже никого, кроме своих сарбазов, не угощал гастрономическими блюдами Ирана. Жена его, Марья Самсоновна (по матери армянка, грегорианского исповедания), была добрейшее и, по восточному, самое раболепное существо. Не было на нашей линии ни одного офицера, который бы не отозвался с самой задушевной похвалой об этой радушной семье, всегда готовой принять, угостить и одолжить иногда выше своих средств.
Одряхлел Скрыплев, но не утратил ни своей оригинальности, ни прежнего влияния на своих «сарбазов». Он уже не мог, участвовать в наших набегах за Лабу; тем не менее одно его слово было непреложным законом для наших персо-казаков: стоило только сказать: «вот я пожалуюсь сарганьгу» — и каждый лез в огонь и воду.
Из множества анекдотов, чтобы хотя несколько выставить рельефнее эту своеобразную личность, расскажу следующий. Начальник правого фланга, генерал Ковалевский, собрал в Прочно-окопской станице несколько сотен казаков из закубанских бригад, при дивизионе № 13-го казачьей конной батареи, с целью набега за Лабу. Не дав знать о том на линию, он, поздно вечером, прибыл в станицу Чамлыкскую и потребовал начальника станицы (генерал был человек образованный, но привык не стесняться в выражениях, употребляя зачастую чисто-народные эпитеты). Скрыплев, явясь по службе, ждал приказаний; генерал, поговорив о посторонних предметах, вдруг, обратясь к нему, сказал: «а что, старина, дашь мне сена?» — «С удовольствием, ваше превосходительство; я сейчас велю привезти воза два-три». «Как, два-три воза, когда у меня девять сотен казаков и дивизион артиллерии?» — «Да, в. п-во, больше не дам, да и это сено даю из моего собственного, для ваших только лошадей, а отряду не дам ни клочка; моя станица не трактовая для сбора войск, — а потому в ней нет для них ни фуража, ни провианта; войскового же я не вправе дать, потому что раз я уже рискнул это сделать, и поплатился, сверх кармана, строгим выговором. В. п-ву, как начальнику фланга, подчинены все строевые войска линии, но собственность жителей, их запасы общественные, принадлежат бригаде и, без разрешения ее хозяина, бригадного командира Волкова, я ничего не могу сделать.
— Так ты казакам не дашь сена?
— Не дам ни за какие блага
— Так убирайся же!..»
Скрыплев, отступив на несколько шагов, сложил по восточному руки на груди, поклонился в пояс и отвечал: «Ваше превосходительство! тридцать слишком лет служил я двум моим государям и трем персидским шахам, но до сей поры не случалось еще мне слышать таких слов…» Поклонясь вторично, он вышел и впоследствии не являлся генералу, посылая с рапортом станичного судью…
Совершенная потеря зрения и та существенная польза, принесенная при начале водворения «сарбазов-тезиков» (солдат-выходцев Персии), были лучшими ходатаями: Скрыплев, награжденный чином майора и полным пенсионом, уволен в отставку с исключением из войскового сословия.
В начале шестидесятых годов, я видался еще со старым сослуживцем на Лабе; он более и более хирел и, видимо, тяготился жизнью. Прошлое оживало в его памяти все яснее и светлее; его величие в Персии, в контраст с действительностью, сильно повлияло на расстроенный организм: он сделался брюзгой, и так и переселился в вечность»
[26]
Извините, если кого обидел.
26 апреля 2011
(обратно)
История про издательские дела
Надо сказать, что я с интересом наблюдал некоторую суету вокруг так называемый "сталинских" серий ЭКСМО. Это довольно забавный тип скандала, потому что он родом из дипломатического искусства обмена нотами. Два государства яростно переписываются, но оба знают, что не произойдёт ни одного выстрела, и ни один полк не будет двинут с места.
В отличие от многих я этих авторов читал в разное время, а именно в ту пору, когда зарабатывал горький кусок хлеба рецензионной работой. Книги это дурные, да не об этом речь.
Дискуссия эта довольно страшная, потому что за ней стоит большая человеческая трагедия.
То есть, либеральное мнение (именно мнение, а не люди), бьётся по тем же самым правилам, что так долго этим общественным настроением продвигались. Причём это либеральное мнение оказывается не готово к состязательности. Оно оказывается не готово даже к скучным действиям в рамках закона — написать скучное письмо в прокуратуру (Что куда проще, чем создавать альтернативное общественное мнение и альтернативные книги, да такие, чтобы они были популярны).
Нет, Господь положительно послал нам всем это в назидание. Там ведь всё хорошо — можно сколько угодно ругать правительство и Сталина, писать книжки на эту тему. Но вот, к примеру, приходят к тебе люди и говорят «Перестаньте печататься в издательстве Карабаса, потому что оно Сталина рекламирует. Сделайте патетический гражданский поступок", и тогда либеральный писатель меняется в лице и говорит: «А идите-ка в жопу, пионэры».
Потому что всякий либерализм очень хорошо проверяется финансовыми потоками.
Я испытываю искреннюю благодарность к людям, что замутили всю эту историю, честное слово.
Такой повод для анализа возникает не часто.
Я вот, кроме юбилея гибели
уникального журналистского коллектива ничего такого не помню.
Извините, если кого обидел.
27 апреля 2011
(обратно)
История про персов и некоторых других
Вот ещё отзвук этой истории, и, заодно, некоторая ремарка относительно дипломатических успехов Грибоедова.
С дипломатией у Грибоедова было сложно — я не могу, разумеется, проверить его знание языка и проч., но он был дипломатом в побеждённой стране. Причём даже по свидетельствам Тынянова — дипломатом, который грубо нарушал этикет — ходил в сапогах по шахским покоям, требовал стула вслед Ермолову. Он проламывал этикет как дипломат, приложенный к пушкам Паскевича.
Наверное, такая дипломатия была в какой-нибудь Венгрии сороковых годов.
Лависс и Рембо ни словом не обмолвившись о судьбе русского посланника, замечают: «…и, как мы видели, Персия в ближайшие годы находилась скорее под влиянием России, чем Англии».
[27]
Собственно, в их «Истории XX века» говорится много другого интересного: «Фет-Али-шах (1797–1834) был с 1814 года союзником англичан против афганцев. В 1828 году, после двух неудачных войн с русскими, он принужден был заключить с последними мир. 1-Англия и Россия имели каждая своего постоянного представителя в Тегеране. Когда умер Фет-Али, обе эти державы по Взаимному соглашению решили посадить на престол его внука Мухаммеда. Один английский офицер принял начальство над армией, действовавшей против двух соперников Мухаммеда, разбил их и взял обоих в плен. По этому поводу английскому послу в Петербурге было поручено выразить министрам царя то чувство удовлетворения, какое испытывает британское правительство при виде согласия воодушевляющего обе державы в отношении персидских дел. Но английский кабинет знал, что новый первый везир — эриванский хаджи, занятый больше изучением оккультных наук, — находится под русским влиянием. В 1835 году кабинет сам назначил английского уполномоченного в Тегеране, который до того времени всегда назначался генерал-губернатором Индии. Это было первым признаком наступления более деятельного вмешательства в иранские дела.
Осада Герата персами. Около этого времени русский дипломатический агент Симонич подстрекнул шаха овладеть Гератом. Это — город, расположенный на северной окраине Ирана, на высоте 923 метров над уровнем моря, на берегах Гери-Руда, на хорошо орошаемой равнине, дающей обильные урожаи хлебов, фруктов и хлопка и усеянной множеством селений. Благодаря своему выгодному положению, обилию продовольствия и воды Герат является обязательной станцией для караванов, проходящих из Туркестана и Персии в Индию. Население его состоит частью из людей желтой расы, частью из персов. Властелином Герата был с 1818 года один из Сад-Дозаидов, изгнанных из Кабула узурпатором Дост-Мухаммедом. При этом государе город отложился от Афганистана и стал почти независимым. Герат издавна находился в вассальных отношениях к Персии, но Фет-Али желал владеть им непосредственно. С 1816 года он трижды подготовлял экспедиции против Герата, но ни разу не мог привести в исполнение свой замысел. В 1836 году русский посланник легко убедил нового шаха Мухаммеда сделать попытку взять Герат Английский дипломатический представитель тщетно силился удержать Мухаммеда от войны. Шах стал во главе экспедиции, которая, однако, вынуждена была вернуться, не дойдя до Герата, так как вследствие недостатка съестных припасов не смогла пройти пустыню (1836). Английский агент снова обратился к шаху с советом не нарушать мира, но столь нее безуспешно; тогда английский агент выехал из Тегерана и предписал всем англичанам-военным, находившимся на персидской службе, вернуться в Индию. В ноябре 1837 года шах с громадной армией достиг наконец Герата. Кроме нескольких европейских инструкторов при нем находились русский дипломатический агент в Тегеране Симонич, русский генерал Боровский и изрядное число русских дезертиров, которых англичане обвиняли в том, что это — солдаты, тайно присланные царским правительством. В крепости находился один английский артиллерийский поручик, Поттинджер, прибывший из Бомбея и переодетый индусским купцом. Герат считался сильнейшей крепостью Средней Азии. Он представлял собой, по словам Феррье, большой редут без передовых верков: это был квадрат в 1000 метров по стороне, защищаемый рвом в 15 метров ширины и 6 метров глубины, позади которого находилась насыпь в 16 метров вышины, шириной в 80 метров у основания, а на ней — стена в 8 метров вышины, снабженная 150 башнями. С одного фасада крепость эта еще была прикрыта цитаделью в 100 метров по стороне.
За стенами находилось 40000—50000 жителей, число которых сильно уменьшилось, за время осады вследствие голода и болезней. Персы простояли под стенами до сентября 1838 года; им приказано было посеять ячмень, чтобы кормиться им, когда выйдут припасы. Европейская армия, снабженная артиллерией, быстро повела бы осаду, потому что ничего не стоило пробить в стене широкие бреши, которые своим щебнем наполнили бы ров и дали бы возможность идти на приступ. Это именно, и предлагал старший из европейских офицеров, состоявший на персидской службе, полковник Семино. Но везир не позволял пользоваться артиллерией, потому что она стоила слишком дорого. По словам Феррье, он приказал Семино наводить осадные орудия таким образом, чтобы ядра пролетали над крепостью. «Цель моего господина, — сказал он, — не убивать, а только напугать жителей Герата. Они так испугаются гула выстрелов, что сдадутся; вы же можете досылать каждое утро слуг с телегою — собирать ядра, которые могут служить и вторично». Семино пал духом и покинул армию. Шах, преданный частью своих подчиненных, так и не предпринял общего штурма. Осада не подвигалась вперед, пока в августе 1838 года в лагерь шаха не прибыл английский полковник Стоддарт, отличавшийся безграничной храбростью; он взял на себя опасную задачу и благодаря своей смелости успешно выполнил ее. Стоддарт потребовал от шаха, чтобы тот немедленно снял осаду Герата и признал английское правительство единственным посредником между собой и князем Гератским. Месяц спустя шах отступил, и в Тегеран прибыл к нему английский агент Мак-Нейль условиями, предлагаемыми Англией. Последняя требовала от шаха удовлетворения за арест курьера, посланного к Мак-Нейлю в 1837 году, и отказа от всех укреплений на гератской территории, занятых во время осады города. Шах попытался затянуть дело. Тогда Мак-Нейль удалился в Эрзерум и приказал английским военным покинуть персидскую службу. Генерал-губернатор Индии велел занять остров Харак в Персидском заливе. Тщетно шах посылал чрезвычайного посла в Лондон, тщетно искал помощи у русского царя; он принужден был уступить по всем пунктам. После того как он удовлетворил требования англичан, те вернули ему Харак, и Мак-Нейль возвратился в Тегеран (октябрь 1841 г.).
Англичане в Кабуле. Одновременно с демонстрацией против Харака индийское правительство предприняло большой поход в Афганистан с целью низвергнуть Дост-Мухаммеда. Последний желал сразу отнять и Пешавар у сикхов и Герат у брата низложенного им эмира. Он считал возможным потребовать для себя Пешавар, предлагал взамен губернатору Индии свой союз, но последний отверг его предложение. Тогда Дост-Мухаммед на время отложил мысль о захвате Герата и обратился к России. В 1837 году он принял в Кандагаре первого русского, посланника в Афганистане, Виткевича. Подполковник Берне (тот, что исследовал Бухару), бывший неофициальным представителем индийского правительства в Кабуле, сообщил губернатору, что Виткевич обе
щал эмиру субсидию, если тот пожелает напасть на сикхов, у Миссия Виткевича не удалась, так как он не мог обеспечит
ь эмиру посылку на помощь русских солдат, и в 1839 году Виткевич уехал».
[28]
Причём дипломатический успех Туркманчайского трактата не то чтобы сомнителен, но в нём заложено множество потом случившихся неприятностей. Двадцать миллионов рублей серебром было очевидно заложенной туда бомбой — двадцать миллионов серебром было разорением Персии.
И кажется, что всё это и не было бы выплачено до конца — даже останься Грибоедов жив.
27 апреля 2011
(обратно)
История про Гуковского
А вот скажите, нет ли у кого доступа к полному тексту одной статьи (желательно в электрическом виде). Если это в Москве, то я бы самолично скопировал бы, но вдруг она лежит на каких-то университетских серверах?
Статья вот какая: Гуковский Г. Шкловский как историк литературы // Звезда. 1930. № 1. С. 191–216.
Извините, если кого обидел.
28 апреля 2011
(обратно)
История про мемуары Каверина о Шкловском
А вот фрагмент из книги Вениамина Каверина "Эпилог"
Извините, если кого обидел.
29 апреля 2011
(обратно)
История про E236
Муравьиный спирт вовсе не метафора.
Это 1,25 % спиртовой раствор муравьиной кислоты.
Кислота названа так, потому что первым её выделил один англичанин из муравьёв. Так-то её называют "метановая кислота". Формула её очень проста для записи — никаких подстрочных индексов, да и набирается на любой клавиатуре: HCOOH.
Кислота оказалось прозрачной бесцветной жидкостью.
Англичанин выделил её из рыжих муравьёв очень давно — в 1670 году. В этом году Степана Разина разбили под Симбирском, но это к делу не относится. Я рассказываю это к тому, что мир велик и разнообразен, и каждый день в нём происходит что-то, другим людям неведомое.
Англичанина звали Джон Рей и, как все натуралисты, он занимался всем — собирал пословицы и поговорки, изучал отношения света и растений, а сами растения разделил на однодольные и двудольные. Заодно он перегнал муравьёв на кислоту.
Всё дело в том, что муравьиная кислота замедляет гниение и распад.
Поэт Ходасевич был очень болен.
Про это писали все мемуаристы, да и он сам не скрывал, что тело его было покрыто фурункулами. Он их считал по точному счёту и насчитал 121..
Шкловский сказал про Ходасевича, что у него в жилах течёт не кровь, а муравьиный спирт. Оказался он при этом удивительно прав, и слова приклеились навсегда — так бывает, когда два остроумных человека ненавидят друг друга. Они ненавидят, но жизнь их всё время сталкивает. Однако история кислоты на этом не кончается.
Сейчас муравьиная кислота зарегистрирована под индексом E236.
Раствор муравьиной кислоты теперь течёт в каждом из нас — потому что это пищевой консервант.
Извините, если кого обидел.
29 апреля 2011
(обратно)
Истоория про алкоголиков и селёдку
Только проводив алкоголиков я осознал, что сегодня всё прогрессивное человечество, как один человек, смотрит бракосочетание английского принца.
Зашибись!
Совет да любовь!
Чего только ни придумают страны, у которых нет "Дома-2" в эфире.
Я расскажу историю про селёдку. То есть, часто в ответ на неприязнь к аристократии, говорят: настоящий аристократ и селёдками будет царственно торговать. Как Ахматова.
С Ахматовой вообще всё очень сложно — её мифология крепка как мифология Аллы Пугачёвой, и множество людей пропускает удар сердца, произнося её имя. А некоторые и два пропускают.
Я не пропускаю, потому что селёдкой торговали в ту петроградскую весну все — кроме тех, кто покупал рыбину, чтобы её съесть.
Поэтому хочется рассказать откуда растут хвосты этой селёдки.
А растут они, в частности, из книги Ходасевича «Белый коридор»:
«В последний раз торговал я весной 1922 года.
Раз в неделю я брал холщевый мешок и отправлялся на Миллионную, в Дом Ученых, за писательским пайком. Получающие паек были разбиты на шесть групп — по числу присутственных дней. Мой день был среда.
Паек выдавался в подвале, к которому шел длинный коридор; по коридору выстраивалась очередь, представлявшая собой как бы клуб. Здесь обсуждались академические и писательские дела, назначались свидания. К числу "средников" принадлежали, между прочим, Ю. Н. Тынянов, Б. В. Томашевский, Виктор Шкловский, а из поэтов — Гумилев и Владимир Пяст. Случалось, что какой-нибудь пайковой статьи (чаще всего — масла и сахару) не выдавали по нескольку недель, возмещая её чем-нибудь другим (увы, подчас, — просто лавровым листом и корицей). Однажды, сильно задолжав перед получателями пайков, Дом Ученых выдал нам сразу по полпуда селедок. Предстояла, следовательно, задача продать селедки и на вырученные деньги купить масла. Дня через два я отправился на Обводный канал.
Рынок шумел. Я выбрал место, поставил на землю мешок, приоткрыв его, чтобы виден был мой товар, и стал ждать покупателей. Конечно, надо было бы кричать: «А вот, а вот свежие голландские сельди! А вот они, сельди где!" — или что-нибудь в этом роде. Но я чувствовал, что из этого у меня ничего не выйдет. Меж тем, отсутствие рекламы, сего двигателя торговли, давало себя знать. Люди шли мимо, не останавливаясь. Глядя по сторонам довольно уныло, шагах в двадцати от себя я увидел высокую, стройную женщину, так же молча стоявшую перед таким же мешком. Это была Анна Андреевна Ахматова. Я уже собирался предложить ей торговать вместе, чтобы не скучно было, но тут подошел покупатель, за ним другой, третий — и я расторговался. Селедки мои оказались первоклассными.
Чтобы не прикасаться к ним, я предлагал покупателям собственноручно их брать из мешка. Потом руками, с которых стекала какая-то гнусная жидкость, пропитавшая и весь мешок мой, они отсчитывали деньги, которые я с отвращением клал в карман. Несмотря на высокое качество моих селедок, некоторые покупатели (особенно — женщины) капризничали. Еще со времен Книжной Лавки Писателей я усвоил себе золотое правило торговли, применяемое и в парижских больших магазинах: «Покупатель всегда прав». Поэтому я не спорил, а предлагал недовольным тут же возвращать товар или обменивать, причем заметил, что только что забракованное одним, приходилось как раз по душе другому. Впрочем, должен отметить и другое мое наблюдение: покупатели селедок несравненно сознательней и толковее, нежели покупатели книг.
Распродав всё и купив масло, я уже не нашел Ахматовой на прежнем месте и пошел домой. День был веселый, солнце уже пригревало, я очень устал, но душа радовалась».
Извините, если кого обидел.
30 апреля 2011
(обратно)
История про одну поэтессу
Берлин начала двадцатых годов прошлого века был очень специфическим местом.
Мировая революция была ещё актуальна.
Актуально было восстание — везде, а в Германии — в особенности.
Казалось, ничто ещё не было решено.
Никто не знал ещё, как кончится Коминтерн, а пока Берлин был полон странных людей.
Дальше следует история детективная, а не «пости детективная».
Шкловский в Берлине имел мало возможностей быть учителем и поэтому учил литературе довольно странного человека.
Человек этот был красив, а настоящая фамилия его неизвестна.
Тогда его звали Ольга Феррера.
Но даже эту фамилию писали по-разному.
Её было двадцать три года.
Шкловский не особо обнадёживал эту женщину. Она писала: «С прозой у меня получилось тяжело. Я показывала мои вещи (новые) Шкловскому. Он сказал, что они неплохи, но ещё не совсем написаны. Этот человек, несмотря на всё своё добродушие, умеет так разделать тебя и уничтожить, что потом несколько дней не смотришься в зеркало — боишься там увидеть пустое место. Я не знаю, как нужно писать. Как видно, на одном инстинкте не уедешь, и литературному мастерству надо учиться, как учатся всякому ремеслу. Весь мой умственный и душевный багаж здесь мне не поможет, а учиться здесь я вряд ли успею. Я хотела в самой простейшей, голой форме передать некоторые вещи, разгрузиться что ли, хотя бы для того, чтобы не пропадал напрасно материал, но оказывается, и этому простейему языку наду учиться. С другой стороны, я боюсь слишком полагаться на Шкловского, так как он хоть и прав, но, должно быть, пересаливает, — как и всякий узкопартийный человек, фанатик своего метода, говорит, что сюжет сам по себе не существует и только форма может сделать вещь. Так или иначе, но я сильно оробела…»
[29]
Потом случилась странная история. Между поэтессой и Горьким возникло странное напряжение, а через некоторое время она возвращается в Советскую Россию. В декабре двадцать третьего её видят в московской квартире у химика Збарского.
Эта женщина писала Горькому ещё один раз — уговариваясь о встрече, она обещала рассказать о Шкловском, который только что стал отцом. Это письмо она написала в октябре 1924 года из Италии, куда её послали на работу в полпредство.
Снова вернувшись в Москву, Феррери занималась журналистикой, потом снова попала на службу, работала во Франции, а потом вернулась в Россию окончательно.
Незадолго до этого случился скандал.
Скандал этот был похож на дурной эмигрантский роман, смесь Монте-Кристо с Алдановым.
В 1931 году исполнилось десять лет с того дня, когда была потоплена яхта Врангеля «Лукулл». Потопил её итальянский пароход «Адриа», шедший из Батума. Погиб один мичман, кок и матрос, пошли на дно архивы и врангелевская касса, но сам Врангель, сошедший на берег, не пострадал.
Было понятно, что это советская диверсия, и тут поэтессу Феррери, к тому времени уже перебравшуюся во Францию, прямо обвинили в этом. Причём человек внимательный легко угадывал скрытых под инициалами людей — кому это мог Горький в Саарове раскрыть принадлежность молодой женщины к террористическому акту в Константинополе, кто этот некто, что потом рассказал всё это.
Статья бывшего судебного чиновника и соратника Врангеля Н. Н. Чебышева это как раз почти «Монте-Кристо»: «Феррари носила ещё фамилию Голубевой. Маленькая брюнетка, не то еврейского, не то итальянского типа, правильные черты. Всегда одета во всё чёрное.
Портрет этот подходил бы ко многим женщинам, хорошеньким брюнеткам. Но у Елены Феррари была одна характерная примета: у неё недоставало одного пальца. Все пальцы сверкали великолепным маникюром. Только их было — девять…
По словам Ф-а, Елена Феррари, видимо, варившаяся на самой глубине котла гражданской войны, поздней осенью 1923 года, когда готовившаяся под сенью инфляционных тревог коммунистическое выступление в Берлине сорвалось, уехала обратно в Россию, с заездом предварительно в Италию..
Слова Горького я счёл долгом закрепить здесь для истории, куда отошёл и Врангель, и данный ему большевиками под итальянским флагом морской бой, которым, как оказывается, управляла советская футуристка с девятью пальцами».
[30]
Феррери действительно давно работала на советскую разведку. В 1936 году стала капитаном в армейской версии, а не в версии этого звания в госбезопасности, и, наконец, после ареста и гибели её начальников, была расстреляна. Был расстрелян и её брат Владимир Фёдорович (Михаил Яковлевич) Воля.
В общем, в этой истории многие умерли, и продолжали умирать уже когда Горький лежал в Кремлёвской стене, а Шкловский жил в доме на Лаврушинском. Этих людей не было в жизни Шкловского, а они продолжали
Она выпустила маленькую книжечку «Эрифилии». Её переиздали в 2009 году.
[31]
Стихи, по-моему, неважные.
Чудес не бывает.
Переиздана и переписка с Горьким — ещё в шестидесятые, в одном из томов Литературного наследства. Правда без указаний о том, что автора расстреляли.
[32] История эта известная — есть подробная статья Лазаря Флейшмана, подробности рассказываются в десятке популярных книгах как бы о разведке — с разной степенью бульварности и есть даже художественная проза. Это, кажется, женский роман, написанный с некоторым надрывом.
Удивительно как раз равнодушие истории.
30 апреля 2011
(обратно)
История про ночь
Это добрая русская традиция —
2010,
2009,
2008 и так далее.
Ну что, кто как кто провёл Вальпургиеву ночь?
Я так вынес ёлку.
Извините, если кого обидел.
01 мая 2011
(обратно)
История про Фердинанда
Я, кажется буду сотым, кто сострит по поводу того, что опять убили Фердинанда нашего. Опять его убили, да. И в море утопили, да.
Я, правда, с некоторой оторопью наблюдаю народное ликование в Живом Журнале, да и в телевизоре. В телевизоре, кстати, мне показывают американских детей, что пляшут с самодельными плакатиками.
Эта картина, кстати, совершенно неотличима от той, которую мне показывали в том же телевизоре — когда десять лет назад какие-то арабы плясали на улицах и праздновали падение нью-йоркских небоскрёбов. Та же картина, клянусь.
Я ужасно люблю одну историю, которую мне рассказал Владимир Максимов, в свою очередь, пересказывая историю, рассказанную Хенкиным. Он был в Москве близок с Абелем, который после обмена, конечно никуда не засылался, а занимался всякого рода консультированием. Так вот, будущий перебежчик пришёл к Абелю и застал его в довольно грустном настроении. Оказалось, что Абель участвовал в обсуждении того, как ликвидировать одного нашего агента.
— Понимаешь, в чём дело, — сказал он. — Решили войти к нему в каюту под видом стюарда, завернув утюг в полотенце, ну и стукнуть.
— А что печалиться? Ты его, что, знал лично? Жалко тебе его?
— Да нет, раз проштрафился, то убрать-то, конечно, надо, — отвечал Абель. — Но уровень-то, уровень…
И замолчал скорбно.
Но это я, собственно, не о государственном киллерстве, а о несовершенстве человека говорю.
Звериное начало чрезвычайно сильно в людях. А ведь среди многих людей, которых я вижу, есть множество, что испытав отвращение к Советской власти (застав только её распад), возлюбили любую антисоветскую власть. И теперь, будто сверившись с мнением Белого дома, как раньше сверялись с газетой "Правда", они выходят на электронную площадь. Смеешь выйти на площадь? А? Да не вопрос.
А причина одна — безблагодатность, как объяснял я нетрезвому профессору Посвянскому его похмелье.
Извините, если кого обидел.
02 мая 2011
(обратно)
История про превращения
Есть одна, довольно странная история.
Это история о том, как Шкловский с Сельвинским клеймили Пастернака.
Нет, Пастернака травили всем обществом, и история эта довольно хорошо описана — начиная от мемуаров очевидцев до недавней книги Быкова о Пастернаке.
Хроника известна: в мае 1956 года Пастернак передаёт рукопись итальянцам. В ноябре он выходит в Италии, в октябре 1958 Пастернаку присуждена Нобелевская премия по литературе, тут же по этому поводу происходит партсобрание в Союзе писателей.
27 октября в правлении Союза писателей обсуждают публикацию романа за границей.
29 октября Пастернак отказывается от премии, а 31 октября происходит писательское собрание исключает Пастернака из Союза писателей и ходатайствует перед правительством о лишении его гражданства.
В ноябре покаянное письмо печатается в «Правде».
5 ноября — Отредактированное отделом культуры ЦК КПСС письмо Пастернака публикуется в «Правде». В письме содержатся заявление об отказе от премии и просьба дать возможность жить и работать в СССР.
В мае 1960 Пастернак умирает.
Так вот — клеймили Пастернака многие — кто-то из карьерных соображений, а кто-то по убеждениям. Кто-то по приказу, а кто-то исходя из особого литературного склада души. Эта история очень поучительная, и куда более она поучительна от того, что происходила в 1958 году, а не в, к примеру, 1950-ом.
То есть, когда надо непременно положить голову на плаху, а семью обречь на изгнание — то с людей один спрос. А вот когда нужно чьё-то избиение в обмен на не пойми что — спрос совсем другой.
Когда происходило то самое знаменитое собрание, за Пастернака никто не заступился.
Однако довольно много людей, чувствуя слабину государства, внезапно заболели или бежали из города.
Некоторые не пришли туда особо не скрываясь.
Причём, как в настоящей банке со скорпионами, писатели судили Пастернака с фантазией, как бы опережая волю власти.
Когда председательствовавший Сергей Смирнов говорил, что неплохо из внутреннего эмигранта сделать настоящего, то произносилось слово «коллаборционист», а когда Ошанин попрекал Пастернака за вручённую ему медаль, то звучало уже слово «космополит».
Пастернака ругали, ссылаясь на Мао Цзедуна, а потом и вовсе обозвали литературным генералом Власовым. Это, в общем, сущее безумие — потому что, кроме известного падения нравственности, налицо утрата чувства вкуса.
А это для писателя совсем беда.
Безнравственных писателей история знает, а вот с таким катастрофическим чувством утраты стиля и духа времени сталкиваешься редко.
Причём если бы Пастернака клеймили какие-то ужасные бездари и скучные чиновники — это было бы не так поучительно. Клеймили его, среди прочих, люди очень талантливые — причём я знавал некоторых из них. Одни предпочли это забыть, другие мучились всю жизнь, третьи мучились, а потом предпочли забыть. Судьбы у всех разные.
Понимание того, как срабатывает этот механизм — удивительное знание. Как вот, и отчего прекрасная страна в центре Европы вдруг превращается место жительства ужасных людей, что суют других как поленья в печку.
Причём и до того, и после того в этой прекрасной стане живут прекрасные люди.
Однако что-то вдруг случается, и звериное начало внутри человека вдруг прорывается и результатам этого дивится весь мир.
Немногие дивятся тому, как быстро и без следов потом зверь прячется внутрь. А вот этому как раз и стоит подивиться — во избежание неприятных сюрпризов.
Так вот есть удивительная история про то, как четыре литератора, находясь на отдыхе в Ялте (это был, впрочем, не совсем отдых, а то, что называлось тогда «творческий отпуск»), сами вышли в люди, чтобы кинуть в Пастернака камень.
Так сказать, дистанционно.
В мемуарах Ольги Ивинской «Годы с Борисом Пастернаком» есть глава, названная по цитате из песни Александра Галича: «Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку».
Сельвинский когда-то считал Пастернака учителем — по крайней мере, признаваясь в стихах:
… всех учителей моих
От Пушкина до Пастернака.
Но потом, в октябре 1958 года Сельвинский писал Пастернаку из Ялты (и это письмо Ивинская приводит):
"Ялта, 24.Х.1958. Дорогой Борис Леонидович! Сегодня мне передали, что английское радио сообщило о присуждении Вам Нобелевской премии. Я тут же послал Вам приветственную телеграмму. Вы, если не ошибаюсь, пятый русский, удостоенный премии: до Вас были Мечников, Павлов, Семенов и Бунин — так что Вы в неплохой, как видите компании.
Однако ситуация с Вашей книгой сейчас такова, что с Вашей стороны было бы просто вызовом принять эту премию. Я знаю, что мои советы для Вас — nihil, и вообще Вы никогда не прощали мне того, что я на 10 лет моложе Вас, но все же беру на себя смелость сказать Вам, что "игнорировать мнение партии", даже если Вы считаете его неправильным, в международных условияхнастоящего момента равносильно удару по стране, в которой Вы живете. Прошу Вас верить в мое пусть не очень точное, но хотя бы "точноватое" политическое чутье.
Обнимаю Вас дружески. Любящий Вас
Илья Сельвинский".
Дальше Ивинская прибавляет: «Написав письмо Б.Л., Сельвинский не успокоился: вдруг оно останется неизвестным? Тридцатого октября (в других источниках — двадцать восьмого —
В. Б.) он совместно с В. Б. Шкловским, Б. С. Евгеньевым (зам. гл. ред. журнала "Москва")
[33] и Б.А.Дьяковым (зав. отд. худ. лит. изд-ва "Советская Россия")
[34] отправился в редакцию местной газеты: «Пастернак всегда одним глазом смотрел на Запад — сказал И. Л. Сельвинский, — был далек от коллектива советских писателей и совершил подлое предательство".
"Пастернак выслушивал критику своего "Доктора Живаго", говорил, что она "похожа на правду" и тут же отвергал ее, — сказал В.Б.Шкловский. — Книга его не только антисоветская, она выдает также полную неосведомленность автора в существе советской жизни, в том, куда идет развитие нашего государства. Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачки которой он польстился…" ("Курортная газета", 31 октября 1958 г. N 213).
(И на этом не успокоился Сельвинский: в "Огоньке" № 11 за 1959 г. он опубликовал стихотворение; после сентенций о плохом сыне, избитом матерью и пожелавшем отомстить ей дрекольем соседа, И.С. писал:
А вы, поэт, заласканный врагом,
Чтоб только всласть насвоеволить,
Вы допустили, и любая сволочь,
Пошла плясать и прыгать кувырком.
К чему ж была и щедрая растрата
Душевного огня, который был так чист,
Когда теперь для славы Герострата
Вы родину поставили под свист?
[35]
Тут много эмоционального наноса, который надобно исключить (если мы, конечно, хотим заниматься исследованиями, а не эмоционально присягать кумирам — ну и наоборт) Так вот, к пафосу тех слов из XXI века нужно относиться с некоторым цинизмом.
Казус Шкловского тут даже несколько комичен. Опять же, Ахматова кому-то говорила об этом в интонации «Мне не нравится этот роман… Когда была эта история с Пастернаком, то Вера Инбер сказала, что его надо расстрелять, как Гумилева, а Шагинян заявила, что он всегда был плохим поэтом. Шкловский и Сельвинский были в это время в Ялте. Эти два дурака думали, что в Москве утро стрелецкой казни, и в ялтинской газете напечатали свое заявление о Пастернаке».
[36]
То есть, Шкловский вовсе не уникален. Никакой особой нелюбви к Пастернаку в нём не наблюдается. Более того, Шкловский, в отличие от многих обвинителей, знает «небожителю» цену — и всё же, всё же…
Да и что это было — непонятно.
Какой-то странный, стыдный морок, липкий и ужасный морок. Может, это был вернувшийся, догнавший Шкловского страх двадцатых, тридцатых и сороковых. Может быть, это просто усталость.
Может, у многих реально переживавших ужас в тридцатые и сороковые после пятилетней паузы кончился запас прочности (у Евтушенко никакого такого ужаса не было, и он мог себе позволить эскападу со Слуцким).
Может, это был корпоративный ужас писателей, которые раскрутили себя, не понимая, что происходит вдали от них, в Москве, этого мы не узнаем никогда.
Все участники этого эпизода умерли, и Пастернак прежде других. Остались пересуды, а их на свете нет.
Извините, если кого обидел.
03 мая 2011
(обратно)
История про деревянные дома и дома каменные
В 1982 году Шкловский надиктовал книгу "О теории прозы". Собственно, такая книга уже была написана в 1929 году, но спустя полвека он обстроил её множеством рассказом. Так на дачном участке дом обрастает пристройками. У Тынянова в "Смерти Вазир-Мухтара" есть рассуждение о домах.
"Каменный дом строится не для удобства, — пишет Тынянов, — а по расчету людей, которые в нем не будут жить. Только потом он оказывается неудобным для обитателей, сидящих, как звери в клетках. Деревянный дом строится нерасчетливо. Проходит несколько лет после его возведения, и хозяйка с изумлением замечает: дома не узнать. Справа выросла несообразная пристройка, слева обрушился карниз (первоначально милая затея), плющ разросся как бешеный и совсем закрыл балкон, заплата на заплате. Хорошо, что обрушился карниз, он был теперь некстати.
Но дом не рушится мгновенно в пыль и мусор, он только расползается. Все его части могут перемениться, а он стоит…
В деревянном доме семья не рушится, она расползается. Вырастает нелепая пристройка. Кто-то женится, рожает детей, жена умирает. Вдовец зарастает плющом, новый карниз возводится — хлоп, женился. Опять идут дети — и уж муж умирает. Вдова остается, а у детей подруги и приятели из соседнего дома, который уже расползся и полег деревянными костьми на зеленой земле. И вдова берет выводок к себе на воспитание. Все это растет, смеется, уединяется в темных углах, целуется, и опять кто-то выходит замуж. Приезжает подруга, с которой лет тридцать не виделась вдова, и остается навсегда, возводится пристройка, ни на что не похожая.
Кто здесь мать? Дочь? Сын?
Дом один все за всех знает: он расползается.
В нем уже все части новые".
Последняя книга Шкловского похожа на расползающийся дом.
От этого её очень интересно читать: сначала можно посмотреть, как автор складывал слова в 1929 году, а потом прочитать, что он надиктовывает в 1982. Иногда в текст прорывается диалог.
Это было и раньше — в "Энергии заблуждения" есть места, где изложение перебивается диалогом с тем, кто записывает.
Тут этот диалог ещё более явный. Он превратился в приём, уже не скажешь, что это получилось нечаянно.
Их там много, таких диалогов.
Вот, к примеру: "Была женщина, она говорила: воровство в детстве надо прощать. Умная женщина.
Было мне лет семь или девять, пошел я к вешалке, и из пальто своего дяди, из кармана, взял двадцать копеек, серебром.
Вот рассказал — и легче стало.
Вы когда-нибудь воровали?
А сколько было марок?
Двадцать, много.
Прощаю, и отпускаю вам.
Легче стало, верно.
В гостях это было, детские фонари уже появились, и я, в гостях, взял кусочек этой прозрачной ленты с изображением, ну, длиной в два, нет, в три ногтя.
Дело открылось.
Мама только что волосы на себе не рвала.
Мама кричала, что ее сын уже вор, что он ворует, что она утопится и бог знает что еще.
Ведь обычная женщина.
Думаю, мама еще и сейчас меня не простила.
Исповедь — умная штука.
Что-то вроде сосуда, который подставляется подо что-то, что само выдавливается.
Вот поговорили — и легче стало.
Как бы заново рождаешься, освобождаешься.
Посмотрите, все эти секты второго крещения, все истории со вторым крещением — они придуманы потому, что человек в детстве не тот человек, что человек потом, человек взрослый".
Извините, если кого обидел.
04 мая 2011
(обратно)
История про мытьё головы
«Однажды, будучи в городе Тире, я вошел в баню и сидел там в отдельной комнате. Один из моих слуг сказал мне: «С нами в бане есть женщина». Когда я вышел в общее помещение и сел на каменную скамью, вдруг появилась та женщина, которая была в бане, и встала напротив меня. Она уже оделась и стояла вместе со своим отцом. Я не был уверен, что это женщина, и сказал одному из своих товарищей: «Ради Аллаха, посмотри, женщина ли это? Я хочу, чтобы ты осведомился о ней». Он пошел, на моих глазах поднял подол ее платья я посмотрел. Тогда ее отец обернулся ко мне и сказал: «Это моя дочь. Мать у нее умерла, и ей некому вымыть голову. Я привел ее с собой в баню и вымыл ей голову сам». — «Ты хорошо сделал, — сказал я. — За это будет тебе небесная награда».
Усама ибн Мункыз. «Книга назидания»
Извините, если кого обидел.
04 мая 2011
(обратно)
История про трёх старух
Про это есть такая история, рассказанная Лазарем Лазаревым: «Нет пророка в своем отечестве, а тем более в собственном семействе. Елизар Мальцев — сосед Виктора Шкловского по даче в Переделкино — спросил у Василисы, правнучки известного писателя (ей было тогда четыре года):
— Тебе дед Виктор Борисович читает сказки?
— Читает, — подтвердила Василиса.
Тогда Мальцев задал ей еще один вопрос, явно рассчитывая на положительный ответ, которым он при случае сможет порадовать соседа:
— А тебе нравится, как он читает?
Василиса была девочкой прямой и правдивой.
— Нет, — не задумываясь, заявила она, — он все врет.
Как многие дети, маленькая Василиса любила, чтобы ей снова и снова читали те книги, которые она уже знала наизусть. А ее знаменитому прадеду скучно было читать чужой текст, он начинал импровизировать, сочинять свой вариант, что девочке очень не нравилось».
[37]
16 мая 1976 года Владимир Лифшиц, сосед Шкловского по лестничной площадке пришёл к лысому писателю в гости.
Никакой тайны в этом нет — дата как дата, просто Лифшиц датировал свои записи.
Они со Шкловским говорили о старухах.
Сначала Шкловский рассказал, что «В Ленинграде долгое время работала в Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина сотрудница, старушка по фамилии Люксембург. Полагали, что она еврейка. Однажды в отделе кадров поинтересовались — есть ли у нее родственники за границей. Оказалось, что есть. Кто? Она сказала: английская королева, королева Голландии… Дело в том, что я герцогиня Люксембургская… Поинтересовались, как она попала в библиотеку. Выяснилось, что имеется записка Ленина, рекомендовавшего её на эту работу»…
Совершенно не важно, как там было на самом деле.
Ведь это история о карнавале и превращениях — идеальный кирпич фольклора.
Там есть лицо высокого рода в низких бытовых обстоятельствах.
Детский писатель Кассиль даже написал некогда очень популярный роман «Будьте готовы, ваше высочество!» — про принца некоего государства, похожего на Таиланд, попавшего в советский пионерский лагерь. Кажется, это был «Артек».
Роман был инсценирован, потом был снят фильм — одним словом, в СССР был период, когда к титулу относились с иронией, но уже без страха и ненависти.
Оказалось, что титул вещь всё-таки ценная.
Видите, что история кажется забавной?? А это значит, что именно титул старухи двигает сюжет.
Но фольклор не так кровожаден, как жизнь, и он даёт старушке охранную грамоту в виде письма Ленина.
Ленин написал довольно много таких охранных грамот, сам того не зная. На музее-усадьбе художника Поленова даже стояла стела с цитатой из ленинского письма, или какого-то распоряжения им подписанного. Охранная грамота наследственного директорства Поленовых предъявлялась путнику прямо на входе, объясняя легетимность. Понятно, что в настоящей, нефольклорной жизни старушке было бы не сдобровать — не в 1919, так в 1921, не в 1921, так в 1934, не в 1934, так в 1937, ну а в 1941 и вовсе смерть косила не по сословному признаку. Поэтому это история про старушку, а не про старика — выживший герцог Люксембургский неуместен даже для фольклора.
То есть, это правильный сюжет — про сокровище-титул, находящийся в неподобающем месте.
«Вторая история: нищая старушка в Ленинграде. Нуждалась, одалживала по рублю. Тоже библиотечный работник. После ее смерти обнаружили среди тряпья завернутый в тряпицу бриллиант таких размеров, что ему не было цены. Выяснилось, что старушка — сестра королевы Сиама, русской женщины. Та в свое время прислала сестре «на черный день» этот бесценный бриллиант. Настолько бесценный, что нищая старуха не решалась его кому-либо показать».
Историй про драгоценности нищих — сотни. Сюжет у них один — нищета, смерть, драгоценности в тряпье, матрасе, прикроватной тумбочке.
Наконец, была рассказана третья история: «Ещё про старушек из библиотечных и музейных работников… Б. М. Эйхенбаум, когда его отовсюду выгнали, занялся работой над биографией и сочинениями Вигеля. Ему нужен был портрет Вигеля анфас, а все известные портреты были в профиль. Б. М. два года занимался поисками, в частности в Доме Пушкина на Мойке. Не находил. Однажды разговорился с одной старушкой из библиотеки (филиал Публички на Мойке) и узнал, что та может предоставить в его распоряжение все портреты Вигеля, которые только дошли до нашего времени, в том числе и нужный ему портрет анфас… У старушки была картотека, и все сохранилось. А он два года бегал мимо нее. Очень интересные и образованные старушки были в ленинградских библиотеках».
[38]
В третьей истории я не сомневаюсь — это как раз слишком правдиво (и одновременно, лишено литературности). Тут сюжет смещён в сторону того, что искомое всегда под рукой. Это другой сюжет, сюжет про очки тёти Вали, а не сюжет про бриллиант в грязи. Два же первые истории — обычная литература, которую Шкловский мог легко сделать из фольклора.
Извините, если кого обидел.
04 мая 2011
(обратно)
История об улучшении письма
Я дружил с писателями-фантастами. Они удивительно часто повторяли слова «Писать надо лучше». (Обычно, в ответ на жалобы, что кого-то не издают хотя фантастическая литература девяностых и нулевых славилась как раз тем, что утоляя голод массовой культуры, издавала всех).
Но никто из моих знакомых не знал истории слов «Писать надо лучше».
А история этой фразы извилиста, и я не сменял бы её на дюжину фантастических романов.
Нет, эта фраза повторялась многими. Это рассказывается о Венедикте Ерофееве «К себе был особенно строг. Помню, как 8 июня 1987 года хозяйка московского квартирного салона Наташа Бабасян пригласила нас с Веней на прослушивание его пьесы "Вальпургиева ночь". Читал профессиональный артист. Ерофеев слушал очень внимательно. По окончании чтения на мой вопрос, как ему понравилось исполнение, он с неподдельной мрачностью ответил: «Писать надо лучше».
[39] Доходило до того, что говорили, что это сказал товарищ Сталин.
Но это всё — не то.
Понятно, что все фразы, если грамматически похожи, кажутся одними и теми же, но связка «….» — «Писать надо лучше» всё-таки с историей.
В «ZOO или Письма не о любви» есть «Письмо четвёртое», где говорится о холоде, предательстве Петра, о Велимире Хлебникове и его гибели, о надписи на его кресте. Там же говорится о любви Хлебникова, о жестокости нелюбящих, о гвоздях, о чаше, о всей человеческой культуре, построенной по пути к любви, и как всегда — не только об этом.
В этой главе Шкловский рассказывает историю любви Хлебникова:
«Зимой встречал Хлебникова в доме одного архитектора.
Дом богатый, мебель из карельской березы, хозяин белый, с черной бородой и умный. У него — дочки. Сюда ходил Хлебников. Хозяин читал его стихи и понимал. Хлебников похож был на больную птицу, недовольную тем, что на нее смотрят.
Такой птицей сидел он, с опущенными крыльями, в старом сюртуке, и смотрел на дочь хозяина.
Он приносил ей цветы и читал ей свои вещи.
Отрекался от них всех, кроме «Девьего бога».
Спрашивал ее, как писать.
Дело было в Куоккале, осенью.
Хлебников жил там рядом с Кульбиным и Иваном Пуни.
Я приехал туда, разыскал Хлебникова и сказал ему, что девушка вышла замуж за архитектора, помощника отца.
Дело было такое простое.
В такую беду попадают многие. Жизнь прилажена хорошо, как несессер, но мы все не можем найти в нем своего места. Жизнь примеривает нас друг к другу и смеется, когда мы тянемся к тому, кто нас не любит. Все это просто — как почтовые марки.
Волны в заливе были тоже простые.
Они и сейчас такие. Волны были как ребристое оцинкованное железо. На таком железе стирают. Облака были шерстяные. Хлебников мне сказал:
— Вы знаете, что нанесли мне рану?
Знал.
— Скажите, что им нужно? Что нужно женщинам от нас? Чего они хотят? Я сделал бы все. Я записал бы иначе. Может быть, нужна слава?
Море было простое. В дачах спали люди.
Что я мог ответить на это Моление о Чаше?
Пейте, друзья, пейте, великие и малые, горькую чашу любви! Здесь никому ничего не надо. Вход только по контрамаркам. И быть жестоким легко, нужно только не любить. Любовь тоже не понимает ни по-арамейски, ни по-русски. Она как гвозди, которыми пробивают.
Оленю годятся в борьбе его рога, соловей поет не даром, но наши книги нам не пригодятся. Обида неизлечима.
А нам остаются желтые стены домов, освещенные солнцем, наши книги и вся нами по пути к любви построенная человеческая культура.
И завет быть лёгким».
Был такой фильм 1978 года «Объяснение в любви». Правда справочник услужливо подсовывает изделие «Казахфильма» ч таким же названием «В Казахстане в геологической партии работает шофер Байкал, любитель приврать без умысла — рассказать неправдоподобную историю, да так ввернуть, чтоб было и весело и страшно одновременно. Но однажды он встретил и полюбил Анналь, которая уже много слышала от людей про краснобайство и лень своего ухажера. Но Байкал решил не отступаться от любимой — и ради себя самого решил больше не сочинять и ударно работать».
Но нас интересует не история шофёра, а фильм, снятый по книге Габриловича «Четыре четверти», что называется «Объяснение в любви» — там эта фраза повторяется. Сценарист Финн сделал из книги нечто совсем другое.
С этим фильмом интересная история. Есть
воспоминания Игоря Дедкова, который пишет: «Видел по телевидению фильм Авербаха по сценарию Габриловича из жизни журналиста и писателя в тридцатые-сороковые годы. Главного героя играет Ю. Богатырев. Думаю, что фильм абсолютно фальшивый. Сквозящий автобиографический мотив притязает на что-то значительное, на характерное и типическое. Герой даже рассуждает о том, сколько много его поколение видело и пережило и “мы” не смеем эту память растранжирить. На самом деле герой мало что видел и мало что пережил, и, в сущности, он просто-напросто благополучен (о всяких там репрессиях и всей атмосфере тридцатых годов — ни слова, ни намека), а нам предлагают воспринимать его как фигуру едва ли не драматическую и положительную. Значит, и правда хочется Габриловичу себя увековечить, объяснить, поднять собственное значение. А я припоминаю его воспоминания о том, как жил на одной площадке с М. Булгаковым, и, видимо, жил, презирая этого неудачника, что-то там стучащего на машинке за стенкой… Проходят годы, и благополучие оттеняется чьей-то бедой, несчастьем, действительным состоянием народа, и тогда благополучным, во всяком случае, самым совестливым из них, становится стыдно».
[40]
Но феномен как раз в том, что сценаристом там Финн, а Габрилович написал книгу контр-политическую, фактически о том, что политика-политикой, а человеческие отношения оказываются самым важным. Или, иначе говоря — политические переживания в конечном итоге слабее любви или тоски.
Дедков был довольно интересный человек — для тех, кому достаёт времени до археологии и неспешного чтения.
Дело в том, что он один из последних, если не последний литературный критик. Ведь русская критика, идущая от пушкинских времён, через весь XIX век и почти весь XX закончилась как раз тогда — может быть именно в «Новом мире». Сейчас есть публицистика и рецензирование, довольно много эссеистики. Я наблюдаю также массу литературоведения, выдающегос себя за критику. Но критики, той, настоящей кртитики с «установками» и «направлением» уже нет.
Ну а в фильме Габриловича два героя едут по фронтовой дороге.
Главный герой — военный корреспондент едет со своим товарищем в машине, что называлась «эмка».
Это самое начало войны, и на них ещё форма старого образца.
Одного из них играет артист Богатырёв, а другого, его зовут Всеволод Николаевич Гладышев — артист Лавров. Со своей трубкой он очень похож на писателя Симонова. А вместе они похожи на других людей, военкоров Лапина и Харцевина, сгинувших при выходе из окружения в 1941 году.
Героя Богатырёва, главного героя, все зовут Филиппок, потому что жизнь им пренебрегает.
Он говорит своему спутнику:
— Поэт Хлебников был очень несчастен в любви… — и дальше он почти точно цитирует Шкловского.
Но тут же прилетает немецкий самолёт, и вот уже эмка с убитым шофёром стоит, уткнувшись капотом в реку. Гладышев оказывается ранен и не может идти. Жизнь довольно жестока, не только любовь.
Извините, если кого обидел.
06 мая 2011
(обратно)
История про статью Гуковского "Шкловский как историк литературы"
Журнал «Звезда», 1930, № 1.
Гр. Гуковский. ШКЛОВСКИЙ КАК ИСТОРИК ЛИТЕРАТУРЫ
Комментарии помечены номерами страниц. Примечания приведены в тексте комментариев, за исключением последнего).
Особая благодарность Дм. Баку.
Извините, если кого обидел.
07 мая 2011
(обратно)
История про жизненный успех
Это успех, я считаю.
Хоть тушкой, хоть чучелком, я всё-таки примазался. Только не надо, пожалуйста, ничего исправлять.
По-моему, я обнаружил очередной гадательно-тестовый ресурс: "Кем бы ты мог быть в "Гарри Потте…" то есть, "Кто бы ты мог быть в Мироздании".
Извините, если кого обидел.
07 мая 2011
(обратно)
История про адептов и оппонентов
Конечно, отношения писателей всегда напоминали отношения пауков в банке — и всё оттого, что они играют в игру с нулевой суммой.
Но часто бывает другое — люди прижимаются друг к другу, потому что быть писателем страшно.
Писатель Конецкий очень любил писателя Шкловского.
Они дружили, переписывались, и видно было, несмотря на разницу в возрасте и биографиях, как они привязаны друг к другу.
Время было уже позднее — так говорят детям, когда укладывают их спать.
Время было уже позднее — для Шкловского и, рассорившись со многими своими сверстниками он вдруг обнаружил, что помириться невозможно.
Сверстники уже умерли.
Шкловский искал учеников, а время уже было позднее.
Молодёжь попряталась в окошки отдельных квартир.
Конецкий был влюблён в Шкловского как ученик чародея в старого мудрого волшебника.
От этой любви его отговаривали.
Писатель Каверин писал подмастерью (тому, впрочем, было уже ближе к шестидесяти, а Шкловский три года как лежал на Кунцевском кладбище): «Шкловского Вы узнали в старости, а я знал его с 1921 года, когда он в моем пальто удрал в Финляндию, спасясь от верной гибели. Всю жизнь он отталкивался от себя, и всю жизнь это удавалось ему в разной степени, а в старости вообще не удалось. К сожалению, я был свидетелем трусости этого человека, которого сам Корнилов наградил за храбрость.
Я бы очень хотел Вас увидеть, тем более что у нас с Вами сложные отношения. Вы нравитесь мне больше, чем я Вам. Этообъясняется просто: Вы, наверное, презираете Виктора Гюго, а я, несмотря на его мощное детское воображение, до сих пор перечитываю его с интересом. Впрочем, интересно уже то, что мы разные люди.
Книгу я еще не дочитал и, может быть, напишу Вам еще одно письмо, убедившись в том, что она не так грустна, как мне показалось…
Обнимаю Вас. Вениамин Каверин, 7.12.87».
Но каверинские оценки специфичны. Каверин всю жизнь ревновал Шкловского к друзьям, положению, литературе и чёрт знает к чему. Оценки Каверина сбиты, как прицел винтовки, по которой молотили камнем. Их полезно разбирать, а доверять ему не стоит.
Он слишком подвержен мести.
А месть в мемуарах всегда вредит точности прицела.
И, в конце концов, что это за пальто?!
Куда интереснее письмо одного друга Виктора Конецкого, которое я нашёл на сайте его читателей. (У них вообще очень трепетное и трогательное отношение к Конецкому — я бы сказал, редко встречающееся правильное отношение к любимому писателю).
Так вот, Конецкий вложил в книгу Шкловского «Энергия заблуждения» письмо своего друга Сергея Сергеевича Тхоржевского.
[41] Это очень умное письмо, и жаль, что оно не публиковалось.
«4.11.81.Виктор, я хотел позвонить тебе по телефону — поделиться впечатлением, но подумал, что для телефонного разговора это слишком длинно, поэтому пишу.
Твоё сочинение о Шкловском я прочел с большим интересом, причем увидел в нем два портрета: привлекательный — твой, и непривлекательный — Шкловского. Хотя, кажется, ты хотел его показать в лучшем виде.
Ты приводишь свое письмо, в котором храбро признаешься в кокетстве, но во всем, что ты написал, мне представляется кокетливым только вот это письмо. Когда писатель пишет: ах, какой я не такой — это, по-моему, и есть кокетство. А вот для Шкловского кокетство настолько, видимо, органично, что он без кокетства не умеет, без кокетства ему неинтересно.
Ты цитируешь набросок рассказа, сделанного Шкловским, и в нем есть такая фразочка: «Заря была на небе набекрень». Я прочел и вспомнил, как лет двадцать назад он выступал у нас в Доме писателей, говорил два часа без передыху, говорил занятно, остроумно, и в какой-то момент, как бы вспоминая, медленно проговорил: «Была заря косым венком». И вот эти его «заря набекрень», и «заря косым венком», на мой взгляд, нестерпимо манерны, да и невыразительны. Это не художественная ткань, это экзема. И у Шкловского она до сих пор чешется.
Из той давней речи Шкловского мне запомнилась только одна его мысль, действительно серьезная и высказанная, кстати говоря, без всяких метафор. Он сказал, что пятнадцать лет не писал книг и предполагал, что напишет их потом. Но пятнадцать лет прошло, и он понял: все, что он теперь напишет, будет уже нечто другое, никак не то самое. Что он отодвигал, откладывал все эти годы. Так что, ничего откладывать нельзя.
Конечно, умный, мыслящий человек, но совершенно ясно, почему ему не пишут читатели. Потому что его проза может удивлять и даже восхищать, но она никого не задевает за живое. Читая его книги, невозможно — ничему — сопереживать. Уметь заставить читателя сопереживать — это дар, которым ты обладаешь в высокой степени, а Шкловский не обладает начисто.
Он умеет поразить броской фразой, но это не задевает глубоко. «Женщина — полезная плесень. Как пенициллин» — лихо сказано, но, вероятно, сам Шкловский не считает женщин полезной плесенью, а сказал — так, ради красного словца.
Да, Зощенко однажды отозвался о Шкловском лестно. Но, по-моему, Шкловский этого отзыва не заслужил.
Вот в твоем сочинении, в авторской речи, есть типичный образчик манеры Шкловского:
«Сейчас Виктору Борисовичу — восемьдесят восемь.
Мне пятьдесят два.
Иногда он называет меня мальчиком».
Тут у тебя три фразы разбиты на три абзаца. А если свести их в один абзац, ощущение манеры Шкловского пропадет. Потому что отличает Шкловского не короткая фраза. А короткий абзац.
Впрочем, в книге М. Чудаковой «Мастерство Юрия Олеши» показано, что и этот абзац как формальное новшество принадлежит не Шкловскому, а Власу Дорошевичу, который уже в начале нашего столетия «ввёл воздух в свои статьи» и писал так:
«Словно лес осыпается осень.
Осыпается жизнь.
Даже Париж становится неинтересным».
Конечно, разница между Дорошевичем и Шкловским есть, но не в длине фразы или абзаца.
Как же Шкловский относится к тебе? Вот он написал: «А я отношусь к тебе не как к траве, а как к дереву. Деревья не боятся ветра. Ветер их причёсывает». И ты не разозлился, ты к такому его стилю привык.
Но ведь эти строки написаны им вовсе не для тебя, а для собственного полного собрания сочинений. Но как же все-таки он относится к тебе? Прости, но у меня создалось впечатление, что он, сознавая, что ты куда талантливее, чем он, ухватился за тебя, как за шанс не оказаться забытым на другой день после конца своей долгой жизни.
Может быть, ты излишне обкарнал его письма, вычеркнув те места, где он проявляет к тебе живой человеческий интерес, но в приведенных цитатах из писем он выглядит черствым эгоцентриком, который бесконечно рисуется, позирует, и ни разу ему не приходит в голову спросить, здоров ли ты, как живешь.
Когда же ты сказал ему что-то печальное о своей жизни, он ответил: «А ты думаешь, у меня жизнь? У меня ад?». То есть опять-таки повернул на себя, ибо он постоянно сосредоточен на себе. И тут не видно, действительно ли его жизнь — ад, правда ли это или так, художественное преувеличение.
Есть еще деталь в одном из писем Шкловского, которая, на мой взгляд, убивает его наповал. Он замечает вскользь, что брил мертвого Тынянова. И если не врёт, то он толстокож, как носорог.
Побрить — живого или мертвого — можно только недрогнувшей рукой. Если волнуешься и переживаешь — не побреешь. А если Шкловский смог — значит уж такой невпечатлительный.
Как видишь, все мое недовольство — Шкловским, а не тобой. Собственно к тебе у меня одно замечание: цитата из Горького (о смерти Маяковского) повисла в воздухе, осталась просто чужим текстом, пришпиленным сбоку, ни с того, ни с сего. Вычеркни эту цитату. Или окружи ее собственным текстом, чтобы она прилипла.
Обнимаю. Сергей.
P. S. Да, заглянул я в этом номере «Невы» в роман Пикуля. Читать не стал, т. к. я уже читал рукопись, однако перелистал, посмотрел по диагонали. И увидел, что мои многочисленные замечания на полях рукописи оказались бесполезными: он ничего не вычеркнул и не исправил. Но что ему, классику вагонного чтения, всякие там замечания!»
Это очень умное письмо, потому что оно ставит перед всяким влюблённым в Шкловского человеком вопросы на которые нужно отвечать. Но более того — на них можно ответить.
Извините, если кого обидел.
07 мая 2011
(обратно)
История про семейный альбом
Меня часто спрашивают, за кого я — за либералов или за консерваторов, с кем я — с теми или с этими. Я часто отвечаю — подите прочь, дураки: я с пустынником Серапионом. Это не очень честный ответ. А если честно, то надо признаться — я с Красной Армией. Рад бы куда в сторону, много есть чего модного и хлебного для самоопределения. Да вот только с такими фотографиями в семейном альбоме, как у меня ничего не поделаешь.

 Извините, если кого обидел.
09 мая 2011
(обратно)
Извините, если кого обидел.
09 мая 2011
(обратно)
История про стриженых
…Причём это не проза, а нечто близкое к поэзии.
Шкловский очищает речь от всяких точных ссылок.
Более того, он очищает её от всех оттенков сомнений типа «мне кажется», «по некоторым документам». Всё сразу, и всё — наверняка, как откровение.
Потом Шкловский начинает говорить — и он говорит периодами. Сначала он подводит читателя или слушателя к тому, что ему необходимо рассказать историю.
Не ему хочется, а необходимо, именно необходимо.
Потом он коротко рассказывает исторический анекдот, деталь чужого сюжета.
Например то, что Анна Каренина погибает на станции Обираловка. Станция эта, кстати, сейчас обросла городом, который называется Железнодорожный. В этот город плавно переходит Москва, а станция, разумеется, сменила имя. Ещё в 1939 году она стала станцией «Железнодорожная».
Но это к слову, а Шкловский начинает рассказывать, как Анна Каренина бросается под поезд, и вот появляется деталь — это сумочка. Жнщина перекладывает сумочку из руки в руку, и, наконец, босает её.
«Внимание!» — как бы кричит Шкловский, это она разрывает связь с жизнью, отбрасывает сумочку-редикюль, сумочку-безделку.
Или вот другая история:
«Искусство очень часто разоблачает жизнь.
Уплотняет жизнь.
Прессует её.
Откапывает жизнь зарытую, чтобы она была совестью.
Не русский тот, сказал Некрасов, кто взглянет без стыда на эту, «кнутом истерзанную музу».
Толстого, казалось, не терзали.
А Пушкина? А Гоголя?
Эти кариатиды, которые поддерживали своды арок, ведущих к сердцу истории.
Когда Гоголь пишет о том, что редкая птица долетит до середины Днепра, то мы не думаем, что он лжёт или хвастается. Он не хуже нас знал, что птицы перелетают даже океаны, чтобы вернуться туда, где они родились.
Гоголь, говоря об этом странном полете, сотрясает внимание читателя. Он раздвигает стены старого понимания.
Самсон попал в тюрьму, рассказав Далиле, что его сила заключается в волосах. Далила остригла его.
Но волосы растут даже в тюрьме. И Самсон услышал шорох растущих волос.
И, подойдя к стене тюрьмы или большого зала, где сидели его враги, он сказал: «Да погибнет душа моя вместе с филистимлянами!»
И обрушил свод.
Вот такими людьми литература занималась часто.
Причём своды падали на головы людей, остриженных «под ноль».
Теперь смотрим, как это сделано: сначала говорится об искусстве, вспоминается о том, что искусство живёт образами, и эти образы часто — преувеличения. Более того, и тому, кто придумывает образ, и тому, кто его разглядывает, это известно.
Затем рассказывается история о Далиле, которая остригла силача, лишив его силы. Но волосы растут, и силач уничтожает врагов вместе с собой.
И вот дальше следует концовка, потому что Шкловский прибавляет, что своды часто падают на людей, остриженных «под ноль».
Люди нескольких поколений в России знают, что такое стрижка «под ноль». Так стригли солдат.
Шкловский это знал, как и миллионы людей, и его читатели тоже знали.
Булат Окуджава написал:
И женщины глядят из-под руки
В затылки наши круглые глядят.
А Дмитрий Сухарев вторил ему:
Это только мы видали с вами,
Как они шагали от военкомата
С бритыми навечно головами.
То есть, Шкловский в своих рассказах как бы создаёт стихотворение с ударной концовкой, именно поэтому оно так запоминается.
Извините, если кого обидел.
10 мая 2011
(обратно)
История про новаторов
Есть одна тема, что занимает меня много лет.
Это тема назначения и самоназначения элит.
Совершенно неважно каких. Тут должен быть какой-то механизм.
То есть, примерно известна история назначения "Джоконды" главной картиной человечества. Но есть ли тут какое-то правило, я пока не понимаю.
Например, как появляется книга вроде "Чайки по имени Джонатан Ливингстон", как они становятся популярны, а потом валятся прочь, как фигура с шахматной доски.
Или как, к примеру, задерживается в умах "Чёрный квадрат" Малевича.
Как человек угрюмый и с крестьянскими корнями (немногочисленная часть моих родственников жила на русском Севере), я склонен подозревать обман.
Я вообще рассматриваю жизнь как рынок. В углу этого рынка обязательно стоит цыган с крашеной лошадью. Накануне лошади вставили в зад соломину и туда дул весь табор — оттого бока у лошади гладкие, и худоба её незаметна.
Причины явлений всегда простые.
Очень хочется понять, как возникают движения и школы.
Чаще всего они начинаются с красивых слов, желательно иностранных и какой-нибудь метафоры. Потом-то появляется та самая банда цыган-конокрадов, которая угонит всех приличных лошадей в темноту.
Но вот как, как происходит эта разводка, как отличить честного изобретателя паровой машины, селекционера орловской лошадиной породы, от торговца метафорой — непонятно.
Ср. Точно тоже происходит с нечестной фразой про знаменитые картины (
раз,
два).
Извините, если кого обидел.
10 мая 2011
(обратно)
Истории текущего дня
Зачем-то в ночи прочитал поэму Асеева "Маяковский начинается". Причём прочитал первый раз в жизни — это особенно странно, потому что большую её часть (жизни) прожил близь площади Маяковского, а отрывки из поэмы были в списке обязательного школьного чтения. Поэма эта довольно странная и напоминает мешок в котором копошатся неясные угрозы и недомолвки.
Посещали так же неприятные мысли по поводу Гуковского, умученного от большевиков. Человек он был интересный и красивый, но откуда у него было странное желание быть Ермиловым — непонятно.
Впрочем, лучше прочих про Гуковского написал Олег Проскурин: "Гуковский был блистательно талантлив и артистичен. Его лекции в Ленинграде и в Саратове (в тамошнем университете он работал во время войны и в первые послевоенные годы) собирали полные аудитории и непременно завершались шквалом аплодисментов. "Театр!" — иронически комментировал Борис Эйхенбаум, проходя мимо аудитории, где только что закончилась лекция Гуковского и откуда, по обыкновению, доносился шум оваций. "Цирк!" — злился в аналогичной ситуации академический карьерист старшего поколения. "Я имею здесь неожиданный успех — будто я заезжий столичный тенор или профессор Гуковский", — писал из Саратова пушкинист Юлиан Оксман".
Гуковский действительно был артистом в полном смысле слова — отчасти, стало быть, и актером. Как актеру ему было необходимо ощущение немедленного успеха. А для подобного успеха всегда нужно принимать правила театральной игры, господствующие "здесь и сейчас". Гуковский эти правила отлично усваивал и быстро вживался в роль, можно сказать — органически сливался с нею".
Думал я так же о том, как бы продать горку с её фарфоровым содержимым. Эти мысли наводили тоску.
Вспомнил, как только что читал свою корректуру. Внезапно обнаружил, что во всём тексте корректор зачеркнула слова "адронный коллайдер" и надписала "аНдронный коллайдер".
Я выл — сначала негромко, а потом в голос. Катался в ногах у технической сотрудницы, и, наконец, ловил ртом воздух. Как мог, что-то исправил. Однако ж гарантий, того, что исправления будут учтены. Но сколько мне открытий чудных всё это таит — раньше я просто стоял перед книжным шкафом и, глядя, на свои творения, бормотал: "Молчите, проклятые книги! Я вас не читал никогда!"
А тут-то что?
Скажи, дорогой читатель, ведь ты не поверишь, что я не знаю, как пишется коллайдер, и что я забыл пару абзацев в другой книге (сюжет не пострадал, но повисшие в воздухе шутки вызывали недоумение), и что…
Впрочем, добрый мой товарищ Леонид Александрович в утешение мне сказал, что в его книге корректор поставил аккуратные кавычки вокруг названия: "…и, воспользовавшись бритвой «Оккама», я…"
Чуден мир.
Извините, если кого обидел.
12 мая 2011
(обратно)
История про айсора Зервандова
История заключается вот в чём.
Есть знаменитая книга Виктора Шкловского "Сентиментальное путешествие". Считается, что нужно вслед за этим названием поставить дату написания — (1923).
Но это не так. Такую дату ставить нельзя.
Книга эта состоит нескольких книг, и все они писались в разное время. Писались и переписывались.
Первая написана в 1919 году, с июня по август. Он так и пишет время от времени — "А сейчас пишу это 30 июля 1919 года, на карауле, с винтовкой, поставленной между ног. Она не мешает мне. " Вышла эта книга в 1921 году и называлась "Революция и фронт".
Вторая книга называлась "Эпилог" и вышла в феврале 1922 года.
При этом на обложке стояло два имени — Шкловского и Зервандова. Так и было написано "Л. Зервандов". То есть айсор, командир батарей и в айсорской армии, а потом чистильщик сапог на Невском проспекте Лазарь Зервандов был соавтором Шкловского.
Но потом была написана ещё одна часть — "Письменный стол".
Получилось что-то вроде самодопроса — Шкловский рассказывал читателю то, про что его спрашивали бы на эсеровском процессе 1922 года. Только тут он рассказывал издалека, и оттого не боясь, что его перебьют.
Впрочем, про эсеровскую работу он рассказывал мало.
Во-первых, это дело было тайное, и хвастаться тут не стоит. Мало ли как обернётся жизнь — и она в итоге обернулась.
Во-вторых, в РСФСР ещё оставались товарищи. Оттого остряк, что прячет Шкловского в архиве и велит, если будет обыск, шуршать, притворившись бумагой, не назван.
Этот остряк — Роман Якобсон.
И много других людей не названы — оттого, что сдавать их новой власти Шкловский не хотел, а имена некоторых он просто забыл.
Только слитые вместе, эти книги вышли в 1923 году.
Но и тут дело не кончилось — книга эта два раза успела издаться в Советской России, прежде чем попала под запрет. И каждый раз она теряла что-то, превращаясь в немного другую книгу. Или совсем другую.
Но я хочу рассказать не об этом.
Я хочу рассказать о своём недоумении по поводу Лазаря Зервандова.
От него не осталось следов — никто не нашёл истории Лазаря Зервандова, дат его жизни. Я видел московских айсоров, иначе говоря — ассирийцев. Их, кажется, сейчас тысяч пять. Двое пришли ко мне вставлять стекло, да и задержались. Потом, когда я узнал их друзей, то понял, насколько айсоры народ сплочённый.
И мне было удивительно, если бы они не разузнали судьбы одного из самых известных айсоров в мире Лазаря Зервандова, командира батареи в восемнадцатом году.
Не такой айсоры народ, чтобы пропустить жизнь этого человека как песок сквозь пальцы.
В этом имени слишком много гордости.
Нет от него следов нигде, вот что удивительно.
Уж не выдумал ли себе Шкловский соавтора, как выдумал гамбургский счёт, думал я.
Хотя Зервандов — фамилия правильная, я её встречал в печальных списках расстреляных ассирийцев.
Ничего не понятно, и ничто не решено.
Извините, если кого обидел.
13 мая 2011
(обратно)
История про давнюю войну
Так выпало Кавказскому фронту, что он остался вне внимания обывателя.
На Кавказе воевали всегда, и то, что случилось там во время Великой войны провалилось в кровавую яму истории. Нет, спроси армянина, что там было и как, армянин тебе скажет, даже если он сидит около лотка с апельсинами где-нибудь в Архангельске.
Он тебе расскажет и про пятнадцатый год, и про город Октемберян.
Но прочий народ только удивится.
А армянская армия ещё в мае дралась с турками у Сардарапата. Она не пустила их в Северную Армению, и оттого там стоит большой памятник. История армянской войны при Советской власти не была тайной, но не была и общей историей. Оттого о резне и войне говорили южнее Кавказского хребта много, а севернее его —
мало.
И оттого история эта рассказывалась в разных местах страны по-разному: где глухо, а где скорбно.
Меж тем, если разглядывать карту военных действий, то видно, каким лакомыми куском для любителя альтернативной истории она является. Русская армия занимает пол-Персии и треть Турции, Арарат ещё можно потрогать рукой, а не осматривать издали — и вот-вот, дрогнут турки и отдадут проливы.
Оттого есть город Армавир, ранее Октемберян, а изначально Сардарапат.
В четырнадцатом году турки остановили начавшее войну наступление русских и взяли Батум.
В пятнадцатом году турки вошли в Иран и резали армян там, куда доставала сталь. А русские войска дрались с турками у озера Ван и встали в Северной Персии.
В шестнадцатом году русские войска взяли Эрзрум и Трапезунд.
В семнадцатом году пришла в Россию революция, и войска её дрогнули. Стали уходить из Западной Армении войска.
А в году восемнадцатом, зыбком и страшном году армяне стали уходить на север, и шли перед ними беженцы. Потому что был подписан Брестский мир, а подписан он был не только с Германией, но и с Турцией.
Год был страшен, и урожай на каменистых полях вышел скудным.
Жил в Северной Персии осенью семнадцатого года Виктор Шкловский.
Настоящей должности у него не было, но революция устроена так, что каждый придумывает себе должность сам.
Оттого назывался Виктор Шкловский заместителем военного комиссара Временного правительства, но должность эта была глупая.
Она была нестрашная, потому что подчинённых у Временного правительства не было. Армия грабила местных жителей, государства не было — ни русского, ни персидского. Были вооружённые люди.
Ну, и голод был, конечно.
Однажды утром Виктор Шкловский с трудом открыл дверь своего дома — оказалось под его дверь подложили мёртвого ребёнка.
"Я думаю, это была жалоба", записал он потом.
Это вполне логично — как ещё можно пожаловаться начальнику, язык которого неизвестен.
Но тут важно угадать силу чужого начальника. А силы у заместителя комиссара Временного правительства никакой не было. Не было её и у настоящего комиссара, не было и у самого правительства.
Сила была в винтовках.
Оттого все вооружались и за винтовку, даже плохую давали по три тысячи рублей.
Шкловский тут же записал, что женщины с той стороны Чёрного моря шли в вечное пользование покупателя по три рубля употреблённые, и по сорок рублей неупотреблённые. На востоке живой человеческий материал недорог. А уж неживой и подавно — можно его подложить под дверь в качестве записки.
Вооружённые русскими винтовками армяне дрались у города Армавира, ранее называемого Сардарапат и среди них был поручик Баграмян. Поручик Баграмян потом стал маршалом, и носил над галстуком золотую звезду с бриллиантами — такую, какую носили все советские маршалы. Когда две армии бились там, в Баку уже месяц как установилась коммуна.
Но ничего ещё не было решено, и никто не знал, что этой коммуне остаётся ещё месяц, а сроки её комиссаров уже сочтены.
Но я рассказываю эту историю ещё вот почему. Эти месяцы, проведённые ненастоящим чиновником Временного правительства в Персии оставили большой след в русской литературе. Они оставили удивительный след — и не только в книге, которая называется "Сентиментальное путешествие".
Если внимательно читать роман "Смерть Вазир-Мухтара", то среди описаний того, как тонко и жалобно стонут чумные люди в глиняных хижинах под Гюмри, как едут по персидской дороге русские казаки, как собирают мёртвых по частям — то обнаружишь Персию восемнадцатого года и командира конной батареей в ассирийских войсках в Северной Персии Лазаря Зервандова, что уходит со своим народом на юг, к Багдаду.
Война в Персии похожа — потому что на ней одинаково низко ценится человеческий матерьял. Эта оценка не зависит от того, какой век на дворе — девятнадцатый или двадцатый.
Гюмри теперь снова называется Гюмри, а известен он был как Ленинакан. Там и раньше строили странно — это оборачивается бедой при землетрясениях.
И южнее тоже самое. Шкловский писал про те дома так: "Я видал много разрушения. Видал сожженные галицийские села и дома, обращенные чуть ли в непрерывную дробь, но вид персидских развалин был нов для меня.
Когда с дома, построенного из глины с соломой, снимают крышу, дом обращается просто в кучу глины".
Сентиментальное путешествие Шкловского оборачивалось грибоедовской дорогой.
Среди финального перечисления примет времени на последней странице "Сентиментального путешествия" есть история про гробы. "С нами шел вагон с гробами, и на гробах было написано смоляной скорописью: «Гробы обратно»".
Когда Пушкин путешествует, приближаясь к линии фронта, ему навстречу едет гроб. И мы знаем уже, что это гроб Грибоеда.
Грибоед едет обратно.
Всё в литературе связано.
Извините, если кого обидел.
14 мая 2011
(обратно)
История про шорты и бурление общественной жизни
Какой-то странный хмурый день.
Я с утра отчего-то наткнулся на интернет-телевидение, а именно короткую передачу "Шорты Быкова", хотя конечно это "short" имеется в виду. Там Дмитрий Львович говорил о Гришковце — на это ещё наложилось то, что я вчера отчего-то посмотрел в обычном, не интернет, телевизоре, как дети задают вопросы Гришковцу.
Это был очень странный опыт — возвращение Гришковца.
Я-то думал, что эту тему я от себя отставил, но рассуждение моё было даже не в этом, а в том, как мы говорим о живущих людях, наших современниках, даже — как мы говорим о знакомых.
Читая сейчас огромное количество мемуаров, я сталкиваюсь с проблемой злословия, которое мы часто разделяем с давно умершим мемуаристом.
Так вот случай Быкова очень странный, совершенно иной. Сначала я подсмотрел, как он хвалит журналистку Радулову, за то, что ей невозможно не сопереживать, а потом Гришковца, за то, что он талантлив.
То есть, это была такая Надежда Мандельштам наоборот.
Ладно, Радулова, давно ставшая символом скрытой и открытой рекламы мне сейчас не очень интересна. Может, в ней скрыты какие-то тайны души — но это как я обычно вспоминаю анекдот о человеке, который жаловался, что ему в окно показывают голые жопы. Когда пришла комиссия, он объяснил, что если залезть на шкаф, вытянуть шею в форточку, то там можно увидеть окошко банной раздевалки, и это его волнует.
Случай условной "радуловой" мне представляется простым — то есть это несложная провокация. Нужно написать простой текст с простым посылом, мужики — сволочи, эсэсовская форма красивая, а красноармейская — нет, девушке нужно дарить бриллианты и всё такое. Это канализирует общественные эмоции, и сотни человек будут до хрипоты спорить, заслуживают ли современные девушки эсэсовской формы и все ли мужики носят брюлики. А счётчик стучит-стучит, — как пел в забытой ныне песне Юрий Визбор. Монетизация этого движения напоминает строительство гидроэлектростанций — выговаривание народной массы производит электрические, электронные деньги.
Вот случай Гришковца не так прост. Дело-то в том, что не нужно быть старожилом Живого Журнала, чтобы помнить, что с ним случилось.
И когда любезный моему сердцу Дмитрий Львович (мы все ещё будем писать мемуары о том, как гуляли по Тверскому бульвару и увидели, как Быков шёл навстречу, остановился, записал что-то в книжечку, и побежал дальше: "Ах, как жаль, что "Нигде кроме как в "Моссельпроме" читает Михаил Ефремов")) говорит, что Гришковец — удивительно талантлив и пишет всё лучше и лучше, тут Бог ему судья. Мне сомнительна мысль, что Гришковец пришёл в Сеть для того, чтобы исследовать странную межеумочную прослойку его ровесников. Сомнителен, да. Но я, может, чего-то не знаю.
Но вот когда мне рассказывают, что вот Пушкина с "Борисом Годуновым" тоже не поняли, скоты, лучшую русскую пьесу не приняли, а вот Гришковец… Тут бы я поостерёгся.
То есть, там ещё выходило, что автор раним, и толпа травит его.
Но, сдаётся мне, фигурант этой истории словил народное веселье за то, что был глуп и напыщен. Это событие вовсе не "совершенно идиотское, случившееся на пустом месте, когда он чисто стилистически отмежевался от "Квартета И". Но ведь дело в том, что "Квартет И", являясь абсолютно эстрадным занятием, сейчас сильно эволюционирует от театра в сторону "Прожектора Пэрисхилтон", и поэтому Гришковец имел моральное право на такое жёсткое замечание".
Это совсем не так, и кэш Яндекса в том порукой.
Я бы мог ещё анализировать всю эту
новую искренность, но вспомнил, что это сделал уже полгода назад.
Это всё не так интересно, как наш механизм высказывания о других людях. То, как мы говорим о людях публично — не о врагах, которых можно ругать без оглядки, а вот о людях, с которыми мы встречаемся, с которыми мы знакомы. Можно остро (мы все остряки) говорить о бойцах вражеских литературных группировок, как это бывало в двадцатые годы прошлого века. Но никаких группировок теперь нет, увы.
Но вот как говорить о тех людях, с которыми сдвинул рюмки. Выискивать положительные стороны? Вытянув шею, взгромоздиться на шкаф, чтобы увидеть что-то невыразимо прекрасное?
О, как мы умеем вытягивать шеи! Как мы умеем всмотреться в талантливое, даже если этого не существует — человек-то неплохой, что там.
Это-то мне и интереснее всего — механизм похвалы, когда объект находится в "серой зоне".
Извините, если кого обидел.
15 мая 2011
(обратно)
История про эсэров, стог сена и работу о сюжетосложении
Была в России партия, и партию эту звали «социалисты-революционеры».
И это была великая партия.
Создали её в 1901 году, и была она самой знаменитой революционной партией — прежде всего потому, что члены её боевой организации взорвали несметное по тем временам количество важных людей императорской России.
Потом она стала известна скандалами и провокаторами, но в семнадцатом году, на выборах в Учредительное собрание она получила больше всех голосов. Восемнадцать миллионов человек голосовали за эсеров.
Миллион членов был в этой партии летом семнадцатого года.
И вдуг все пропало, история была переписана.
Только отдалённый треск взорвавшихся бомб и старик, придумывающий головоломки на летней веранде. Там, «среди прочих загадочных рисунков был там нарисован куль, из которого сыпались буквы "Т", елка, из-за которой выходило солнце, и воробей, сидящий на нотной строке. Ребус заканчивался перевернутой вверх запятой.
— Этот ребус трудненько будет разгадать, — говорил Синицкий, похаживая вокруг столовника. — Придётся вам посидеть над ним!
— Придется, придётся, — ответил Корейко с усмешкой, — только вот гусь меня смущает. К чему бы такой гусь? А-а-а! Есть! Готово! «В борьбе обретешь ты право своё»?
— Да, — разочарованно протянул старик, — как это вы так быстро угадали? Способности большие. Сразу видно счетовода первого разряда.
— Второго разряда, — поправил Корейко. — А для чего вы этот ребус приготовили? Для печати?
— Для печати.
— И совершенно напрасно, — сказал Корейко, с любопытством поглядывая на борщ, в котором плавали золотые медали жира. Было в этом борще что-то заслуженное, что-то унтер-офицерское. — "В борьбе обретешь ты право свое" — это эсеровский лозунг. Для печати не годится.
— Ах ты боже мой! — застонал старик. — Царица небесная! Опять маху дал. Слышишь, Зосенька? Маху дал. Что же теперь делать»?
Эсеры были много лет как бы не для печати. Даже спустя десять лет после революции они вызывали нервные судороги.
Это был неудобный предмет для разговора на типографской бумаге.
А эсеров было много — как уже сказано: миллион.
Когда филолог Чудаков спрашивал Шкловского об эсеровской работе, он отмалчивался: «Только один раз, за полгода до смерти, он нарушил своё обыкновение и в ответ на прямой вопрос, как он попал в эсеры, сказал два слова:
— Храбрые люди».
Эсером был Александр Гриневский, будущий сосед Шкловского. Впрочем, он был неудачным членм партии, и не то из ревности, не то по вспыльчивости, стрелял в другого члена партии, куда более профессионального революционера, чем он.
Непонятно, когда Шкловский стал эсером.
Сам он об этом мочал до смерти.
Вернувшись из Персии, он готовил мятеж. Они все готовили мятеж против большевиков. Хотели сделать его весной, а потом хотели устроить его на Первомай. Один мятеж даже состоялся — в Москве, 6 июля восемнадцатого года. И он чуть было не окончился удачно, но как известно, удачные мятежи зовут иначе.
Эсеровское восстание набухало повсюду, потому что миллион человек — это не шутка.
Да только биты были эсеры и биты по частям.
Я потом расскажу о брошюре Георгия Семёнова про боевую работу партии эсеров. Говорить про эту книгу сложно — в ней правда перепутана с ложью, но документов про боевую работу эсеров в 1918 году мало, почти вовсе нет.
Итак, Шкловский снова служил. Кстати, ещё он работал в Художественно-исторической комиссии Зимнего дворца.
В общем, не вышло с мятежом.
И Шкловский пустился в бега.
Удивительно, что именно про эти несколько месяцев его биографии — лето 1918 года — самое большое количество смешных историй.
Вот Шкловский живёт по чужому паспорту, проходит проверку, несколько раз предъявляет эти документы, а потом вдруг обнаруживает, что в графе изменения семейного положения оттиснут черный штемпель: «такой-то такого-то числа умер в Обуховской больнице».
Кажется, что это смешно, особенно, когда Шкловский продолжает: «Хороший разговор мог бы получиться между мной и Чека: «Вы такой-то?» — «Я». — «А почему вы уже умерли?»
Или вот потом он вспоминает: «В 1918 году в Самаре мне нужно было по некоторым обстоятельствам на время куда-нибудь скрыться. Был один знакомый доктор. Он устроил меня в сумасшедший дом. При этом предупредил: только никого не изображайте, ведите себя как всегда. Этого достаточно…»
Или вот он красится, прячась у своего друга и выходит лиловым.
Не знаю, откуда Ильф и Петров взяли историю о бывшем предводителе дворянства, что красится средством «Титаник», что на поверку выходит не радикально-чёрным, а зелёным. Но сходство примечательное — впрочем, я думаю, множество людей и в 1918 и в 1927 году перекрашивало волосы не только с эстетическими целями.
И ещё Шкловского запирают архиве, и говорят:
— Если ночью будет обыск, то шурши и говори, что ты бумага.
Тоже смешно, но понятно, что произойдёт и с тем, кто прячется, и тем, кто прячет, если придётся шуршать.
И вовсе не смешно, потому что убит председатель петроградской ЧК Урицкий, а после убийства Урицкого пошли расстрелы. И расстреляли, среди прочих, брата Шкловского. Двадцатисемилетнего брата, что любил революцию не по большевистски, а по-эсеровски, расстреляли по всем установившиемся правилам — сперва сняли сапоги и куртку, а потом пальнули в него на полигоне у Охты.
Урицкого убил Леонид Каннегисер, не эсер, а энэс, то есть народный социалист.
Убил он его 30 августа, если важны даты.
А уже 2 сентября Свердлов объявил Красный террор (юридически это оформили через три дня).
Террор был объявлен как ответ на покушение на Ленина и убийство в тот же день Урицкого.
Что самое удивительное, так это переплетение терминологии.
Авторство понятия «Красный террор» — эсеровское.
«Партия решила на белый, но кровавый террор правительства, ответить красным террором…» — так сказала в 1906 году эсэрка Зинаида Коноплянникова.
Итак, эсэры были вне закона, и Шкловский лежал в стогу у Волги и смотрел в чёрное небо.
Кстати, скрываясь, он пишет статью «О связи приемов сюжетосложения с общими приемами стиля».
Долго так продолжаться не могло, и он двинулся на запад, туда где начиналась Украина, вернее, где стоял немец по условиям Брестского мира.
Извините, если кого обидел.
17 мая 2011
(обратно)
История о разном
Чудесная погода у меня за окном, просто чудесная. Дождь правильный — не шквалистый, нервный, и не вялая капель. Настоящий холодный дождь конца мая.
В такое время хорошо сидеть с чашечкой кофе в халате, смотреть в окно и всё такое.
Мысли текут медленно и вяло.
Надо продать рояль.
Сдать бы кому квартиру.
Купить iPad.
Куда делся Виттель.
Да, забыл сказать — копчёные курицы — это зло. Профессор Посвянский забыл их у меня дома, и сначала я хотел попустить его пьянство, не проводить с ним разъяснительных бесед, а теперь вот не попущу.
Если бы не надо было выходить в этот дождь, было бы совсем чудесно.
Извините, если кого обидел.
17 мая 2011
(обратно)
История, которая называется "Новые сведения о Лазаре Зервандове"
Я обещал рассказать новости про Лазаря Зервандова.
Это должно называться, как книги древних путешественников "Новые сведения о Зервандове".
Слово за слово, и вот редактор сайта Atranews Василий Шуманов прислал мне цитату из Материалов к ассирийскому словарю. Вот что там написано: «Зервандов, Лазарь Иванович, с. Самоват [Альбак]. Род. в 1891 г. 1916-18 гг. — Ассирийский батальон в Персии, командир взвода. Осень 1918 г. — Хамадан. 1919-20 гг. — служил в отряде белых в Туркмении (Красноводск, Ашхабад) под командованием полк. Кондратьева, бывшего начальника ассирийских сил в Персии.
[42] 1920 г. — Баку. С 1921 г. — Петроград. В 1922 г. вместе с З.Левкоевым помогли полк. Кондратьеву выехать из Сов. России, достав ему фиктивный иранский паспорт. В марте 1928 г. был одним из инициаторов попытки переселения самоватцев-альбакнаев из Ленинграда в Геленджикский р-н (составил список 188 семейств, 752 едока). Арестован в Ленинграде 5 февр. 1938 г., обвинен в участии в контрревол. организации.
[43] Расстрелян 1 окт. 1938 г.».
[44]
Написано там и о том, что Шкловский использовал воспоминания Зервадова.
Вот что нам известно из того же источника: «В 1929-ом и 1930-ом гг. группой ассирийцев (несколько семей гяварнаев из Москвы и самоватцев из Ленинграда) была сделана попытка вселиться на выделенные участки и обжиться на новом месте. К сожалению, столкнувшись вскоре с трудностями (малопригодными к возделыванию земля, отсутствие обеспечения), они мало-помалу оставили земли и вернулись в город, а часть переселилась в ассирийское село Урмия, около Армавира.
Это село в тридцатые годы притягивало многих переселенцев из городов, и «Хаядта» из Москвы способствовала такому переселению, помогая образованному в селе колхозу (им. Микояна) различными средствами и материалами. Урмийский сельсовет некоторое время даже носил имя председателя «Хаядты» Самсона Пираева. К началу Великой Отечественной войны (1941 г.) в Урмии проживало около 700 ассирийцев».
В двадцатые годы Зервандов продолжал чистить обувь и числился в артели «Трудассириец» в Ленинграде.
История артели сама по себе примечательна и заслуживает отдельной книги.
В Ленинграде было два ассирийских общества. Одно называлось «Хаядта».
И век его оборвался в тридцать седьмом, когда зачищали вске не вполне понятные власти объединения, ориентируясь не на вред, а на соответствие Большому Стилю.
А вот артель «Трудассириец» прожила долго, почти до наших дней. Из тысячи её членов многие всё же погибли, однако память о ней свежа. Да и «Хаядта» возрождена.
Только командира батареи Зервандова не воскресить.
Но от него осталась история, которую Шкловский переписал, исправив падежи и расставил запятые.
Центральный момент в ней — смерть ассирийского Патриарха.
Все это не я рассказываю, а Лазарь — чистильщик с угла Караванной, командир конной батареи и член армейского комитета, а по убеждениям большевик.
февраля отправился из Урмии в Дильман ассирийский патриарх. Сопровождали его инструктора.
Прибыли в город Дильман 18 февраля. Расстояние от Урмии до Дильмана 83 версты.
Дильманские персы уже знали, что урмийские персы и курды разбиты. Патриарх был вызван на совещание с Синко в город Кенишер.
Было решено, что Синко — будто бы — заключает мир с ассирийцами.
На это совещание и приехали Мар-Шимун, брат патриарха Ага-Давид и 250 выборных ассирийцев под командой полковника Кондратьева. Во время совещания курды заняли все крыши и удобные места.
Выходит Ага-Давид и говорит: «Не стоит с этой собакой беседовать», — он взял двух ассирийцев и уехал, а остальная кавалерия вся стоит и ожидает Мар-Шимуна.
Минут через двадцать вышел патриарх, и полковник Кондратьев скомандовал: «На коня!»
Не успели сесть, вдруг с крыш раздался звук и залп, как звонок.
Стоявшие ассирийцы смешались: кто на коне, кто под конем, а кто совсем остался.
Бросились бежать.
На месте был убит поручик Зайцев, и инструктор Сагул Матвеев, и Скобин Тумазов.
Остальные бежали по улицам.
А сам патриарх бежит по грязи, и кровь по спине его течет.
Обогнали его Зига Левкоев, Никодим Левкоев, Сливо Исаев, Лазарь Зервандов, Иван Джибаев, Яков Абрамов, князь Лазарев. Не успели схватить патриарха, попала вторая пуля ему в лоб, и упал он на траву.
А курды все залпом и залпом по бегущим. У края города остались только: без коней Зига Левкоев, раненный в левую ногу, Лазарь Зервандов, раненный в голову и левую руку, Сливо Исаев — ранен в левый бок. Бедные товарищи вырвались побитые и раненые, а патриарх Мар-Шимун так и остался в грязи».
Вот как писал Лазарь Зервандов, и ещё он писал о том, что тавризский губернатор пообещал курдам и персам отвесить золота за голову Патриарха, и отвесить ни много, ни мало в двадцать раз больше.
Поэтому курды и персы искали тело, но не узнали Патриарха среди мёртвых.
И к вечеру ассирийцы отбили его.
В комментариях к этому месту литературовед Галушкин говорит, что Шкловский рассказывает эту историю несколько раз, подобно тому, как рассказывают о событиях в Библии. По-моему, это ключ — как раз в этом сила многих текстов Шкловского: он всё время возвращается к событию.
Оттого история предательства доверившихся и убийства Патриарха рассказывается несколько раз.
А уже на словах, когда пришёл он пить чай к Шкловскому на какое-то собрание ОПОЯЗа, Зервандов рассказал, как не узнал на базаре своего сына. Был он ав другом городе, что назывался тогда Эривань. Долго смотрел он на мальчика, но мальчик говорил, что отца его зовут Семёном. Мальчик за годы войны привык считать отцом брата Семёна.
Но жена узнала бывшего командира конной батареи Зервандова, и к ним прибежал брат Семён. А третий брат пригнал фаэтон. Шкловский не называет имени третьего брата, но тоскливое чувство подсказывает мне, что этим братом мог быть Иосиф Иванович.
Этот человек Иосиф Зервандов тоже потом чистил обувь на Ленинградских улицах, и был зачем-то расстрелян, причём в один год с Лазарем Зервандовым.
А пока все они живы и Шкловский стоит перед чистильщиком сапог, который только что был очевидцем и участником истории Востока. Но история прервалась на время и Лазарь Зервандов сидит на углу Невского и Караванной.
А другой ассириец, тяжело раненный, когда убивали Патриарха, тоже уцелел и торгует гуталином неподалёку, на углу Невского и Морской против Дома искусств.
Хорошо бы, конечно, теперь узнать что-то о судьбе полковника Кондратьева. Узнать, что он делал в России до 1922 года, и что делал потом.
Извините, если кого обидел.
18 мая 2011
(обратно)
История про то, как я слышал голоса
Ходил вчера у доброму человеку Паше Крючкову и слушал у него голоса мёртвых писателей.
Надо признаться, что я не с таким уж пиететом отношусь к старым записям писателей — там что-то трещит, шумит и голос с трудом пробирается к тебе. Будто человек прокусил подушку, набил пухом и перьями рот, но пытается что-то сказать. И ты любишь эти записи смешанным чувством — как бы из благодарности за мучения звука.
При этом я вполне с уважением отношусь к делу реставраторов звука.
Крючков, меж тем рассказывал, как говорили мёртвые писатели — Клюев пел, Блок был точен, Гумилёв не выговаривал половины букв. Это ему рассказала Берберова и многие вспомнили московский вечер Берберовой, когда публика висела на люстрах — и я подумол, что непонятно, ради кого теперь публика должна висеть на люстрах.
Кто он, человек, который соберёт зал для встречи — актёр? Певец?
Но актёры новой школы не склонны к содержательному монологу, они скорее объект для интервью.
Певцы не умеют говорить вовсе. Впрочем, они не умеют и петь.
А Крючков рассказывал, как в прежние времена прятали запись голоса Гумилёва: на бобине было помечено: "Николай Степанович". Отчество превратилось в фамилию.
Гумилёв, ясное дело, был фигурой неупоминания. Если бы его расстреляли в 1937 году он был бы разрешён ещё в пятидесятые, потому что 1937 год был годом санкционированной несправедливости, а вот 1921 год был ещё годом ленинских норм.
То есть были жертвы упоминаемые и неупоминаемые (не говоря уж о повешенном атамане Краснове, которого повесили-то за службу немцам — оттого романов Краснова как бы вовсе не было).
Но это я как-то отвлёкся.
Но есть ещё одно обстоятельство — литература так устроена, что сейчас записей много, а литературы мало. И, наоборот, когда литература была великаном, то звук почти не сохранялся.
Будто в замкнутом пространстве одно вытесняет другое, будто бы буква и звук не помещаются в этом объёме вместе.
При этом записывать звук вовсе не значит "озвучивать" — говорили все. Постоянно происходили читки не только стихов, но и пьес, рассказов и отрывков из романов. Сказывался дефицит множительной техники. (Поэтому-то происходило обожествление рукописи, и все эти разговоры о высокой цене рукописи, которые то горят, то нет, которые нужно "вернуть". Говорили "Мы возвращаем вам рукопись" в значении "мы вам отказываем". Сейчас-то никто рукописей не возвращает — просто нажимают Del).
В общем, оттого много произносили вслух, что распечатать или записать было сложно и дорого. Да и носители были весьма недолговечны.
Чем больше силы в технике, тем меньше её у литературы.
Орфографию потеснила фонетика.
Звук победил всё — в конце останется только шум ветра, который никто не слышит, потому что нет ушей.
Да, кстати, меня ещё упрекнули, отчего я хожу в военно-морской форме. Я люблю ходить в форме, потому что она придумана для того, чтобы люди в ней умирали. Она удобна для этого — а уж если она удобна для таких дел, то она удобна и в остальных случаях человеческого существования. Этого комфорта не нужно стыдится. Это правильный комфорт.
Впрочем, у меня была ещё одна мысль, и пожалуй, додумав, я запишу её позднее.
Извините, если кого обидел.
18 мая 2011
(обратно)
История про вторую мысль
…Вторая мысль заключалась в том, что у современного писателя есть одна новая обязанность — самому отредактировать себя и приготовить рукописи к посмертному существованию в Сети. Никто с его произведениями работать не будет, никто не будет сличать варианты и сравнивать версии.
Никакой новый Андронников, рыщущий по свету с загадкой Н.Ф.И. невозможен.
Что ты сам успеешь поместить на какой-нибудь сайт, что потом бесследно раствориться без бэкапов, то и успеешь.
И у тебя одна надежда на одинокого сетевого археолога, что залезет в этот могильник по случайному велению поисковой машины.
Извините, если кого обидел.
18 мая 2011
(обратно)
История про ссылки
Статья Гуковского "Шкловский как историк литературы".
Воспоминания А. Чудакова о Шкловском.
Глава из книги Каверина "Эпилог" "Я поднимаю руку и сдаюсь".
Отрывок из книги Семёнова "Боевая работа партии эсэров в 1918 году"
Текст статьи Виктора Ерофеева "Поминки по советской литературе"
Текст статьи Замятина "Я боюсь"
"Чулков и Левшин"
Избранные места из переписки
Переписка Шкловского с Эйхенбаумом
Переписка Шкловского с Тыняновым
Переписка Шкловского с женой Шкловской-Корди
Переписка Шкловского с Горьким
Извините, если кого обидел.
19 мая 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
— Никто не пишет майору и вопросов не задает?
— Да уж никому-то я не сдался.
—
Сдаетесь?
— Смотря кому.
— Помните, как Вас принимали в пионеры?
— Да, конечно.
Во вторую очередь — в первую очередь принимали отличников, а я получил тройку накануне.
Но отличников принимали в школьном коридоре, а когда пришла моя вторая очередь, нас всех повезли в музей Ленина.
Галстук мне повязал человек, ставший потом бандитом. Некрупным, правда.
А в музее на меня больше всего произвели впечатление ботинки Ленина. Очень остроносые, с очень высокой с шнуровкой.
— А я вот интересуюсь (с), что вы думаете о блоге Б.Акунина?
До этого момента ничего не думал. И, признаться, даже не знал ничего.
Извините, если кого обидел.
19 мая 2011
(обратно)
История про озабоченных писателей
Я долго выжидал, наблюдая туповато-весёлые споры вокруг писем Президенту и воплей по поводу гибели литературы (Я-то и сам люблю про это порассуждать — но с точки матроса-философа, тонущего на "Титанике".
Ну, ужас, конечно, но поздняк метаться.
Так вот, всё это давно было.
И было это в 1921 году, когда Замятин написал свою знаменитую статью. Я статью эту нашёл купированной, а потом обнаружил текст, но, может, в оригинале статья в журнале "Дом Искусств" чем-то отличалась.
Итак, Замятин говорит:
"… Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, если он хочет жить. В наши дни — в театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь; Тургенев — во "Всемирной литературе", несомненно, переводил бы Бальзака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Балтфлоте; Чехов служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить — жить так, как пять лет назад жил студент на сорок рублей, Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре "Ревизора", Тургеневу каждые два месяца по трое "Отцов и детей", Чехову — в месяц по сотне рассказов. Это кажется нелепой шуткой, но это, к несчастью, не шутка, а настоящие цифры…
Но даже и не в этом главное: голодать русские писатели привыкли. И не в бумаге дело:.главная причина молчания — не хлебная и не бумажная, а гораздо тяжелее, прочнее, железной. Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически-правоверным, должен быть сегодня полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатоль Франс, — тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло.
Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова. А если неизлечима эта болезнь — я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое".
Если кому не лень, то тот может прочитать статью полностью —
я её тут вывесил. (Отчего-то в Сети её до сих пор нет). Там много нажористого, а так же поучительного для многих нынешних начинающих писателей.
Я-то не начинающий, а всё равно с радостью портфель купил бы, почёл бы за удачу. А вам-то…
Извините, если кого обидел.
20 мая 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Есть ли в вашем мире человек, выдерни которого из мироздания — и оно всё расползётся, как свитер вязаный?
— Нет.
У меня есть довольно много людей, без которых мир неполон. И если что-то с ними случится то скорбь моя будет со мной до смерти, ничто не восполнит их исчезновения и всё такое.
Но расползание мироздания — это процесс быстрый, ощутимо долго его могут почувствовать только очень трепетные люди.
А наш век довольно чёрствый.
— Видели ли вы недавно на Культуре док. фильм про В. Распутина на Ангаре? Очень тяжелое впечатление. Что с ним? Или в СССР это была дутая величина?
— Фильма не видел, так что о нынешней работе и настроении писателя Распутина ничего сказать не могу.
В CCCР Валентин Григорьевич был фигурой вполне состоявшейся, настоящим представителем группы "деревенщиков", едва ли ни главным из них.
Я, впрочем, могу догадываться, что он там наговорил. Что Россию продали, а кругом царит печаль и запустение.
Ну, так это, в общем, так и есть.
Однако ж, если Герой Социалистического труда рассказал вам о контактах с инопланетянами — тут — да, есть основания для тревоги.
— А какой век мягким и трепетным?
— А это как для кого. Вот, к примеру, для писателей XX век был хорош — они были в цене, а во второй половине этого века, когда риски в России минимизировались, так и вовсе русскому писателю незаслуженное счастье подвалило.
Зато теперь им карачун, а вот дизайнерам, которых при писателях за людей не держали, слава и почёт.
Ну и тому подобное далее. Хотя я и вовсе не хотел отвечать на ваш вопрос. Тут ведь анонимный ресурс. Хуй его знает, кто вы такой? Вдруг вы — тот же человек, что меня раньше спросил, а вдруг иной? Вдруг я не догадаюсь, что это за век и мёд? А вдруг догадаюсь. Вдруг вы как плохой журналист на пресс-конференции — хотите вступить в диалог с тем, кто ее даёт, вместо того, чтобы сформулировать вопрос так, что хочешь — не хочешь, придётся отвечать. Даже если обосрался от страха.
Но плохого журналиста с пресс-конференции просто гонят ссаными тряпками, а вы можете просто пойти в мой Живой Журнал, и вести со мной диалоги там.
Тут место для отъединённых вопросов. Царство анонимности. Блиц, так сказать.
Извините, если кого обидел.
23 мая 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Знакомитесь на улице?
— Давно не знакомился. Внешность у меня для этого неподходящая.
Последний раз это случилось тогда, когда я утвердился в звании Настоящего Русского Писателя. Тогда и познакомился с какими-то людьми на улице.
Ведь настоящему русскому писателю нужно для утверждения в этом качестве придти в магазин и, заняв очередь, выйти на волю, в октябрьский промозглый воздух. Закурить «Беломор» с дембельской гармошкой.
— Эй, братан, — окликнут тебя. И ты поймёшь, что пока не сделал ошибок.
К тебе подойдёт сперва один, тщательно тебя осмотрев. Он спросит, нужен ли тебе стакан.
Вместо ответа ты вынешь семнадцатигранник из кармана и сдуешь с него прилипший мусор.
Тогда подойдёт и второй — спросит денег. Надо, не считая, на глаз, отсыпать мелочь.
И вот тебе нальют пойла, оно упадёт в живот сразу, как сбитый самолёт.
— Брат, — скажет тебе первый, — сразу?
А ты ответишь, что занял очередь.
— Не ссы, — ответит второй и свистнет. Из магазина выйдет малолетка, ты дашь ему денег (уже по счёту) и он вынесет тебе полкило колбасы, черняшку, три консервные банки неизвестной рыбы и главное в стекле.
Торопиться будет уже некуда. Вы разольёте по второй и снова закурите.
Ветер будет гнать рваные серые облака, будто сварливые жёны — мужей. И в этот момент надо понять, что ничего больше не будет — ни Россий, ни Латвий, а будет только то, что есть — запах хлеба из магазина, гудрона из бочки и дешёвого курева. И ты будешь счастлив.
В этот момент проковыляет мимо старушка и скажет:
— Ну, подлецы. Буржуи. Ещё б ананас на людях ели, гадюки.
И ты улыбнёшься ей.
Если соискатель сумеет в этот момент улыбнуться старухе, улыбнуться такой расслабленной улыбкой, после которой старушке даже расхочется плюнуть ему в залитые бесстыжие глаза — то, значит, он прошёл экзамен. Всё остальное: национальность, политические взгляды, ордена и тиражи — не важно, важна лишь эта улыбка русской небритой Кабирии, воспетой Венедиктом Ерофеевым.
— Да прямо-таки внешность неподходящая, с такой улыбкой и голосом. Кокетничаете тут, прибедняясь.
— Вы меня путаете с телевизионным диктором Владимиром Березиным, который постоянно ведёт какие-то концерты.
— Нет, никакой путаницы! Вас спутаешь, как же. Лучше ответьте: неужели только за себя самого страшно?
— Ну, конечно, ещё за всё человечество. И за полевых мышей.
— А мне вот только за своих близких страшно. Самому, думаю, главное не умереть раньше родителей и пока детям хотя бы лет 18–20 не исполнится.
— Это не главное. Это — от Бога.
Извините, если кого обидел.
23 мая 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
***
— А что про Стросс-Кана думаете?
— Мутная какая-то история. Мне в ней многое непонятно — в части мотивов действующих лиц. Так что лучше я думать о ней не буду.
***
— Литературная судьба С. Кржижановского — это что такое? Почему совсем не печатали и почти забыли?
— А там часто бывает — голос его был негромок. Как-то он был не в стиле эпохи — не для того, чтобы она проявила к нему интерес.
С другой стороны, его именно поэтому и не умучили.
Миновало зёрнышко жернова.
***
— Сколько шагов от любви до ненависти?
— Иногда и полшага не наберётся.
Извините, если кого обидел.
23 мая 2011
(обратно)
История про новости из Того
Dear Berezin,
I am Barrister Frederick Kpogo, Personal attorney to Late Mr A.I. Berezin, a contractor with one of the biggest oil servicing company here in Togo. On the 31st of July, 2006, my client and his family were involved in a car accident while arriving from a holiday. All occupants of the vehicle unfortunately lost their lives. I have made several inquiries to locate any of my clients extended relatives but was unsuccessful.
Since I have been unsuccessful in locating the relatives of my client, I am contacting you to assist me in claiming the sum of US$9.5 million which my late client deposited with a bank here in Togo, since you both have the same last name.
Вот ведь какая штука,
Петька… то есть Барристер Фредерик…
Фейсбук приглашает меня на литературные вечера в Нью-Йорке. Это, я считаю, лёгкое издевательство.
Впрочем, о другом — сегодня говорил с одним участником войны. Не видел его прежде, ан оказался он, конечно, не прытким, но весьма живым и бодрым стариком. Это как-то меня самого неоправданно взбодрило и обнадёжило.
Извините, если кого обидел.
24 мая 2011
(обратно)
История про шпаргалку
Однажды я рассказал студентам историю про зачёт. Один преподаватель при мне обнаружил у студентки длинную кручёную шпаргалку. Он сказал барышне, что поставит ей зачёт, если обнаруженная им шпаргалка дотянется до двери.
Я рассказал эту историю и забыл об этом.
Однако ж, прошла пару месяцев и мои подопечные принесли мне собственное изделие.
— Вот, — сказали они и посмотрели на меня выжидательно.
Я вздохнул.
Артефакт сохранился.
Если кому нужно, то могу подарить.
Два с половиной метра.
Расстояние до двери.
Извините, если кого обидел.
24 мая 2011
(обратно)
История про газибо
Ходил смотреть фильм Гуреева "Газибо". Как бесчестный человек, сперва решил посмотреть, что пишут. Поискал это слово и увидел яростные битвы бывших соотечественников на форуме в Торонто. Битвы были о том, как установить газибо в патио.
Извините, если кого обидел.
25 мая 2011
(обратно)
История про Достоевского
А… Так сценарий сериала про Достоевского написал Володарский? Что ж я раньше не осведомился.
Извините, если кого обидел.
26 мая 2011
(обратно)
История про желание быть Гоголем
Поутру получил письмо (я всё никак не дойду до дому) прекрасного свойства.
"Здравствуйте, говорят, мы тут вас пригласили на премию "Национальный бестселлер" и вы даже аккредитовались, да только вас слишком много, и от вашего издания уже есть человек. который напишет статью о нашем мероприятии, а с вами непонятно. Вы извините, но сами понимаете".
Я замер, ловя воздух ртом, как герой одного гоголевского рассказа, что очень помнил, что выиграл много, но руками не взял ничего и, вставши из-за стола, долго стоял в положении человека, у которого нет в кармане носового платка.
Собственно, я быстро догадался, что дело тут в плохо обновляемых базах данных.
Но дело-то не в этом — я-то каков! Хорош гусь, я думал, меня зовут оттого, что я гений. А тут вона как вышло! Спросили бы меня, так я честно бы ответил, что живу под забором, как настоящий писатель.
Если где и напишу, так только в мемуарах.
Брат мой
soamo, ты был прав, прав!
Нет, был у меня случай. когда одна барышня пригласила меня на день рождения, указала адрес, а потом специально позвонила и говорит: "А ты, Вова не приходи. Ты мне в самый день рождения не позвонил, а лишь накануне, и вообще всё это не считается", ну и проч., и проч.
Но, если говорить серьёзно, то это всё пустое. Любое происшествие, что ты наблюдаешь из окна кареты или с балкона явлено нам только для того, чтобы развеселить нас.
Однако эта коллизия давно описана, и опять не без привлечения Гоголя. Рецепт тут один: "Однажды Гоголь переоделся Пушкиным, сверху нацепил маску и пошел на бал-маскарад. Там
к нему подпорхнула прелестная дама, одетая баядерой и сунула ему записочку. Гоголь читает и думает: "Если это мне как Гоголю — что, спрашивается, я должен делать? Если это мне как Пушкину — как человек порядочный, не могу воспользоваться. А что, если это всего лишь шутка юного создания, избалованного всеобщим поклонением? А ну ее!" И выбросил записку в помойку".
"
Извините, если кого обидел.
26 мая 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— А про кого вы сейчас пишете?
— Биографию одного человека.
— Вам нравится писать биографии? Чем это отличается от прозы?
— Их можно писать по-разному.
— У меня выходит как раз проза.
— Тут важно соблюдать баланс между документом и читательским интересом.
Вот мой персонаж — случай особый. Это очень трудно, потому что он всю жизнь всех путал и придумывал свою биографию наново.
Но ещё труднее это из-за того, что в самом случае приходится писать сразу несколько биографий разных людей. Тек кто в близком круге и тех, кто был случайно знаком с персонажем.
Я сейчас по делу читаю множество мемуаров.
Я и раньше читал их много, потому что работал в газете, занимавшейся рецензиями. Всяк хотел рецензировать какого-нибудь Памука, или, на худой конец, Пелевина. Я же был покладистый, и писал про всё то, от чего отказывались коллеги — про детскую литературу, про справочники и, разумеется, мемуары.
Но после того, как я написал сам пару биографий, то понял, насколько это полезно.
Вообще, всякий человек должен написать чью-нибудь биографию. Можно родственников, но лучше какого-нибудь упыря типа Наполеона.
И, написав эту биографию, ты понимаешь цену поступков и тщетность человеческих амбиций.
Всё просеивается через время.
Люди проживают свою жизнь начисто, и большая часть того, что их волновало, оказывается неважным — это великое свойство времени.
От человека остаётся вовсе не то, на что он рассчитывал.
Иногда от человека остаётся даже не портрет, а ухо. Или часть щеки с бородавками.
Это очень полезно понимать — что никто не придёт на твою выставку "20 лет работы".
И бестолку кричать, что ты талантлив, умен, смел… Что если бы ты жил нормально, то из тебя мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский… Я зарапортовался! Я с ума схожу! Ну и далее в том же духе.
Мир очень мудр, и, одновременно, жесток.
— Обязательно написать (биографию)? Или иначе всю эту кропотливую работу вряд ли станешь делать и так ничего и не поймешь?
— Когда ты описываешь чужую жизнь, ты отжимаешь из неё воду дней, всё то, что заботит меня и вас. Оказывается, что квартирный вопрос, простуды, большая часть влюблённостей, обиды — всё это не интересно. У меня есть один рассказ где герои говорят:
— Тут дело не в этом, — сказал просто успешный человек Леонид Александрович. — Ну вот попадаешь ты в прошлое, раззудись плечо, размахнись рука, разбил ты горячий камень на горе, начал жизнь сначала. И что ты видишь? Ровно ничего — есть такой старый анекдот про то, как один человек умер и предстал перед Господом. Он понимает, что теперь можно всё, и поэтому просит:
— Господи, — говорит он, — будь милостив, открой мне, в чем был смысл и суть моей жизни?
Тот вздыхает и говорит:
— Помнишь ли ты, как двадцать лет назад тебя отправили в командировку в Ижевск?
Человек помнит такое с трудом, но на всякий случай кивает.
— А помнишь, с кем ехал?
Тот с трудом вспоминает каких-то двоих в купе, с кем он пил, а потом отправился в вагон-ресторан.
— Очень хорошо, что ты помнишь, — говорит Господь и продолжает:
— А помнишь ли ты, как к вам женщина за столик подсела?
Человек неуверенно кивает, и действительно, ему кажется, что так оно и было.
— А помнишь, она соль попросила тебя передать…
— Ну и?
— Ну и вот!
Никто не засмеялся.
— Знаешь, это довольно страшная история, — заметил я.
— Я был в Ижевске, — перебил Сидоров. — Три раза. В вагоне-ресторане шесть раз был, значит. Точно кому-то соль передал.
Так вот, попытка написания чьей-то биографии (вне зависимости от таланта автора и успеха предприятия в целом) — это поиски тех моментов, когда человек передавал соль. И это тот опыт, что тебе показывает: соль передают очень редко.
Извините, если кого обидел.
28 мая 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Как относитесь к автобиографиям?
— Смотря к каким — к тем, которые надо заполнить при поступлении на службу — с некоторой скукой. Мне там особо много не написать. Но, например, по Сети кочуют биографические справки обо мне. Такие справки, что пишутся сзади какой-нибудь книги. Обычно эти тексты берут из какого-нибудь справочника, а справочник в моём случае взял из автобиографии. Там есть оборот «родился в семье служащих» — он перекочевал из того времени, когда для карьеры было лучше родиться в семье рабочих, а потом (по убыванию) — семье колхозника.
Но кому это сейчас объяснишь? Непонятно.
А тем автобиографиям, что зовутся «мемуары» — с интересом.
Но там всегда встаёт так называемая «обратная задача» — восстановление реальности по результату, учитывая характер и мотивацию автора.
— А зачем вам этот оборот про семью служащих? Вы же всё только притворяетесь стареньким, а у самого никакой карьеры в те времена не было, кроме учебной (если верить дате в справочниках и своим глазам)
— Зачем?! «Зачем это Семён Петрович заболел»? Мне он особо не нужен, а вот — кочует. А в начале восьмидесятых им во всю пользовались в автобиографиях. Впрочем, я об этом уже написал, просто перед тем, как задавать уточняющий вопрос, было бы неплохо внимательно прочитать сам ответ. Но это я мечтаю об идеальном читателе.
— Читаю внимательно, оттого и не понимаю, что за карьера была у вас в начале 80-х… философа в осьмнадцать лет?
— Если у вас от чтения ухудшается понимание, то следует завязывать с чтением.
Извините, если кого обидел.
28 мая 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— А Вас что волнуит?
— грамматность
— Вам чего волноватся — проверочное слово грамматика. Или у Вас сомнения какие и раздумия о судьбах налево или направо…а тут мы со своими глупыми вопросами.
— Смотря сколько вас. Потому как есть ещё те, у кого вопросы неглупые. Их не хотелось бы упустить.
Извините, если кого обидел.
29 мая 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
***
— Как Вам Триер?
— Тридцать два примерно.
***
— Бог это женщина или мужчина, как думаете?
— Я, честно говоря, на эту тему не думаю. Традиционно представляю его мужчиной, но знаю, что есть разные религии и отношусь к их гендерным проблемам с пониманием.
***
— А что бы вы сами о себе рассказали, безо всех этих странноразных вопросов?
— Я — смертен. Это, в общем, самое главное.
Извините, если кого обидел.
29 мая 2011
(обратно)
История про нетбуки
С чувством глубоких опасений я хочу задать один насущный вопрос.
Я буду спрашивать о покупке одного устройства.
Дело тут вот в чём: во-первых, на такие объявления набегают боты по ключевым словам. Есть посты, которые я написал несколько лет назад, но туда до сих пор наведываются боты и рассказывают мне, где дешевле купить картриджи для принтеров (я не про них спрашивал) и дешёвые модемы (и не про них — тоже).
Во-вторых, даже хорошие люди в таких случаях сходят с ума, и решают, что их спрашивают о тайнах мироздания и перспективах развития отрасли.
А, согласитесь, это неправильно — желать стукнуть хорошего человека по голове гигантским чупа-чупсом.
Так вот, не порекомендует ли мне кто-нибудь недорогой нетбук следующих параметров:
размер — минимальный, я бы разжился даже 7" экранным, но ими, кажется, не 10"-выми остались только планшетники (Впрочем, я размышлял и о планшетниках).
можно (и даже лучше) без жёсткого диска.
долгая батарея.
То есть, как вы понимаете, я ищу печатную машинку с выходом в Интернет.
Извините, если кого обидел.
30 мая 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Вы когда-нибудь сомневались в существовании бога? Ведь стоит только чуть приоткрыть свободу логическому мышлению в этом вопросе, и понятно, что бог невозможен, и вера в него глупа.
— Как раз наоборот, механическая логика, по-моему, всегда наводит на мысль о том, что мир существует только благодаря чуду.
— Но разве обязательно этому чуду быть богом? Может это что-то, породившее мир, но существующее за его пределами — другая мера, безличная, совершенная, содержащая в себе всё и одновременно ничего. Ну и так далее.
— Мне сложно поддерживать разговор о персональных абстракциях.
— В них-то, в "персональных абстракциях" и сокрыта истина! А единственный смысл нашей жизни — это её поиски.
— Да, но мне бы не очень хотелось копаться в чужих неизвестных персоналиях. Это, боюсь, смысл не моей жизни. Для этого существуют специально обученные люди. Я даже знаю нескольких осмысленно практикующих. Незадорого.
— А что Вы называете чудом — что-то непонятное и необъяснимое как громы и молнии разгневанного Зевса?
— Ну. как раз громы и молнии довольно понятны и объяснимы в рамках моего первого образования. Необъяснимы повороты человеческой судьбы: жил человек, совершенно бессмысленный, неинтересный, но вот бесплодные женщины от него беременели. Причём те, кому врачи отказали в материнстве. Они его не то, что боготворили, но были благодарны. Почему это так ему выпало — непонятно. Этого человека я знал.
Или люди, что встречаются в разных местах Земли, а потом встречаются их дети, ну и всё это причудливо сочетается. И это я видел.
Или то, как складываются удачи неудачи в единый пазл.
Извините, если кого обидел.
30 мая 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
***
— В чем Вы сами себе боитесь признаться?
— В итогах жизни.
***
— Кто Вам дороже — Путин, Медведев, Мидянин или Гаечка из мультика про бурундуков? Кого из них Вы угостили бы чем-нибудь с моховиками?
— Мне кажется, что их вполне можно позвать всех вместе. Я бы и Шляпника, правда, тоже б позвал.
Извините, если кого обидел.
31 мая 2011
(обратно)
История про даосов и поиск собственной координаты в мироздании
Продолжаю познавать своё место в жизни. Мне позвонили из издательства и сказали, что хотят видеть меня на круглом столе, посвящённом ***.
Я осведомился о подробностях у устроителей, и они мне с некоторой брезгливостью сказали:
— Мы на самом-то деле хотели В.
Тут же сообщил им телефон В., ибо всё это проверка для настоящего даоса.
Так, один даос во время мятежа встретил толпу цириков, которые, со знаменами, но без офицеров, под предводительством одного только шао вэя, направлялись на присоединение к бунтовщикам. Даос, не зная умысла увлеченных в обман цириков, скомандовал им остановиться и выстроиться, на что они отвечали криком: "Мы за другого даоса!" — "Когда так, то вот ваша дорога!", сказал первый даос, и указав направление, приказал окружавшим его войскам расступиться и пропустить цириков, которые, пробежав по сторонам лошади даоса, достигли означенного места и присоединились к мятежникам.
Извините, если кого обидел.
31 мая 2011
(обратно)
История про лето

Слово о том, как важно понимать, где и зачем ты находишься, и соизмерять свои перемещения со своей амуницией, временем года и прочими возможностями
Гости, соответственно, съезжались на дачу. Кто-то приехал загодя, а кто-то зацепился в городе и никак не мог доехать. А ведь только на дачу и нужно ездить летом, дальше дачи — никуда.
Это уж ясное дело, что нормальный человек, когда полетит тополиный пух, норовит потеть в чужом неприкаянном месте, где квакает и клацает иностранная речь, где песок желтее и в море тонуть приятно — оттого что приобщаешься к интересному заграничному миру и помираешь как настоящий иностранец.
А в отличие от нормального умный человек сидит летом в городе. Ходит на работу в шлёпанцах, галстуков не носит, а если пойдёт дождь, то умного человека он застигает в гостях у красивой женщины с печальными глазами. Они сидят на широком подоконнике и смотрят, как снаружи коммунальной квартиры дождь моет узкий переулок. Жить им в тот момент хорошо, потому как соседи уехали на дачу, и можно стать печальными несколько раз, пока умному человеку снова придётся надеть шлёпанцы и отправиться домой к своему семейству. Там тепло и влажно после дождя, а из-под раковины пахнет мёртвой крысой.
Летом в городе хорошо.
А путешествовать можно зимой — зимой на путешественника смотрят жалостно, ему открывают дверь и как куль его суют на полати, накормив предварительно мясной похлёбкой. Ишь, думают хозяева, нелёгкая выгнала человека из дома — вона как жизнь его обернулась. И ставят бережно его обледенелые шлёпанцы под лавку.
Летом же — шаг вправо, шаг влево — только на дачу.
У меня есть довольно много хороших друзей, что время от времени зовут меня на дачи.
Для этого надо встать с рассветом, потому что они заезжают за мной ранним утром.
— Пробки, сам знаешь, — говорят они, и я понимающе киваю. Я поутру всегда понимающе киваю, потому что спросонья не могу говорить. Про себя я думаю — кто едет на дачу в полдень или около того? Когда мои друзья и знакомые, друзья друзей и знакомые знакомых и все их родственники едут на дачи в восемь утра? Кто они эти люди, что едут на дачу, выспавшись? Кто в пробке, кто — Пушкин с Натальей Николавной?
Но мы давно едем на дачу, и я сплю в машине, потом я сплю в каком-нибудь дальнем уголке, чтобы никому не мешать. Однажды я уснул в маленьком загончике для механических тяпок, рыхлителей и газонокосилок. Я ворочался, нажал куда-то затылком — одна косилка внезапно заработала, вырвалась на волю, и её два часа ловили все соседи.
Мне уже можно не тыкать на чужом участке лопатой — я тут просто так, для мебели. Да и мои друзья горазды засадить участок не клубникой, а деревьями и задумчиво приобщаться к высокому. Слушать, например, «Владимирский централ», что завели соседи.
Обычно я просыпаюсь ночью — и вижу вокруг сонное царство. Одни присвистывают, другие причмокивают, третьи всхрапывают. Не в силах найти обувь, я ступаю с крыльца босиком и брожу вокруг потухшего костра. Там я дятлом клюю недоеденный лук от шашлыка и писаю под соседский забор.
Ночью на дачах — особая жизнь. Я слышал, как звучит гармошка, которую волочит по тропинке, взяв за один конец, одинокий гармонист.
Мне внятен тонкий посвист ночных птиц и сумрачных лягушек тени. Я видел крота — от кончика носа и до хвоста ему грациозная стройность и нега дана, и бег его — медленный камня полёт, когда в темноте он падает в вырытый ход.
Я слыхал, поют коты, нет, не те коты, не полевые, а обрезанные и хмельные, о чём поёт ночная птица, повесив стул на спинку пиджака, когда ей не к чему стремиться, и как туман трещит как будто рэп, попав на линии высоковольтной ЛЭП, — трещит, будто тонкий звук путеводной ноты.
Но чу! Пьяные дачники угнали КамАЗ с кирпичом и перекидывают груз через забор. Наутро их осталось восемь.
Утром меня будят.
— Если ты хочешь ехать с нами, то пора собираться. Сам понимаешь…
Я понимаю и киваю головой. Друзья везут меня улыбаясь — в голове у них мягко распускается анекдот «купи козла — продай козла». Они спрашивают меня что-то, и я утвердительно трясу головой. Обычно голова перестаёт качаться, когда я вижу над головой сплетения транспортных развязок Кольцевой дороги.
Я люблю ездить на чужие дачи.
Извините, если кого обидел.
31 мая 2011
(обратно)
История про молодость
Варвара Викторовна Шкловская рассказывала мне между делом, историю про то, что при введении паспортного режима в СССР многие дамы убавили себе возраст. Убавили решительно, кто на десять лет, кто даже на пятнадцать.
Система была подозрительна, но дураковата.
Но пришёл тяжёлый военный год, и мобилизации подлежали не только мужчины, но и всякий гражданский народ. Мобилизовывали, правда, на строительство укреплений и полевые работы.
Так вот, в принципе можно было сознаться, сдать назад и отказаться от своего паспортного возраста. Не очень представляю как, но можно. Махать свидетельством о рождении — неважно как, впрочем.
Однако многие дамы предпочитали остаться при своих убавленных годах.
Сжав зубы, задыхаясь, кидали землю лопатой.
Молодость дороже.
Извините, если кого обидел.
01 июня 2011
(обратно)
История про сосну
Посетил, следуя давней традиции, праздник имени Эрика Картмана в Царицыно. Старички передохли от цирроза, кругом изобилие пригожих девок (Или же годы берут свое и я стал менее требователен). Лежу сейчас под деревом в тени и пробавляюсь живым квасом. Нет, положительно, множество пригожих девок вокруг.
Шелестят юбками и грохочут монистами.
Извините, если кого обидел.
01 июня 2011
(обратно)
История прор Эйхенбаума
Посетил сегодня Ленинскую библиотеку, и не нашёл ничего лучше, чем купить там книгу. Поддержал, так сказать, бумажное книгоиздание.
Печально другое, я забыл, что в книге Эйхенбаум Б. Мой временник. Маршрут в бессмертие. — М.: Аграф. 2001. - 384 с. практически отсутствует справочный аппарат.
Впрочем, что там, "практически". "Практически" — это мусорное слово. Он там отсутствует. Это очень жаль, но я сетую не на составителей, а на судьбу. Нужно восстановить пробел: это текст изначально напечатан в "Эйхенбаум Б. О Викторе Шкловском, в кн.: Мой временник. — Л.: 1929."
Вот он, возможно кому-нибудь пригодится, потому что в Сети его не было.
О ВИКТОРЕ ШКЛОВСКОМ
[128] Виктор Шкловский — один из немногих писателей нашего времени, сумевший не сделаться еще «классиком». Это выражается не только в том, что у него до сих пор еще нет «собрание сочинений» и его не предлагают, вместе с покойными [129] Тургеневым и Достоевским, подписчикам журнала, но и в том, что его многочисленно, ожесточенно и непочтительно обсуждают.
Он печатается уже 15 лет — и все эти 15 лет он существует в дискуссионном порядке. Если бы сейчас действовало бюро вырезок, и Шкловский вздумал бы обратиться к нему, то на это дело пришлось бы посадить специальную барышню, и из самых бойких. Каждый день, в какой-нибудь газетной заметке или журнальной статье Шкловского «ругают». Дело доходит до того, что у Шкловского учатся для того, чтобы научиться его же ругать.
При этом обсуждают не столько его идеи, стиль или теории, сколько что-то другое — его самого: его поведение, тон, намеки, манеру. Он существует не только как автор, а скорее, как литературный персонаж, как герой какого-то ненаписанного романа — и романа проблемного.
В том-то и дело, что Шкловский — не только писатель, но и особая фигура писателя. В этом смысле его положение и роль исключительны. В другое время он был бы петербургским вольнодумцем, декабристом и вместе с Пушкиным скитался бы по югу и дрался бы на дуэлях; как человек нашего времени — он живет, конечно, в Москве и пишет о своей жизни, хотя, по Данте, едва дошел до ее середины. В другое время его назвали бы «властителем дум»; в наше строгое, скупое время его назовут, пожалуй, «властителем фразы». — до такой степени манера его вошла не только в литературу, но в письмо, в быт, в разговор, в студенческие рефераты.
Хвалить Шкловского в печати редко кто берется, потому что каждому пишущему (в том числе — и рецензенту, как бы он ни подписывался — Жорж Эльсберг или Я. Николаев
[45]) надо прежде всего освободиться от него. На него жалуются как на несправедливость судьбы. Он обидел многих: одних — тем, что, не зная английского языка и немецкой науки, сумел возродить Стерна, других — тем, что, написав замечательные работы по теории прозы, оказался не менее замечательным практиком. Это особенно раздражает «беллетристов». [130] Пока человек ходит в теоретиках беллетристы смотрят на него спокойно и свысока Шкловский сумел не стать беллетристом, но тем не менее доставил им много неприятностей своими книгами. Людям, не связанным с ним профессиональной или исторической дружбой, трудно переносить его присутствие в литературе.
Шкловский совсем не похож на традиционного русского писателя-интеллигента. Он профессионален до мозга костей — но совсем не так, как обычный русский писатель-интеллигент. О нем даже затрудняются сказать — беллетрист ли он, ученый ли, журналист или что-нибудь другое. Он — писатель в настоящем смысле этого слова: что бы он ни написал, всякий узнает, что это написал Шкловский. В писательстве он физиологичен, потому что литература у него в крови, но совсем не в том смысле, чтобы он был насквозь литературой, а как раз в обратном. Литература присуща ему так, как дыхание, как походка. В состав его аппетита входит литература. Он пробует ее на вкус, знает, из чего ее надо делать, и любит сам ее приготовлять и разнообразить. Поэтому он профессионально читает книги, профессионально разговаривает с людьми, профессионально живет. Не профессионален он только, когда спит — и потому (несмотря на скрип рецензентских перьев) спит крепко, не так, как обычно спят русские литераторы и беллетристы.
Старому поколению русских интеллигентов Шкловский, в свое время, пригрозил «Опоязом» — так, как сто лет назад будущие русские «классики» пригрозили академикам и шишковистам своим «Арзамасом».
Новое поколение борется с Шкловским, потому что оно должно придумать что-нибудь свое. Это, конечно, лучшее доказательство того, что Шкловский — человек, воплотивший в себе дух своего поколения.
Если он еще не «классик» (как хотя бы, например, Леонид Гроссман), то только потому, что он относится к числу не настоящих, а будущих русских классиков.
Извините, если кого обидел.
02 июня 2011
(обратно)
История про воспоминания
Это довольно грустная история. В общем все умерли. А я знал этих людей близко.
Дело вот в чём — вышли воспоминания Сердобольской. Ольгу Юрьевну знал я близко. Её часто поминали в связи с тем, что её дед написал музыку, что исполняется чрезвычайно часто и называется в обиходе "В лесу родилась ёлочка". Под Новый год к ней приходили корреспонденты и задавали одинаковые вопросы — это был странный ритуал. Однако потеря чужих судеб немного обидна.
Я много что знаю о ней, и вот, покидая тот район где мы все жили, я стал перечитывать эти воспоминания.
"5-я Тверская-Ямская, дом 30, квартира 11, моя малая родина… Город меняется медленно, но проходят два-три десятилетия, и ты уже не узнаешь родных мест. Молодежь удивляется: оказывается совсем недавно на моей памяти, не было ни Черемушек, ни Университета; на Калужском шоссе, теперешнем Ленинском проспекте, были "академические" огороды, где мы сажали картошку, а на месте Университетского проспекта был изъезженный большак со шлагбаумом, и парни из села Семеновского, сапогах и косоворотках, орали песни под гармонь. Парни, впрочем, не сильно изменились, только вместо гармони — плеер с наушниками.
Про картошку мама рассказывала такую историю. Когда во время войны ученым Академии наук выделили делянки под картошку, конечно, заниматься огородом пришлось маме. Она тоже была не бог весть какой огородник, поэтому посадила картошку кое-как и до конца августа туда больше не приезжала. Остальные ученые принялись ухаживать за картошкой "по науке": сыпали какую-то химию, окучивали, пололи. Каково же было всеобщее удивление, когда на нашем заросшем травой участке картошка оказалась в два раза крупнее, чем у остальных!
Мы жили за Садовым кольцом, между Тверской и Каляевской (ныне снова Долгоруковской), среди многочисленных Тверских-Ямских и Миусских улиц и одноименных переулков. Наш район считался Миусской частью, и телефон наш был Миусы (Д) 1-04-05.
Это был район "деревянной Москвы", только в тридцатых годах он начал застраиваться 6-7-этажными зданиями, между которыми было разливанное море одноэтажных домишек, откровенно бревенчатых или оштукатуренных. Ближе к Тверской иногда встречались доходные дома в стиле модерн. Однако в районе 5-й Тверской-Ямской и дальше, к Каляевской и Новослободской, была настоящая "Котяшкина деревня", как ее называли окрестные жители. Все местные хулиганы были в основном из "Котяшки", и вечером там появляться одним не рекомендовалось.
Наш дом, построенный в 1933-34 годах, выходил торцом на 5-ю, а шестью подъездами на Пыхов тупик, сейчас там просто двор. Два или три подъезда были на другом торце, где дом поворачивался буквой "Г". Дом был изначально розовый, покрытый мраморной крошкой, но на моей памяти он уже стал закопченным, темно-серым. Каждый подъезд слегка выдавался вперед и обрамлялся четырьмя колоннами, между средними была дверь, а между крайними — лавочки, где по вечерам сидели обязательные лифтерши в обществе пожилых матрон или шушукались девчонки. Между подъездами зеленели газоны с деревцами, огороженные гнутыми трубами, по которым мы любили ходить, изображая канатоходцев, причем регулярно шлепались на газон. За это нам крепко попадало от нашей дворничихи и лифтерши Крыловой (Крылихи), которая жила в нашем подвале и все видела. Меня она только ругала, обещая нажаловаться бабушке с дедушкой, а чужих просто лупила по загривку. С ее сыном Толькой я позже регулярно дралась на улице. Один на один — я мальчишек не боялась, здоровая была, хотя и храбростью не отличалась. Но эти гады норовили напасть стаей, и как-то врезали мне из рогатки куском алюминиевой проволоки в висок — хорошо не в глаз! Но это позже, уже в школе.
В тридцатые годы в нашем доме жили летчики, военные, юристы, как мой дед. Дом был кооперативный, и квартиры, по большей части, отдельные. Надо ска-зать, что после выплаты пая дом немедленно стал государственным, и никакой собственности жильцы не получили. А после 37-го года из первых кооператоров уцелели считанные единицы. В нашем первом подъезде, кроме нас, Генины и Строкатенко, во втором подъезде семья Светки Черкасовой. Дед ее, Алексей Иванович Стражев, был историком, профессором МГУ, а бабушка — педагогом- математиком (мы в пятом классе учились по ее учебнику, "по Березанской"). Мама рассказывала, что в 37-м году они почти каждую ночь не спали, прислушивались: за кем сегодня… Аресты происходили всегда ночью. НКВД-шники почему-то никогда не пользовались лифтом (впрочем, лифт работал до двенадцати), и тихие шаги приближались по лестнице, а утром чья-то квартира оказывалась опечатанной, и соседи старались не смотреть друг на друга. Сейчас трудно даже вообразить себе ужас этих ночей, многие годы подряд. Какие там телекиллеры — детский лепет…
Позже появились другие жильцы. Квартиры стали коммунальными. Многие въехали после войны вместо эвакуированных, выселенных якобы за неуплату. В покинутые квартиры могли вселить кого попало за небольшую мзду. Мы, дети, конечно, всего этого не знали, да никто нам об этом и не рассказывал. В нашем мире были совершенно другие ценности. Смертным грехом считалось наябедничать на кого-нибудь, хотя среди родителей, по-видимому, донос считался явлением нормальным, и сексотом был чуть ли не каждый третий. Почти всех людей, сидящих дома, пытались завербовать в осведомители, к моей бабушке тоже подъезжали, она отговорилась болезнью. У детей же про "ябед-корябед" ходила дразнилка, сочиненная еще при царе Горохе:
Ябеда проклятая, На колбасе распятая, Сосисками прибитая, Чтоб не была сердитая.
Колбасу и сосисок большинство ребят никогда не видели, питаясь хлебом и картошкой. Были еще другие дразнилки — "религиозного" содержания:
— А?
— Ворона-кума! Тебе крестница, мне ровесница. Меня крестили, а тебя в помойку опустили.
Большинство ребятишек были некрещенные и в бога не верили, но быть опущенным в помойку никому не хотелось.
Раньше 5-я Тверская-Ямская (ныне ул. Фадеева, если обратно не переименовали) не доходила до Садового кольца, и на месте ее нынешнего начала была "проходняшка", — проходной двор. При входе во двор еще долгое время после войны стояли противотанковые ежи, сваренные из рельсов и опутанные колючей проволокой. Здесь наша "Пятая" сворачивала под прямым углом по направлению к площади Маяковского и превращалась в 1-й Тверской-Ямской переулок, который пересекал 4-ю, 3-ю и 2-ю Тверские-Ямские и выходил на улицу Горького. Этот участок улицы Горького только недавно наконец переименован снова в 1-ю Тверскую-Ямскую, а то мы в детстве никак не могли понять, как так, четыре Тверские-Ямские есть, а 1-й нет. Дальний от центра конец нашей улицы упирался в Миусский сквер, на который выходил фасад "Менделеевки" — Химико- технологического института им. Менделеева. По дороге "Пятую" пересекала 3-я Миусская, тоже довольно большая улица, которая пережила два переименования: в 50-х годах она стала улицей К. Готвальда из-за близости к Чехословацкому посольству (ближайшая Васильевская улица стала улицей Ю. Фучика), а после перестройки ее назвали ул. Чаянова. На углу 3-й Миусской находилось старое здание ФИАНа, где работал папа, — сейчас там Институт прикладной математики. Меня в детстве один раз туда водили, но больше бывать я там не пожелала, потому что ужасно испугалась известного физика Б.М. Вула — он был похож в моих представлениях на страшного гнома и так жутко улыбался… Мы встретились лет через тридцать на защите Ирки Дрогайцевой. Он мило держал меня за коленку, тогда я все это ему выложила. Наверно, обидела старика.
На углу "Пятой" и 3-й Миусской, которая шла от ул. Горького до Новослободской, стоял дровяной склад, и даже сейчас, проходя там, я всегда мысленно чувствую замечательный запах свежераспиленных березовых поленьев: говорят, что обонятельные воспоминания самые прочные. На 3-й Миусской стоял и стоит поныне Дом композиторов, где в те годы жило полно наших знакомых музыкантов, например, А.И. Хачатурян и С.А. Самосуд. Потом многие уехали в более новые "композиторские" дома — на ул. Огарева (Газетный пер.) и на Садовом кольце. Вообще в нашем районе многие новые дома имели названия (Дом пилотов, Дом Милиции) по-видимому, они были ведомственные. В Доме композиторов располагались правление Союза композиторов и уютный клуб с красными плюшевыми занавесями, где мы позже смотрели разные "непрокатные" фильмы, в том числе Чаплина, Диснея и т. д. Мама рассказывала, что Дом Композиторов был задуман в виде арфы — чего не придумывали в 30-е годы! — а когда начали возводить участки с отрицательной кривизной, постройка стала рушиться, и работы остановили. Я, правда, не нахожу сейчас никакого сходства с арфой — дом, как дом: наверху перильца с вазонами, большие подъезды и красивые лифты со скамеечками и зеркалами.
Троллейбусы, в том числе и двухэтажные, ходили в 40-х годах только по улице Горького и Садовому кольцу (кольцу "Б") и назывались "букашками". Теперешние троллейбусы "Б" взяли свой номер от трамвая, а может быть, даже конки, ходившей некогда по Садовой. Остальной транспорт был трамвайный, между прочим, экологически более чистый, чем автобусы. По Оружейному переулку, от которого теперь осталась четная половина, ходили трамваи, с трудом разворачиваясь на углу Каляевской. Там и сейчас часто бывают пробки, а тогда было чудовищное нагромождение трамвайных путей, а на углу — будка, где сидела стрелочница, — стрелки переводились вручную. Садовая тогда была вдвое уже, хотя сады уже срубили. На углу Каляевской и Садовой находился молочный магазин, снаружи и изнутри выложенный белым кафелем, который мне всегда хотелось полизать. Трамваи с Оружейного сворачивали на 3-ю Тверскую-Ямскую и шли по ней в сторону Белорусского вокзала и Пресни: трамвай А — "Аннушка", — который почти целиком вытеснили с бульварного кольца А, затем № 23 с красным и синим фонариками и № 28 — с красным и зеленым. По 1-му Тверскому-Ямскому переулку ответвлялась грузовая трамвайная линия, заворачивала на нашу "Пятую" и упиралась в ворота термитно-стрелочного завода. Он находился неподалеку от нашего дома, что там делали — убей, не знаю, по-видимому, что-то железное, т. к. из цехов доносился грохот. Грузовые трамваи с маленькой кабинкой и двумя открытыми платформами ходили по нашей улице редко, два-три раза в день, а потом и вовсе перестали. Кстати, о трамваях. Как утверждали мама, тетя Оля и Вера Антоновна Чунгурова, всю жизнь прожившие на Бронной и Патриарших, никакой трамвай никогда не ходил ни по Бронной, ни вокруг Патриаршего пруда, ни по окружающим переулкам, он ходил только по Садовому кольцу. Так что все это чистейшие фантазии Булгакова, которому просто не хотелось вести Берлиоза по Бронной до Садового кольца, и он предпочел передвинуть туда трамвай.
Легковых автомобилей — черных квадратных "эмок" — тоже было мало на наших улицах, изредка протарахтит по булыжнику грузовая "полуторка". Гораздо больше было лошадей, запряженных в зависимости от сезона в телеги или сани. На улице вечно валялись конские "яблоки". Лошадей привязывали к каменным или железным тумбам; многие тумбы так и вросли в толщу асфальта.
Двора у нас как такового не было. Рядом с нашим домом была небольшая асфальтированная полоса, где мы школьниками играли в "штандр" и "круговую лапту". Дальше тянулся пустырь с прудом (его вырыли во время войны на случай перерывов в водоснабжении), в котором на моей памяти утонул мальчик; я смотрела с 6-го этажа, как его вытаскивали. После войны пруд засыпали. Пустырь круто обрывался к нашему дому: замечательные были "горки" зимой, даже мальчишки не отваживались кататься стоя и ездили на картонках. В войну на пустыре были огороды и сараи из кровельного железа и фанеры, где даже кто-то жил. Позже все это стало просто помойкой, и мы с девчонками искали там красивые стеклышки; у меня была целая коллекция фарфоровых осколков с цветочками и кусочков абажура из двойного стекла — снаружи зеленого, а внутри белого. У нас дома такой был.
На пустыре мы в конце мая чистили шубы. Для меня это был просто праздник. Мама с домработницей вытаскивали ворохи меховых и шерстяных ве¬щей, развешивали их на солнышке и выбивали пыль специальными выбивалками или просто палками. Это делалось в ясный солнечный день, в воскресенье, и мама была целый день со мной. Я скакала босиком и кувыркалась на разложенных на земле вещах, мы закусывали прямо во дворе, где одуряюще пахло мелкой ромашкой, кашкой, "гусиной" и "канареечной" травкой. Повсюду цвели одуванчики, из которых мы плели венки. Мне тоже давали палку, и свои вещи я выбивала сама. Мама была такая веселая, а дома часто грустная и усталая.
Действующих церквей в нашем микрорайоне не было, и слова такого — "микрорайон" — тоже не было. Смутно помню какую-то полуразломанную церковь в "Котяшке", ее вскоре снесли. Однако переулок между нашим пустырем и термитно-стрелочным заводом назывался Пыхов-Церковный, тоже почти проходной двор. Упирался он в Каляевскую улицу, а на углу стояло и стоит поныне здание "Союзмультфильма", переделанное из бывшей церкви. Ее высокая безглавая колокольня красного кирпича до сих пор вздымается в небо… Около церкви было когда-то кладбище, и мы с девчонками находили много плит и кусков от памятников с надписями. Ближайшая действующая церковь была за Новослободской, сейчас она тоже действует. Недалеко от нас, на 2-й Тверской-Ямской, долгие годы стоял недостроенный храм Александра Невского, его бросили возводить, когда началась Первая мировая война, и циклопический силуэт без крыши и куполов всегда чернел на закатном небе. По размерам этот храм должен был быть больше храма Христа- Спасителя, но тот восстал из праха только через 70 лет после разрушения. В 40-х годах в недостроенном храме Александра Невского были какие-то склады. Позже его пытались взорвать, но безрезультатно, а большой заряд положить побоялись — в соседних домах от взрывов и так все стекла повылетели. Только в 50-х годах с помощью железного шара на цепи его удалось разрушить, — целую неделю долбали. На этом месте построили Дворец пионеров, перед которым стоят фигуры молодогвардейцев — героев романа А. Фадеева.
Не во всех домах было электричество, газ и даже вода. На углу напротив нашего дома стоял чугунный колодец, из которого брали воду. Ручка была тугой — не повернуть, а как иногда хотелось попить водички! Иногда все-таки ребята всем скопом наваливались на ручку, и из крана вырывалась толстенная струя, окатывая их с головы до пят. Сразу же выбегал дворник с метлой или лопатой и разгонял всю ораву.
Ну что же! Мы уходили играть "за дом". Особенно мы любили "классики", в которые сейчас играют как-то по-другому. А тогда правила были очень сложные: надо было швырять стеклышки в определенную клетку, двигаться особенными прыжками, иногда вслепую, спрашивая: "Мак?" — "Мак". — "Мак?" — "Дурак!" — орали все дружно, когда ты наступал на черту или не дай бог попадал в "огонь", тогда надо было не просто пропустить очередь, а все снова начинать с первого "класса". Другой любимой игрой были скакалки, они же прыгалки. Обычно двое крутили, остальные прыгали "без опоздал" на каждый взмах, кто задевал веревку, сменял крутящего. Иногда возникали споры вроде того, что "я не сама наступила, это от тебя была волна…", но все решало большинство. Высшим пилотажем считалось прыганье в две скакалки. У меня была замечательная прыгалка, ее называли "бычья веревка" — длин-ная, тяжелая, крутилась равномерно, и мочить ее не надо было. Однажды какого-то хулигана мы с Ланкой отлупили этой веревкой и с тех пор, как только он появлялся у нас во дворе, дружно кричали: "Помнишь, Витька, бычью веревку?"
В круговую лапту играли командами, мне очень нравилось составлять команды перед игрой. Все разбивались на пары примерно одинаковой ловкости и силы. Одна пара была "матки". К ним обращались: "Матка, матка, чей вопрос (или чья отгадка)?" Одна из маток выбирала: "Сирень или левкой?", "Чайник или кофейник?" и т. д. Я бегала плохо, но зато часто ловила мяч, что приносило запасные очки команде…Наша квартира находилась на 6-м этаже — высоко, пол-Москвы видно. Лучшую комнату с эркером из одиннадцати окон дедушка Михаил Львович Сухаревский отдал семье старшего сына — моего папы. Число 11 я помню точно, потому что мне эти окна пришлось мыть раз сорок: весной и осенью. Напротив, через дорогу, находилась нейрохирургическая больница им. Бурденко, она и сейчас там. Само здание больницы выходило фасадом на 1-й Тверской-Ямской переулок и было отгорожено красивой решеткой в стиле модерн. Около решетки вечно стояли посетители и перекликались с больными, те высовывались из окон, в халатах, с перевязанными головами. На нашу сторону выходили всякие подсобные помещения больницы, в том числе виварий и морг. С шести утра бедные собаки с черепномозговыми операциями начинали ужасно лаять и визжать, особенно, когда начиналась кормежка. Здание морга тоже не бездействовало. Обычно раз- два в неделю там происходили похороны по высшему разряду, и духовой оркестр на нашей улице фальшиво играл траурный марш Шопена. С тех пор я этот марш терпеть не могу. С Белорусского вокзала были хорошо слышны печальные крики паровозов, и я всегда представляла, что этим паровозам так не хочется тащить тяжелые составы неизвестно куда, а хочется остаться в теплом депо".
Сердобольская О. — М.: Физический факультет МГУ, 2011. — 204 с
Извините, если кого обидел.
03 июня 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Я считаю, что нет ни одной причины, чтобы кто-то должен был тратить своё время на просмотр фильма фильм "Бразилия". А у вас есть любимый всеми вокруг фильм, который вы считаете очень плохим?
— Для начала я скажу, что посмотрел фильм "Бразилия" и ничуть не пожалел. Другое дело, что я не восторженный его поклонник — посмотрел и посмотрел.
А что до других фильмов, то дело в том, что сейчас очень сложно найти фильм "любимый всеми" — общество очень расслоилось. Это, может "Чапаев" в тридцатые годы был любим всеми, а сейчас в одной компании сосуществуют люди, любящие Тарковского за "Зеркало" и с унынием вспоминающие о "Жертвоприношении", и люди, Тарковского боготворящего за всё — за всё.
А ведь есть ещё ведь культурные феномены типа "Иронии Судьбы или С лёгким паром", которые и вовсе от кинематографа оторвались и существуют совсем в иной плоскости.
— Может ли бог создать такой камень, который он не сможет поднять?
Это уж как пойдёт. Неисповедимы пути Господни. Впрочем, есть такой старый анекдот: умер Бертран Рассел. и вот, Господь ему говорит на небесах:
— Ты был искренним и честным противником, и, прежде чем отправить тебя в ад, я отвечу на любые три твоих вопроса.
Обрадованный Рассел говорит:
— Всемогущ ли ты?
— Да.
— А можешь ли ты создать такой камень, который сам не сможешь поднять?
— Могу.
— Но можешь ли ты объяснить этот парадокс?
— Могу.
— Громы и молнии понятны Вам, а для древних греков они были чудом — как биологические загадки оплодотворения и статистика с теорвером для Вас. Наверное Вам просто нужна вера в чудо, чудеса?
— С чего это вы взяли, что матстатистика и теория вероятности для меня чудо? Ну да, я получил четыре, но уж не так чтобы это было для меня непознанное чудо-чудо-чудо.
Извините, если кого обидел.
04 июня 2011
(обратно)
История про практический след одного разговора
Явление скандала — вообще очень сложное явление.
Беда в том, что художник, желая закатить пощёчину общественному вкусу, всегда рассчитывает на то, что
общество ему ни пощёчин, ни тумаков давать не будет.
Пощёчина даётся. А потом общество не приходит на выставку «Двадцать лет работы», и пистолет греет руку, художник полон обиды, но до конца ничего ещё не прояснено.
Возвращаясь к очень искренней и очень несправедливой книге Карабчиевского, нужно сказать, что Маяковский одновременно очень хороший и очень неудачный пример скандалиста.
Есть давняя мысль о самоназначении элит.
Существует два пути в каждом деле. Пройти некоторый экзамен у предшественников. Как взятый для примера Сальватор Дали, перерисовавший по слухам весь музей Прадо, а потом занявшийся собственными экспериментами, и человек, что отбрасывает учёбу.
Второй путь, это путь человека, отменяющего классические законы, чтобы их не изучать и не превосходить, а сразу стать классиком. Стать им с тем багажом, что создаётся мгновенно или дан от природы.
Но вот в двадцатые было интереснее, чем сейчас — скажем, вместе с эпатажем опоязовцы могли сочетать академичность. Другое дело, что на них взросла потом та самая банда французских философов, про которых сказано, что с она гиканьем и свистом угоняют во тьму остатки здравого смысла.
Меня как раз и интересует эта грань. Где эпатаж в чистом виде, и больше ничего. И где эпатаж отваливается как шелуха, оставляя новаторскую конструкцию.
К примеру, знаменитый Параджанов вполне безумен. Он вообще внеморален — ворует столовое серебро у Катанянов, а потом раздаёт его кому-то. Когда умирает какой-то его родственник, то, улучив момент, когда вдова вышла из комнаты, то расписывает покойника золотой и синей красками под фараона, etc.
Где грань, да.
Маяковский создавался постепенно, будто финансовая репутация человека с банкнотой в один миллион фунтов стерлингов.
Критики могут ответить, но общество всегда инерционно.
И если критик, а пуще того читатель на диспуте задаёт неприятный вопрос, то можно
Тут весь фокус, что академиков можно приструнить. Например, им можно ответить, как пишет тот же Карабчиевский: «Не один раз на публичных выступлениях, прочтя про себя записку, он объявляет: "А на это вам ответит ГПУ!"».
А в другое время можно сказать: "Вы с кем, мастера культуры? С этой скотской властью Путина или с нами, художниками, рискующими свободой?"
И условный академист понимает, что попал как кур в ощип, как фрекен Бок перед Карлсоном.
Вот оно, важное наблюдение. Это важное наблюдение в том, что эпатаж всегда идёт рука об руку с шантажом.
Извините, если кого обидел.
04 июня 2011
(обратно)
История про мелкие праздники самолюбия
Обнаружил себя в длинном списке премии Ясная поляна:
"Березин Владимир. Дорога на Астапово. — Журнал «Новый мир», 2010. — № 11".
Дай Бог всем здоровья и денег побольше, а особенно членам жюри, и отдельно — редакции "Нового мира" и лично
avvas, которые меня туда выдвинули.
Я люблю, когда меня куда-нибудь выдвигают.
Извините, если кого обидел.
05 июня 2011
(обратно)
История про Юго-Запад
5 января 1933 года в "литературной газете" была напечатана статья "Юго-Запад".
Время это было суетливое, потому что писатели ждали своего первого съезда и мучительно делили гостевые и делегатские приглашения на него. Съезд вообще планировался на май 1933 года (в итоге с приготовлениями не поспели и Первый съезд советских писателей проходил в Колонном зале Дома Союзов в Москве 17 августа по 1 сентября 1934 года). Но это было потом, а в январе тридцать третьего вокруг статьи (а её написал Шкловский) разгорелся скандал.
Подогревал страсти и пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), который проходил тогда же, в январе, а потом и Второй Пленум оргкомитета Союза советских писателей.
Собственно, несколько разгромных статей в "Известиях" и другой прессе потом и назывались "Дискуссией о формализме".
14 февраля Шкловский каялся на Пленуме, 29 апреля — письменно в "Литературной газете", но статей было напечатано много, и обсуждения "Юго-Запада" там было уже мало, а формализма, вернее, битвы с ним — много.
Судя по всему, именно после этой дискуссии Шкловский принял участие в написании знаменитой книги "Беломоро-Балтийский канал".
Шкловскому надо было не только отреагировать на критику, но и (особо не афишируя это обстоятельство) облегчить участь своего брата.
А брат-иосифлянин, крепкий в вере, давно валил лес именно на Беломорканале.
Кстати, распространено заблуждение, что Шкловский плыл вместе с другими писателями, авторами книги, на пароходе — то есть участвовал в той экскурсии, про которую рассказывают ещё большие небылицы.
На самом деле он взял командировку в журнале "Пограничник" (а это практически одно ведомство), чтобы деликатная миссия не была на виду — именно тогда по преданию и была произнесена знаменитая фраза о чёрнобурой лисе в пушном магазине.
Дочь Шкловского, кстати, рассказывала, что Владимир Шкловский отнёсся к приезду брата безо всякой благодарности: "Я молился Анике-воину, и Господь устроил всё как нужно, и проч., и проч."
Но это произошло позднее, а в январе Шкловский только написал статью о писателях, пришедших в советскую литературу с юго-запада СССР. Собственно, само название взято у Багрицкого, из его стихотворного сборника.
Юго-запад это эвфемизм Одессы, конечно.
Но самое интересное, что гонители Шкловского во многом правы — но не в том, конечно, что призывали к идеологическому топору.
Тут дело в том, что критик Макарьев, писал в «Известиях»: «Писатели, которых назвал Шкловский (среди них много талантливых людей), неоднородны по своему творчеству…» — был в общем, прав.
Сам Шкловский пишет: «традиция этой школы остается невыясненной». Но это некоторая фигура умолчания — литература в Одессе была, и имена уроженцев этого города известны. Это не только молодые люди, переехавшие в Москву в двадцатые, но и Жаботинский, а так же звёзды довоенного времени Влас Дорошевич, короткие строчки которого, воздух внутри страницы, будут потом поминать Шкловскому.
Одесса ещё и место пристанища русских писателей, что бежали от большевиков (но говорить об этом не принято — это потом Катаев может с придыханием написать о своём впечатлении от Бунина, а вот в 1933 году это, понятно, рискованно).
Те черты, из которых Шкловский хочет слепить новое явление рассыпаются в руках, если прикоснуться к ним, а не смотреть издали. Писатели Одессу у Шкловского выходят александрийцами.
Действительно, в Александрии жили поэтами, что «не считали себя ни греками ни египтянами. Но можно по-разному существовать в Империи — можно искать утешения в жизни в провинции у моря, можно удерживаться в метрополии, а можно быстро перемещаться между этими точками.
Все одесситы — от Бабеля до Жванецкого — совершили свой путь в Москву.
Дальше Шкловский упирал на особое значение «запада» в «Юго-Западе» (и этого ему, конечно, не простили). «Западность» это точно найденное слово. «Мир до войны был чрезвычайно велик и доступен. Запад мог начаться за водонапорной башней в местности, к которой город обращен задами.
…Образ Одессы, запечатленный в моей памяти, — это затененная акациями улица, где в движущейся тени идут полукругом по витрине маленькие иностранные буквы. В Одессе я научился считать себя близким к Западу.
Чтобы родиться в Одессе, надо быть литератором. Я, впрочем, родился в Елисаветграде, но всю лирику, связанную с понятием родины, отношу к Одессе.
Одесса представляется мне чем-то вроде вымышленного города Зурбагана, честь открытия которого принадлежит писателю А. Грину.
Вся мечтательность моя была устремлена к Западу.
России я не знал, не видел. Одессу сделали иностранцы».
Но, между тем, всякий современный читатель (да и читатель того времени) скажет, что феномен "Одесской литературы" есть, назовёт не пару имён, а полдюжины, и будет тоже прав.
"Одесской школы" как бы не было, в тот момент, когда Шкловский о ней писал, но она странным образом создавалась у всех на глазах.
Имена Бабеля и Олеши, Багрицкого, Ильфа и Петрова, Катаева всё равно в массовом сознании существуют как феномен, пусть и разнородный.
Причём, когда в литературу были возвращены имена расстрелянных тридцатые (как Бабель), негласно запрещённых в сороковые — как Ильф и Петров, и пришла пора неимоверной популярности «одесского юмора», символом которого был Жванецкий, сомнений уже не было. Феномен есть.
Шкловский описывал феномен неверным способом, но приходил к правильным выводам.
Он был похож на алхимиков, что угадали способ лечения сифилиса препаратами ртути, исходя из того, что алхимическому знаку Венеры противоположен знак Меркурия.
Впрочем, существует хороший разбор этой статьи, который сделал одесско-американский человек Вадим Ярмолинец. Текст этот
вполне доступен, и я смело отправляю всех к нему.
А сам, поскольку всех изрядно заебал своими штудиями, пойду спать.
Извините, если кого обидел.
06 июня 2011
(обратно)
История про канал
Это сейчас Беломоро-Балтийский канал превратился в дешёвые папиросы с размытой картой.
Пачка, вернее рисунок на ней, был источником многочисленных анекдотов, вроде истории с лётчиками, что забыли планшет и летели по пачке «Беломора».
Его строили с 1931 по 1933 год, назвали именем Сталина (в 1961 году это имя с названия отвалилось).
А вот в начале тридцатых о канале только и говорили.
Во-первых, это был «первый в мире опыт перековки трудом самых закоренелых преступников-рецидивистов и политических врагов».
Во-вторых, об этом говорили открыто.
Потом говорить о труде заключённых стало не принято.
А тогда писали книги и ставили пьесы — погодинских «Аристократов», к примеру.
Есть странный и страшный текст, детектив-нуар, где герой падает в тихий омут безумия, потому что жизнь пошла криво. Всё подмена, всё зыбко — куда страшнее, чем в незатейливой истории человека, попавшего в Матрицу. И мальчик-герой всё время промахиваешься — в выборе друзей и в боязни врагов, мечется по дому, по городу, несёт тебя по стране. Зло заводится в тебе как бы само по себе, шпион появляется в квартире так — от сырости. Будто следуя старинному рецепту, разбросать деньги и открыть дверь. И на третий, третий обязательно день — вот он, шпион, готов. Тут как тут.
Потом мальчик спрашивает человека в военной форме, откуда взялся его загадочный фальшивый дядя — «Человек усмехнулся. Он не ответил ничего, затянулся дымом из своей кривой трубки, сплюнул на траву и неторопливо показал рукой в ту сторону, куда плавно опускалось сейчас багровое вечернее солнце». Шпионы всегда приходят со стороны заката, оттуда, из Царства Мёртвых.
Герой — человек без возраста. Он взрослый в детском теле. К тому же он, как герой античного романа, не меняется, а только искупает ошибки. Как награду за желание умереть, мир возвращает мальчику отца — с увечным пальцем и шрамом на виске, но живым его выплёвывает Беломоро-Балтийский канал.
Прямо в тексте об этом не говорится, но адрес села Сороки, откуда пишет отец, села что стало в тридцать восьмом городом Беломорск с каким-нибудь другим адресом спутать сложно.
Это, разумеется, «Судьба барабанщика».
Канал, а точнее — Беломоро-Балтийский канал был стройкой поизвестнее Днепрогэса (его закончили годом раньше).
Летом тридцать третьего сто двадцать писателей во главе с Максимом Горьким приехали на строительство, чтобы потом написать книгу. (Месяцем ранее туда приехал Пришвин, который в результате написал роман «Осударева дорога». «Осударева дорога» напечатана тогда быть не могла и увидела свет только в 1957 году.
А вот книга о Беломоро-Балтийском канале вполне себе была напечатана. (Сейчас её продают библиофилам по 12.000-18.000 рублей — в зависимости от сохранности)
Правда, огромный шестисотстраничный том писали не 120 путешественников, а 36 человек.
Иллюстрировал её Родченко.
Шкловский, не ездивший со всеми (а набор имён был соответственный — Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Ильф и Петров, Бруно Ясенский, Валентин Катаев, Вера Инбер, Дмитрий Святополк-Мирский и прочие), так вот — Шкловский, судя по всему, ничего сам не писал.
Он был приглашён (это то самое приглашение, от которого нельзя отказаться), как «гений монтажа».
Монтажа там было достаточно.
В начале тридцатых всё монтировалось довольно лихо, и, отмотав один год назад, среди записей в «Чуккокале» можно обнаружить:
«Вера Торгсинбер
Карьерий Вазелинский,
П. А. Правленко
без. Прин. Цыпин
1932
А ещё там значится следующий каламбур:
«Эпоха переименована в максимально-горькую.
Тоже не Виктор Шкловский»
[46]
Вообще, канал в советской мифологии — очень странный и интересный предмет.
Управление водой, водяная цивилизация (как писали историки — «гидравлическая»).
Отчего на слуху нет книг, посвящённых рукотворной реке, как символу повелевания водами — неизвестно.
Каналы оказываются, наряду с гидроэлектростанциями в числе главных строек коммунизма.
Канал возвращает мифологию ко временам древним — египетским и вавилонским.
Есть разве папиросы «Кузнецкстрой» или «Магнитка»?
При этом Беломорканал — довольно сложное и очень остроумное (по крайней мере, с инженерной точки зрения) сооружения.
Это, кстати, одно из немногих сооружений, построенных по плану, в срок — с 16 октября 1931 года по 20 июня 1933-го.
Перед писателями, кстати, на стройку съездил сам Сталин.
Есть знаменитые кадры, снятые на палубе — там понемногу исчезают в мутной реке Леты-Ретуши спутники вождя.
Глянь — и вместо какого наркома уже палубная надстройка или деталь пейзажа.
Книга, которую создали советские писатели, была сделана так же — точно и в срок, прямо в руки делегатам XVII съезда ВКП(б), этому съезду она, собственно и посвящалась. То есть, её сдали в набор 12 декабря 1933-го, а 26 января 1934 уже лежал в Кремле.
Изданий, правда, было два — одно для широкого распространения, тиражом в 80.000 экземпляров, и особое, тиражом 4000 — но куда более роскошное.
Потом вышло то, что обычно бывало в ту пору.
Имперской фундаментальности всегда мешают реальные биографии.
Солженицын писал по этому поводу: «Книга была издана как бы навеки, чтобы потомство читало и удивлялось, но по роковому стечению обстоятельств большинство прославленных в ней и сфотографированных руководителей через два-три года все были разоблачены как враги народа. Естественно, что и тираж книги был изъят из библиотек и уничтожен. Уничтожали ее в 1937 году и частные владельцы, не желая нажить за нее срока. Теперь уцелело очень мало экземпляров, и нет надежды на переиздание…»
Но с последним замечанием будущий кавалер ордена Андрея Первозванного поторопился. Книга эта была переиздана, я её видел и держал в руках.
В пору своей работы книжным обозревателем я дивился толстому тому под названием
«Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства 1931–1934 гг.» под редакцией М.Горького, Л.Авербаха и С.Фирина», но что удивительно, в этой книге, републикованной в конце девяностых, не было сведений об издателе — то есть, выходные данные там были, но — 1934 года, из старого издания.
Добрый мой товарищ Андрей Мирошкин как-то напиал об этой книге: «Вообще, книга о Беломорканале стала в каком-то смысле апофеозом того «романа», который развивался у советских писателей 20–30-х годов с чекистами всевозможных рангов. Вспомним: завсегдатеем литературных кафе был Я.Блюмкин, Маяковский водил дружбу с Аграновым, Есенин ради острых ощущений ходил на ночные экзекуции… Суровый, бесстрашный и беспощадный к врагам чекист становился главным героем советской романтической литературы. Что поделать: все прочие персонажи-романтики оказались контрреволюционерами! Авербах и его товарищи по РАППу вскрыли классовую сущность гумилевских конквистадоров и блоковских рыцарей. Идеальным героем революционного романтизма должен был стать чекист. И он им стал. Книга о Беломорканале — своего рода гимн ОГПУ и его тогдашнему руководителю Генриху Ягоде. И гимн, увы, весьма талантливый…
Главы книги носят патетические названия: «Страна и ее враги», «Темпы и качество», «Добить классового врага» и др., но содержание главы не всегда соответствует заголовку. В книге чередуются очерки о чекистах, строителях, о всевожможных ударных вахтах и кампаниях (против лодырей, очковтирателей…), очерки-монологи (перековавшийся аферист, стрелок ВОХРа…), а также очерки научно-популярные, где рассказывается, допустим, о принципах шлюзования судов или о минеральных ресурсах Карелии. Описания «трудовых будней» на редкость скучны и однообразны. «Технические» эпизоды интересны лишь с познавательной точки зрения. Лучше и ярче всего написаны биографии чекистов, инженеров и рабочих-ударников. Здесь как-то забываешь о соотношении правды и вымысла, о том, кому посвящена эта хвалебная песнь. Сухой, динамичный, в меру образный, информативно насыщенный стиль: закат эпохи конструктивизма, этого советского западничества. Местами просто отличный текст — своего рода упоение цинизмом, помноженным на литературный талант. Все-таки лучшие человековеды страны работали…
Открытие канала описано, как и полагается, в самых мажорных тонах. Первый прошедший по маршруту пароход назывался, разумеется, «Чекист».
Завершает книгу живописнейшая утопия в гидротехническом вкусе. Конец тридцатых годов. Москва принимает корабли пяти морей. Весь город прорезан каналами, на площадях бьют фонтаны, шелестят листвой парки. Царство прохлады, влаги, свежести! Оно должно было возникнуть в столице после постройки канала Москва — Волга и нескольких водных коммуникаций в черте города. Но мечтам о «социалистической Венеции» не суждено было сбыться в полной мере. И «книги века» о других грандиозных стройках сталинской эпохи, к написанию которых призывал в 1934-м Максим Горький, так и не были созданы».
[47]
Вот в те времена, перед работой по монтажу книги, Шкловский и поехал на канал, и именно там и была произнесена знаменитая острота, которая, увы, заслоняет детали целого пласта биографии.
«Виктор Шкловский был человеком благородным, хоть и не слишком мужественным. В жилах его текла кровь революционера. Тем не менее Сталин его почему-то не посадил. В конце тридцатых годов это удивляло и самого непосаженого, и его друзей.
Округляя и без того круглые глаза свои, притихший формалист шепотом говорил:
— Я чувствую себя в нашей стране, как живая чернобурка в меховом магазине».
[48]
Так написал Мариенгоф, но как мы видим, пользуясь нетвёрдой памятью или чужим пересказом.
Слова эти обращены не к публике, а к ещё не смертельно опасной есу выласти, власти, с которой можно пошутить.
И сказаны они не о стране, а о самом карельском пушном магазине — потому что и Шкловский, и его собеседник-чекист прекрасно знают, что гость мало чем отличается от подопечных местного хозяина.
Сам Шкловский вспоминал об этой фразе в беседе с Чудаковым: «Говорили о Чехове. С него В. Б. перешел на своего брата Владимира, который Чехова не любил.
— Ему казалось, что Чехов холодно относится к религии. А сам он был церковник. Всегда крестился на купола — даже со сбитыми крестами. Тогда это эпатировало.
Его арестовали как эсперантиста (пришла Варвара Викторовна, уточнила: «году в 34-м»). Я был у него на Беломорканале. Он был землекопом. Я им там сказал: «Я здесь чувствую себя живым соболем в меховой лавке».
[49]
В качестве бонуса тем, кто дочитал до этого места, я подарю ссылку — скачать текст книги о Беломорканале можно
здесь. Это, правда, воспроизведённое переиздание — там нет словаря воровского жаргона, что было в оригинале, есть и иные отличия, но это всё мелочи. Остальное стоит того, чтобы прочитать книгу хотя бы с экрана.
Извините, если кого обидел.
07 июня 2011
(обратно)
История про Ясную поляну
А вот сегодня День рождения музея в Ясной поляне, которому исполняется девяносто лет, с чем я и поздравляю всех его сотрудников и лично Владимира Ильича Толстого.
Я же лежу там под деревом и наблюдаю цыганские пляски молодых прелестниц-экскурсоводов.
Ах, как звенят их мониста, как рыдает гармонь, будто жизнь не прожита, и счастье еще будет, а из города привезут анчоусов.
Извините, если кого обидел.
10 июня 2011
(обратно)
История про фотографирование на похоронах
В одном письме без даты, очевидно что во второй половине апреля тридцатого года, Шкловский пишет Тынянову: «Владимир Владимирович кроме того письма, которое ты знаешь, оставил ещё два — одно Полонской, другое сестре. Их я не знаю.
В последнее время он был в очень тяжёлом настроении. Ушёл с одного вечера, не дочитавши своих последних стихов. Ушёл с диспута о «Бане», где журналистская аудитория хамила и мучила его. В ночь перед смертью он до 2-х часов был у Катаева. Потом поехал на Таганку. Утром заехал к Полонской. Это женщина маленькая кинематографистка, замужняя, снималась в «Стеклянном глазе», в пародийной части картины.
В прошлом году у Владимира Владимировича был другой роман и тоже несчастливый.
Эта женщина не хотела ехать с Владимиром Владимировичем, он плакал. Они поехали вместе на его квартиру. В 10.15 он застрелился в дверях своей комнаты. В револьвере была одна пуля. Женщина растерялась. Вызвала соседку. И уехала.
Её арестовали. На репетиции. К вечеру она была выпущена.
Стихи в письме. Странные, как ты видишь. Они ещё тяжелее цыганских романсов Блока. Стихи из большой поэмы, обращенной к Лиле Брик.
Я думаю, что Полонская это ложный адрес огромной неудачной любви, которую нельзя было простить себе. Володя изолировался от своих. Он был искренне предан революции. Нёс сердце в руках, как живую птицу. Защищал её локтями. Его толкали. И он чрезвычайно устал. Личной жизни не было. Поэт живёт на развёртывании, а не на забвении своего горя. Он страшно беззащитен. Маяковский прожил свою жизнь без читательского окружения, и все его толкали, а у него были заняты руки, и он писал о том, что умрёт. Слова были рифмованы. Рифмам не верят. Его толкали.
Он умер чрезвычайно усталым. Осталась стопка тетрадей ненапечатанных стихов. Они написаны все в последнее время.
Лежит Владимир Владимирович в клубе писателей. Идёт много народа, десятки тысяч. Мы не знаем, читали ли они его».
Сейчас по этому поводу написаны сотни (наверное даже тысячи книг), мы знаем множество других деталей. Но удивительное свойство человеческих историй в том, что в какой-то момент они становятся непознаваемыми. В определённых обстоятельствах судьба превращается в притчу, и можно бесконечно спорить, но никакого единого мнения создать нельзя. Ничего нельзя доказать — и живые люди превращаются в символы, а их жизни — в притчи. Сгубили ли Маяковского Брики, или без них он не состоялся бы? Советская власть задушила поэта, сам ли он шёл на встречу гибели, был ли он раним и нежен, или невротичен и жесток — это всё выяснить невозможно. То есть, конечно, можно сформулировать связное и отчасти убедительное высказывание по этому поводу, но только это не значит «выяснить до конца, как это было на самом деле».
Это значит — создать более или менее противоречивое толкование. Как было «до конца на самом деле с Пушкиным», что там с Лениным… Ничего не понятно. Что было на самом деле с фарисеем и мытарем? Что думает человек, умывающий руки накануне чужого приговора? Кстати, Булгаков пришёл на похороны Маяковского.
Есть его страшная фотография — в жаркий апрельский день, он, весь в чёрном, стоит во дворе Клуба писателей.
История этого снимка детективна — потом оказалось, что его, как и несколько других, сделал Илья Ильф.
Для Булгакова это, я думаю, был акт примирения с человеком, который в свой пьесе перечислил его среди отживших понятий.
Ведь в «Клопе» говорят со сцены: «Сплошной словарь умерших слов»… бублики, богема, Булгаков…»
Но Маяковский теперь мёртв и находится среди совсем иных слов.
Впрочем, человеку, имевшему отношение к литературе, и бывшему в то время в Москве не придти на эти похороны было невозможно. Гуковский (в пересказе Лидии Гинзбург) говорил: "Гуковский: «Если человек нашего поколения не бродил в своё время в течение недели, взасос твердя строки из “Облака в штанах”, с ним не стоит говорить о литературе".
Но я отвлёкся.
Автора снимков долго искали, об этом есть поучительная история, рассказанная Лидией Яновской.
Групповые снимки давних времён, сделанные на печальных и радостных мероприятиях, имеют одно важное свойство.
Они напоминают финал одного рассказа Даниила Хармса.
Рассказ этот называется "Связь" и так и заканчивается: "После концерта они поехали домой в одном трамвае. Но в трамвае, который ехал за ними, вагоновожатым был тот самый кондуктор, который когда-то продал пальто скрипача на барахолке. И вот они едут поздно вечером по городу: впереди — скрипач и сын хулигана, а за ними вагоновожатый, бывший кондуктор. Они едут и не знают, какая между ними связь, и не узнают до самой смерти".
Люди, которых снимал Ильф были связаны крепко, они знали, что их связывает.
А их связывало главное искусство того времени — литература.
Но и они не знают, что будет дальше.
Вот следующий снимок — в книге "Ильф — фотограф" он помещён на 62 станице с подписью: "В день похорон Владимира Маяковского 17 апреля 1930. Слева направо: М. Файнзильберг, Е. Петров, В. Катаев, С. Суок-Нарбут, Ю.Олеша, И. Уткин".
Ильф умрёт через семь лет, а его брат Михаил Файнзильберг через двенадцать. В том же, 1942 году, погибнет Петров, Катаев проживёт ещё 56 лет и умрёт Героем Социалистического труда и многих орденов кавалером, а Олеша уйдёт через тридцать — в нищете и временно заслонённый другими именами.
Женщина, что сидит между ними — Серафима Суок.
Через четверть века она станет женой Шкловского.
Сам Шкловский ходит тут же, но не догадывается о том, как сложится его семейная жизнь.
Все они понятия не имеют о своих сроках, но чувствуют одно — смерть Маяковского отделяет время прежней литературы, от новых времён.
Извините, если кого обидел.
13 июня 2011
(обратно)
История про лето и Троицу

Но чья-то безжалостная рука начала отнимать у меня стакан.
Оказалось, что я давно сплю, а Гольденмауэр трясёт нас с Рудаковым, схватив обоих за запястья. Мы вывалились, крутя головами, на перрон.
— Чё это? Чё? — непонимающе бормотал Рудаков.
— Приехали, — требовательно сказал Гольденмауэр. — Дорогу показывай.
— Какая дорога? Где? — продолжал Рудаков кобениться. — Может тебе пять футов твои показать?
Потом, правда, огляделся и недоумённо произнёс:
— А где это мы? Ничего не понимаю.
— Приехали куда надо. Это ж Бубенцово.
На здании вокзала действительно было написано «Бубенцово», но ясности это не внесло.
— А зачем нам Бубенцово? — вежливо спросил Рудаков.
— Мы ж на дачу едем.
— Может, мы куда-то и едем, да только при чём тут это Бубенцово-Зажопино? Позвольте спросить? А? — Рудаков ещё добавил в голос вежливости.
Мы с мосластой развели их в стороны, и, всё ещё придерживая, задумались. Никто не помнил, куда нам нужно и, собственно, даже какая нам нужна железнодорожная ветка. Спроси нас кто про ветку — мы бы не ответили. А сами мы были как железнодорожное дерево, были мы пропитаны зноем, будто шпала — креозотом или там бишофитом каким. Отступать, впрочем, не хотелось — куда там отступать.
— А пойдём пива купим? — вдруг сказала мосластая.
Я её тут же зауважал. Даже не могу сказать, как я её зауважал.
Мы подошли к стеклянному магазину и запустили туда Рудакова с мосластой.
Мы с Лёней закурили, и он, как бы извиняясь, сказал:
— Ты знаешь, я не стал бы наседать так — ни на тебя, ни на Рудакова, но очень хотелось барышню вывести на природу. А ведь дачи — всегда место не только романтическое, но и многое объясняющее. Мне на дачах многое про женщин открывается. Как-то я однажды был в гостях у своего приятеля. Назвал приятель мой друзей в свой загородный дом, а друзья расплодились, как тараканы, да и принялись в этом доме жить. Я даже начал бояться, что приятель мой поедет в соседний городок и позовёт полицаев — помогите, дескать, бандиты дом захватили. Разбирайся потом, доказывай…
Гольденмауэр сделал такое движение, что можно было бы подумать, будто он провёл всю молодость по тюрьмам и ссылкам.
— …Но как-то все, наконец, устали и собрались домой. Лишь одна гостья куда-то делась, в последний раз её видели танцующей под «Хава нагилу» под дождём на пустых просеках. Мы стали её ждать и продолжили посиделки. В этом ожидании я наблюдал и иную девушку, что делала странные пассы над головами гостей. У меня, например, этими пассами она вынула из левого уха какую-то медузу. По всей видимости, это был специальный термин, сестра чакр и энергетических хвостов. Знаешь, так и живу теперь — без медузы.
В первый момент жизнь без медузы мало чем отличалась от жизни с медузой — тем более медуза после извлечения оставалась невидимой. Но потом произошло то, что навело меня на мысли об участии Бога в моей жизни.
Я к чему тебе всё это рассказываю? Дело в том, что несколько лет назад я ухаживал за одной барышней. Несмотря на платоничность отношений, я серьёзно задумывался тогда о том, понравилось ли бы ей пить со мной кофе по утрам. Надо сказать, эта девушка была красива, а ум её обладал известной живостью. Однако это было несколько лет назад, и вот, наконец, я встретил её в дачной местности.
Так вот, после того как из меня вынули медузу, я вдруг обнаружил, что в другом конце стола сидит страшная тётка. Такое приключается в венгерских фильмах, которые мы с тобой так любили в нашем пионерском детстве, в тех детских фильмах, в которых принц, оттоптав свои железные сапоги и миновав все препятствия, сжимает в объятьях принцессу. Но та внезапно превращается в злобную ведьму.
Очень я удивился этому превращению. Видимо, Господь спас меня тогда от утреннего кофе и сохранил для какого-то другого испытания. Более страшного…
Наши друзья пробыли внутри магазина полгода и наконец выкатились оттуда с десятью пакетами. В зубах у Рудакова был зажат холодный чебурек.
Надо было глотнуть противного тёплого пива, а потом решительно признаться друг другу в том, что мы не знаем, что делать.
Спас всех, как всегда, я. Увидев знакомую фигуру на площади у автобусов, я завопил:
— Ва-аня!
Знакомая фигура согнулась вдвое, и за ней обнаружились удочки.
Рудаков ловко свистнул по-разбойничьи, и из человека выпал и покатился зелёный круглый предмет, похожий на мусорную урну.
Фигура повернулась к нам. Это был Ваня Синдерюшкин собственной персоной.
Извините, если кого обидел.
13 июня 2011
(обратно)
История о категориях
А вот кто может сформулировать, в чём отличие между нравственностью и моралью?
Извините, если кого обидел.
14 июня 2011
(обратно)
История про затруднения
В некоторых случаях возникают удивительные затруднения при разговоре о каком-нибудь персонаже.
И сейчас я поясню, почему.
Я не имею в виду затруднения с определением позиции — трудности разговора о Сталине совсем иного рода. Это столкновения психического состояния людей, их внутренних образов.
За последнее время я не встречал иного разговора, то есть не видел внеэмоционального обсуждения.
Но со Сталиным всё куда понятнее — то есть цепочка выборов (то есть моментов, когда наблюдатель говорит "это в нём хорошо" или "это в нём плохо") известна и описана.
Тоже самое с обсуждениями Наполеона, да и любого вождя.
Я расскажу, о куда более сложном случае.
Тут совершается переход от тиранов к женщине.
Жила себе Лиля Брик, много кого повидала, и наконец, была развеяна по ветру на одной поляне под Звенигородом.
Споры об этой женщине, конечно, не споры о Сталине.
Но вот посмотрите:
Модель первая — это история мудрой и прекрасной женщины, которая осветила собой жизнь большого поэта, затем помогла словом и делом многим другим людям — влоть до режиссёра Параджанова и поэта Сосноры и стала символом русской литературы XX века.
Модель вторая — это история не очень умной женщины, пользовавшаяся своим животным магнетизмом и выгодно распорядившаяся им, получавшая пожизненную социальную ренту с имени большого поэта.
Спор между защитниками этих конструкций может продолжаться бесконечно.
Время от времени противники делают шаги друг к другу, каким-то образом объясняя известные им события.
В самом деле, письма её большому поэту почти не требуют пародирования: "Телеграфируй, есть ли у тебя деньги. Я всё доносила до дыр. Купить всё нужно в Италии". И если человек лезет груздем в кузов, занимая кадровую позицию жены, то вместе с социальными дивидендами, налагает на себя обязательства. Если большой поэт неотвратимо двигался к самоубийству, то куда глядела жена? — закономерно спрашивает наблюдатель.
Другой наблюдатель справедливо замечает, что другой большой поэт при живой жене жил с другой женщиной — и вообще, история знает и вовсе причудливые человеческие отношения. и вообще, лазить в постель к большим поэтам — неприлично.
Ему, в свою очередь, возражают, что у поэтов, больших и малых публичный продукт не разделён с собственной жизнью, и если для понимания работы физика Льва Ландау знания о его романах не нужны, то для понимания поэтической работы Маяковского от этого знания никуда не денешься.
Поэт как бы подписывает контракт на публичность личной жизни — с каждым посвящением, с каждым упоминанием этой жизни внутри стихотворения.
В какой-то момент включается фактор личный, фактор личных отношений с людьми, что знали поэтов и их женщин (И этот фактор у меня тоже есть — не всякий захочет обидеть друзей и знакомых, пусть даже косвенно). Настоящий разговор начинается в тот момент, когда вымрут все — до третьего колена.
Но вот с Лилей Брик — очень интересная история.
Разговор о ней так сложен от того, что очень сложно выдержать достойный тон.
Бриков давно ругали — ещё в конце шестидесятых, причём на защиту "вдовы Маяковского" встали очень разные люди — от Симонова до Шкловского. Я эти статьи выдел, ничего особенного в них нет.
Просто статьи эти были напечатаны в мире с высокой ценностью печатного слова. В том мире за публикацией следовали "организационные выводы". И как раз от
оргвыводов приходилось защищаться.
Я недаром спрашивал всех о морали и нравственности.
Проблемы морали и нравственности — самые зыбкие.
Сами эти слова — будто двухголовая птица с неразличимой сутью. Причём никто точно не знает этой сути, всё как и положно в "морально-нравственных" делах, определяется интуитивно.
В начале двадцатого века начались эксперименты с этикой.
И образ (образы) Лили Брик посланы нам в качестве удивительного подарка. Её описание даёт возможность сформулировать нечто вроде гейзинберговского принципа неопределённости:
"состояние может быть таким, что
x может быть измерен с высокой точностью, но тогда
p будет известен только приблизительно, или наоборот
p может быть определён точно, в то время как
x — нет. Во всех же других состояниях, и
x и
p могут быть измерены с «разумной» (но не произвольно высокой) точностью. В повседневной жизни мы обычно не наблюдаем неопределённость потому, что значение чрезвычайно мало".
Подыскивание бытовых аналогий последнего утверждения (насчёт обыденной жизни) несёт отдельную радость.
Извините, если кого обидел.
15 июня 2011
(обратно)
История про Рязанское училище и Левый фронт искусств
Есть одна история, которую, повторяясь, мне рассказывали ещё в юности.
В Рязани находилось овеянное легендами воздушно-десантное училище. В него было довольно сложно поступить, и вот не прошедшие по конкурсу юноши не уезжали сразу домой.
Вернее, не все из них уезжали, а некоторое количество поселялось в лесу близ учебного полигона и вело жизнь военного лагеря.
Наиболее отчаянные доживали в этом лагере до снега — и всё потому, что иногда к ним приходили офицеры из училища и зачисляли в свой штат.
Историю эту рассказывают по-разному, иногда с фантастическими деталями, но суть одна: доказать отчаянной преданностью свою нужность.
В случае с будущими парашютистами что-то в этом есть, что-то подсказывает мне, что это не бессмысленный выбор — так и в случае с абитуриентами-неудачниками, так и со стороны офицеров.
Но я хочу рассказать о другом.
История Левого фронта искусств, история ЛЕФа чем-то мне напоминает юношей в рязанском лесу.
Группа людей декларировала идеи революции, и хотела быть частью революции.
Но время стремительно работающих социальных лифтов кончалось.
Оно, собственно, уже кончилось, кода ЛЕФ был создан — справочники спорят, 1922 или 1923 это год.
То есть, люди, создавшие литературно-художественное объединение, декларировали революции свою преданность.
Но революции уже не было.
А когда они захотели декларировать преданность власти, ничего не вышло. У власти уже было много преданных слуг — талантливых и не очень, с командирскими знаками различия и без оных. Поэтому их жизнь в заповедном лесу русского авангарда была обречена.
Но в таких случаях всегда остаётся надежда, что ещё чуть-чуть, и вот тебя заметят и примут в семью.
Но дни проходят за днями, ты сидишь на выставке "Двадцать лет работы", а знакомых лиц нет.
А пока есть ещё лет семь на эксперименты. В книге "Жили-были" Шкловский писал об этом так: "Говорю об этом, понимая, что, возможно, кое-что не имеет отношения к теории искусства, но имеет отношение и теории времени.
Это время, когда люди ходят по проволоке, когда надо, и перейдут, и не упадут, и гордятся работой, гордятся умением.
В журнале «ЛЕФ», журнал толстый, был один рабочий, один журналист, а редактором был Маяковский. И хватало.
Напутали мы достаточно. Но сделали мы больше, чем напутали".
Но, кроме журнала "ЛЕФ" содержал ещё много чего — структура этого объединения напоминала писательские союзы.
В знаменитой "Литературной энциклопедии", что издавалась с 1929 по 1939 год, и всё равно, её последний том куда-то запропастился, то ли потому что наубивали слишком много писателей, то ли оттого, что пересажали слишком много авторов статей о них, о "ЛЕФ" е говорится так: "ЛЕФ [Левый фронт искусств] — лит-ая группа левопопутнического толка, существовавшая с перерывами с 1923 до 1929. Основателями и фактически ее единственными членами явились: Н. Асеев, Б. Арватов, О. Брик, Б. Кушнер, В. Маяковский, С. Третьяков и Н. Чужак. Впоследствии к Л. примкнули С. Кирсанов, В. Перцов и др. Л. имел отделения в УССР (Юголеф). К Лефу идеологически примыкали сибирская группа «Настоящее» (см.), «Нова генерація» (см.) на Украине, «Лит. — мастацка комуна» (Белоруссия), закавказские, татарские лефовцы, а также отдельные литературоведы-формалисты, как В. Б. Шкловский, лингвисты (Г. Винокур) и др.".
Это жутко интересная статья и я её процитирую почти полностью, только досмотрю сейчас "Симпсонов".
Извините, если кого обидел.
15 июня 2011
(обратно)
История про кряк
Как всякий тщеславный человек, я исправно ищу свою фамилию в Сети. Сегодня бредень принёс восхитительное: "За несколько часов до прихода ночного поезда из Баку Дзержинский вновь вызвал
Березина, сказал, что арест Берии отменяется, попросил сдать ордер и резко abbyy finereader кряк его."
Кряк.
Зашибись.
Извините, если кого обидел.
16 июня 2011
(обратно)
История про рода войск
Никита Сергеевич Хрущёв на III Съезде советских писателей, что случился в 1959 году говорил:.». Писатели — это артиллеристы. Писатели — это артиллерия… Потому что они ощущают, так сказать, пульс суть нашей эпохи. Они прочищают мозги тому, кому следует… Чтобы вы, артиллеристы, промывали мозги своей артиллерией дальнобойной, но не засоряли!» — так это звучало на деле.
В книге Хрущёва «О коммунистическом воспитании» (- М.: Политиздат, 1964, с. 94) напечатана эта речь «Служение народу — высокое призвание» на III съезде писателей 22 июля 1959 года.
Там идея о писателях-артиллеристах, это написано более аккуратно: «Многие из вас сами участвовали в боях, и вы знаете, что без артиллерии почти невозможно пехоте прорвать укрепления противника без крупных потерь, что всегда перед наступлением проводится артиллерийская подготовка, на которую расходуется большое количество снарядов, в зависимости от того, как укреплены позиции противника. Здесь присутствует маршал Малиновский, он может это подтвердить.
Думаю, товарищи, что в нашем общем наступлении деятельность советских писателей можно сравнить с дальнобойной артиллерией, которая должна прокладывать путь пехоте. Писатели — это своего рода артиллеристы. Они расчищают путь для нашего движения вперед, помогают нашей партии в коммунистическом воспитании трудящихся.
Три дня тому назад я принимал американцев. Был среди них один старый человек — судья. Он выступил в конце беседы и сказал: спасибо, господин Хрущев, за беседу, я очень доволен и все мы довольны пребыванием в Советском Союзе. Мы очень много увидели, а я лично особо Вас благодарю. Боюсь, что, когда я вернусь и буду рассказывать друзьям о своих впечатлениях, некоторые скажут, что, наверное, русские «промыли мозги старому судье».
Буквально так и сказал. Неплохо сказано. Так вот, товарищи, нужно, чтобы вы своими произведениями «промывали людям мозги», а не засоряли их. Сейчас на вас, писателей, ложится особая ответственность.
Вы знаете, товарищи, что когда артиллерия подготовляет наступление и сопровождает в наступлении пехоту, то она стреляет через свои боевые порядки. Поэтому надо уметь бить точно, бить по противнику, а не стрелять по своим».
[50]
Однако я помнил, что писателей (или вовсе то, что называлось «художественной интеллигенцией») Никита
Сергеевич называл «автоматчиками партии».
Когда чёрные петлицы со скрещенными пушками заменили на пехотные красные с эмблемой «сижу в кустах, жду Героя» — мне было решительно непонятно.
К примеру, на XXII съезде Коммунистической партии Украины говорилось «Никита Сергеевич наших писателей назвал автоматчиками прицельного огня. А, как известно, автоматчики не ездят позади армии, их место всегда впереди, они не боятся дороги не боятся мин и вражеского оружия».
[51]
Есть ещё одна цитата из той же речи на III съезде Советских писателей: «Некоторые из литераторов рьяно ринулись на дот «противника», и, выражаясь языком фронтовых терминов, их можно было бы назвать автоматчиками. Они действовали активно и смело, не страшась трудностей борьбы, идя им навстречу. Это хорошие качества. Люди, выступавшие активно в такой борьбе, сделали большое и важное дело. Теперь эта борьба осталась позади. Носители ревизионистских взглядов и настроений потерпели полный идейный разгром. Борьба закончилась, и уже летают, как говорится, «ангелы примирения». В настоящее время идет, если можно так выразиться, процесс зарубцовывания ран. И те из литераторов, которые тогда со своей «точки зрения» хотели рассматривать наше советское общество, теперь стремятся поскорее забыть о том, что они допускали серьезные ошибки.
Надо, по моему мнению, облегчить этим товарищам переход от ошибочных взглядов на правильные, принципиальные позиции. Не следует поминать их злым словом, подчеркивать их былые ошибки, не надо постоянно указывать на них пальцем. Только польза будет для общего нашего дела. Напоминать об этом не надо, но и забывать тоже не следует. Как говорится, следует на всякий случай «узелок завязать», чтобы при необходимости посмотреть и вспомнить, сколько там узелков и к кому эти узелки относятся.
Среди литераторов находятся еще отдельные люди, которые хотели бы напасть на «автоматчиков», выступавших в разгар идейной борьбы против ревизионистов наиболее активно, отстаивая правильные, партийные позиции. Кое-кто, видимо, хотел бы представить дело так, что во всем виноваты именно эти товарищи, Но это, конечно, в корне неправильно.(Аплодисменты.) На всякий случай узелки завязать и в карман положить с тем, чтобы когда нужно будет вытащить и посмотреть, сколько там узелков и к кому эти узелки относятся. Но теперь есть такое явление — мы видим и чувствуем это в ЦК — некоторые хотели бы теперь напасть на этих автоматчиков от литературы и от партии, так сказать, в ряды литературных деятелей, что прежде они выступали, они такие-то.
Нет уж, голубчики, это неправильно. Например, кто борется? Если это «автоматчики» в пылу азарта, а это бывает — когда драка начинается, а кто из вас в детстве не участвовал в драке, когда сходятся в браке стороны, а я видел драку русскую, когда орловские идут против курских, это было настоящее сражение, даже места занимали посмотреть эту драку, какие берут, орловские или курские!..»
[52]
То есть, часть артиллеристов оказалась автоматчиками.
Извините, если кого обидел.
16 июня 2011
(обратно)
История про город Киев в 1918
Это история про то, как попав в Киев, Шкловский превратился в Шполянского.
В те же времена в Киеве, то есть, при Скоропадском, впрочем, был настоящий Шполянский.
Однако, мало кто помнил, что он — настоящий. И всё потому что к Аминадаву Пейсаховичу Шполянскому давно и намертво приклеился его псевдоним Дон Аминадо.
Но самым знаменитым изо всех литературных Шполянских стал всё-таки Шкловский.
В романе Булгакова, романе, что имеет один из самых знаменитых зачинов в русской литературе, есть история про то как шёл на Киев полковник Болботун, и могли бы остановить его четыре бронированные черепахи, да не остановили.
А случилось это потому, что…
«Случилось это потому, что в броневой дивизион гетмана, состоящий из четырех превосходных машин, попал в качестве командира второй машины не кто иной, как знаменитый прапорщик, лично получивший в мае 1917 года из рук Александра Федоровича Керенского георгиевский крест, Михаил Семенович Шполянский.
Михаил Семенович был черный и бритый, с бархатными баками, чрезвычайно похожий на Евгения Онегина. Всему Городу Михаил Семенович стал известен немедленно по приезде своем из города Санкт-Петербурга. Михаил Семенович прославился как превосходный чтец в клубе "Прах" своих собственных стихов "Капли Сатурна" и как отличнейший организатор поэтов и председатель городского поэтического ордена "Магнитный Триолет". Кроме того, Михаил Семенович не имел себе равных как оратор, кроме того, управлял машинами как военными, так и типа гражданского, кроме того, содержал балерину оперного театра Мусю Форд и еще одну даму, имени которой Михаил Семенович, как джентльмен, никому не открывал, имел очень много денег и щедро раздавал их взаймы членам "Магнитного Триолета";
пил белое вино,
играл в железку,
купил картину "Купающаяся венецианка",
ночью жил на Крещатике,
утром в кафе "Бильбокэ",
днем — в своем уютном номере лучшей гостиницы "Континенталь".
вечером — в "Прахе",
на рассвете писал научный труд "Интуитивное у Гоголя".
Гетманский Город погиб часа на три раньше, чем ему следовало бы, именно из-за того, что Михаил Семенович второго декабря 1918 года вечером в "Прахе" заявил Степанову, Шейеру, Слоных и Черемшину (головка "Магнитного Триолета") следующее:
— Все мерзавцы. И гетман, и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик. Самое главное впрочем, не в этом. Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб».
Дальше писатель Булгаков рассказывает, что Шполянского после этого ужина останавливает на улице поэт-сифилитик, пишущий богоборческие стихи. Шполянский, занятый тайным делом, долго пытается отвязаться от него, будто советский разведчик Штирлиц пытается отвязаться от пьяной женщины-математика в швейцарском ресторане.
Шполянский при этом одет в шубу с бобровым воротником, а на голове у него цилиндр.
Сифилитик кричит ему:
— Шполянский, ты самый сильный из всех в этом городе, который гниет так же, как и я. Ты так хорош, что тебе можно простить даже твоё жуткое сходство с Онегиным! Слушай, Шполянский… Это неприлично походить на Онегина. Ты как-то слишком здоров… В тебе нет благородной червоточины, которая могла бы сделать тебя действительно выдающимся человеком наших дней… Вот я гнию и горжусь этим… Ты слишком здоров, но ты силен, как винт, поэтому винтись туда!.. Винтись ввысь!.. Вот так…
Этот сифилитик присутствует на афише вместе с Шполянским:
ФАНТОМИСТЫ — ФУТУРИСТЫ.
Стихи:
М.ШПОЛЯНСКОГО.
Б.ФРИДМАНА.
В.ШАРКЕВИЧА.
И.РУСАКОВА.
Москва, 1918
Зовут сифилитика Русаков — в булгаковском романе он персонаж эпизодический, появляющийся время от времени.
Но появлется он неумолимо, как вестник.
Он похож на метроном, отмеряющий время Белой гвардии.
Потом сифилитик Русаков отшатнётся от богоборчества, и станет форменным кликушей, скажет, что удалился от женщин и ядов, что удалился от злых людей.
И тут же сообщит положительному человеку Турбину, что злой гений его жизни, предтеча Антихриста, уехал в город дьявола. А потом пояснит, что имеет в виду Михаила Семеновича Шполянского, человека с глазами змеи и с черными баками. Он молод, однако ж мерзости в нем, как в тысячелетнем дьяволе. Жён он склоняет на разврат, юношей на порок, и трубят уже трубят боевые трубы грешных полчищ и виден над полями лик сатаны, идущего за ним. А принял сатана имя Троцкого, а настоящее его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит губитель.
И уехал Антихрист-Шполянский в царство Антихриста, уехал в Москву, чтобы подать сигнал и полчища аггелов вести на этот Город в наказание за грехи его обитателей. Как некогда Содом и Гоморра… — вот что будет бормотать сифилитик военному врачу Турбину в ухо.
«Белая гвардия» была написана в 1923–1924 годах, и читатель мог одновременно держать на столе эту книгу и «Сентиментальное путешестве», написанное Шполянским… то есть, конечно, Шкловским.
Главная история про Шполянского-Шкловского в Киеве — не история с женщинами и поэтами.
Главная история связана с сахаром.
Вот как она рассказана в «Сентиментальном путешествии»: «От нас брали броневики и посылали на фронт, сперва далеко, в Коростень, а потом прямо под город, и даже в город, на Подол.
Я засахаривал гетмановские машины.
Делается это так: сахар-песок или кусками бросается в бензиновый бак, где, растворяясь, попадает вместе с бензином в жиклёр (тоненькое калиброванное отверстие, через которое горючее вещество идет в смесительную камеру).
Сахар, вследствие холода при испарении, застывает и закупоривает отверстие.
Можно продуть жиклёр шинным насосом. Но его опять забьет.
Но машины все же выходили, и скоро их поставили вне нашего круга работы в Лукьяновские казармы».
У Булкакова эта история выглядит куда длиннее. У Булгакова она куда драматургичнее: «Через два дня после этого разговора Михаил Семеныч преобразился. Вместо цилиндра на нем оказалась фуражка блином, с офицерской кокардой, вместо штатского платья — короткий полушубок до колен и на нем смятые защитные погоны. Руки в перчатках с раструбами, как у Марселя в "Гугенотах", ноги в гетрах. Весь Михаил Семенович с ног до головы был вымазан в машинном масле (даже лицо) и почему-то в саже. Один раз, и именно девятого декабря, две машины ходили в бой под Городом и, нужно сказать, успех имели чрезвычайный. Они проползли верст двадцать по шоссе, и после первых же их трехдюймовых ударов и пулеметного воя петлюровские цепи бежали от них. Прапорщик Страшкевич, румяный энтузиаст и командир четвертой машины, клялся Михаилу Семеновичу, что все четыре машины, ежели бы их выпустить разом, одни могли бы отстоять Город. Разговор этот происходил девятого вечером, а одиннадцатого в группе Щура, Копылова и других (наводчики, два шофёра и механик) Шполянский, дежурный по дивизиону, говорил в сумерки так:
— Вы знаете, друзья, в сущности говоря, большой вопрос, правильно ли мы делаем, отстаивая этого гетмана. Мы представляем собой в его руках не что иное, как дорогую и опасную игрушку, при помощи которой он насаждает самую черную реакцию. Кто знает, быть может, столкновение Петлюры с гетманом исторически показано, и из этого столкновения должна родиться третья историческая сила и, возможно, единственно правильная.
Слушатели обожали Михаила Семеныча за то же, за что его обожали в клубе "Прах", — за исключительное красноречие.
— Какая же это сила? — спросил Копылов, пыхтя козьей ножкой.
Умный коренастый блондин Щур хитро прищурился и подмигнул собеседникам куда-то на северо-восток. Группа еще немножечко побеседовала и разошлась.
Двенадцатого декабря вечером произошла в той же тесной компании вторая беседа с Михаилом Семеновичем за автомобильными сараями. Предмет этой беседы остался неизвестным, но зато хорошо известно, что накануне четырнадцатого декабря, когда в сараях дивизиона дежурили Щур, Копылов и курносый Петрухин, Михаил Семенович явился в сараи, имея при себе большой пакет в оберточной бумаге. Часовой Щур пропустил его в сарай, где тускло и красно горела мерзкая лампочка, а Копылов довольно фамильярно подмигнул на мешок и спросил:
— Сахар?
— Угу, — ответил Михаил Семенович.
В сарае заходил фонарь возле машин, мелькая, как глаз, и озабоченный Михаил Семенович возился вместе с механиком, приготовляя их к завтрашнему выступлению.
Причина: бумага у командира дивизиона капитана Плешко — "четырнадцатого декабря, в восемь часов утра, выступить на Печерск с четырьмя машинами".
Совместные усилия Михаила Семеновича и механика к тому, чтобы приготовить машины к бою, дали какие-то странные результаты. Совершенно здоровые еще накануне три машины (четвертая была в бою под командой Страшкевича) в утро четырнадцатого декабря не могли двинуться с места, словно их разбил паралич. Что с ними случилось, никто понять не мог. Какая-то дрянь осела в жиклерах, и сколько их ни продували шинными насосами, ничего не помогало. Утром возле трех машин в мутном рассвете была горестная суета с фонарями. Капитан Плешко был бледен, оглядывался, как волк, и требовал механика. Тут-то и начались катастрофы. Механик исчез. Выяснилось, что адрес его в дивизионе вопреки всем правилам совершенно неизвестен. Прошел слух, что механик внезапно заболел сыпным тифом. Это было в восемь часов, а в восемь часов тридцать минут капитана Плешко постиг второй удар. Прапорщик Шполянский, уехавший в четыре часа ночи после возни с машинами на Печерск на мотоциклетке, управляемой Щуром, не вернулся. Возвратился один Щур и рассказал горестную историю.
Мотоциклетка заехала в Верхнюю Теличку, и тщетно Щур отговаривал прапорщика Шполянского от безрассудных поступков. Означенный Шполянский, известный всему дивизиону своей исключительной храбростью, оставив Щура и взяв карабин и ручную гранату, отправился один во тьму на разведку к железнодорожному полотну. Щур слышал выстрелы. Щур совершенно уверен, что передовой разъезд противника, заскочивший в Теличку, встретил Шполянского и, конечно, убил его в неравном бою. Щур ждал прапорщика два часа, хотя тот приказал ждать его всего лишь один час, а после этого вернуться в дивизион, дабы не подвергать опасности себя и казенную мотоциклетку № 8175.
Капитан Плешко стал еще бледнее после рассказа Щура. Птички в телефоне из штаба гетмана и генерала Картузова вперебой пели и требовали выхода машин. В девять часов вернулся на четвертой машине с позиций румяный энтузиаст Страшкевич, и часть его румянца передалась на щёки командиру дивизиона. Энтузиаст повел машину на Печерск, и она, как уже было сказано, заперла Суворовскую улицу. В десять часов утра бледность Плешко стала неизменной. Бесследно исчезли два наводчика, два шофёра и один пулеметчик. Все попытки двинуть машины остались без результата. Не вернулся с позиции Щур, ушедший по приказанию капитана Плешко на мотоциклетке. Не вернулась, само собою понятно, и мотоциклетка, потому что не может же она сама вернуться! Птички в телефонах начали угрожать. Чем больше рассветал день, тем больше чудес происходило в дивизионе. Исчезли артиллеристы Дуван и Мальцев и ещё парочка пулеметчиков. Машины приобрели какой-то загадочный и заброшенный вид, возле них валялись гайки, ключи и какие-то вёдра. А в полдень, в полдень исчез сам командир дивизиона капитан Плешко».
Про политическую позицию «Сентиментальном путешествии следующее: «Партия была в обмороке и сильно недовольна своей связью с Союзом возрождения.
Эта связь доживала свои последние дни.
А меня в 4-м автопанцирном солдаты считали большевиком, хотя я прямо и точно говорил, кто я».
Кстати, про это время есть другое художественное описание.
Его сделал писатель Паустовский.
Паустовский написал не то роман, не то мемуары «Повесть о жизни». Произведение это загадочное. И в нём мешается выдумка и правда. Например, советскому писателю неудобно признаваться, что он в 1918 году, почти одновременно с Шкловским бежит от большевиков в Киев, и он рассказывает об этом туманно, меняя причины, но сохраняя детали.
Есть в этой книге и рассказ о том, как его призвали в армию гетмана. После первых выстрелов армия разбегается, и Паустовский идёт по городу в шинели со следами погон. Это выдаёт его лучше документов. Но петлюровцы только несколько раз бьют его прикладами.
Исть книга довольно известная, и написана она Валентиной Ходасевич.
Эта художница описывала, в частности, жизнь вокруг Горького в Петрограде.
Это бросок во времени, и я забегаю вперёд. Но история там рассказывается важная.
Там Шкловский заходит к Горьким во время того, как они обедают.
«Горькие» — это круг людей, а не собрание родственников. Валентина Ходасевич пишет: «Еда наша была довольно однообразна: блины из ржаной муки, испеченные на «без масла», и морковный чай с сахаром. Картофель был чрезвычайным лакомством. Ели только то, что получали в пайках. Обменные или «обманные» рынки со спекулянтами еще только начинали «организовываться». Все члены нашей «коммуны», а их было человек десять, были в сборе за длинным столом. Во главе стола сидела Мария Федоровна Андреева, жена А. М., комиссар отдела театра и зрелищ. В тот день неожиданно и тайно у нас появился с Украины приемный сын М. Ф. — Женя Кякшт, с молодой женой. Когда пришел Шкловский, мы потеснились, и он сел напротив Кякшта. Разговор зашел о военных делах на Украине, и вскоре выяснилось, что оба, и Шкловский и Кякшт, воевали друг против друга, лежа на Крещатике в Киеве, — стреляли, но не попадали. Шкловский был на стороне красных, а Кякшт, случайно попавший, — в войске Скоропадского».
Такое впечатленик, что всякий публичный человек, близкий русской литературе, побывал в то время в Киеве и хоть раз пальнул из винтовки. Возможно, в какого-нибудь русского писателя.
Возвращаюсь к Булгакову.
Шполянский-персонаж появляется там ещё раз у памятника Богдану Хмельницкому. Он жив, и рядом с ним его бывшие сослуживцы.
Роль его там важна, и показывает, что как предан гетман, будет предан и Петлюра.
А положительный герой Турбин будет спасён женщиной, у которой жил Шполянский.
Бледный от раны военный врач Турбин, уже влюблённый в эту женщину, спросит, что за фотографическая карточка на столе. И женщина ответит, что это её двоюродный брат.
Но отвечает она нечестно, и отводит глаза.
Фамилия, впрочем, названа.
И сказано, что он уехал в Москву. «Он молод, однако ж мерзости в нем, как в тысячелетнем дьяволе. Жён он склоняет на разврат, и трубят уже трубят боевые трубы грешных полчищ и виден над полями лик сатаны, идущего за ним».
И Турбин, отгоняя догадку, с неприязнью смотрит на лицо Шполянского в онегинских баках.
Шполянский уехал в Москву.
Дон-Аминадо (Д. Аминадо), Аминадав Петрович (Пейсахович) Шполянский (7 мая 1888, Елисаветград — 14 ноября 1957, Париж) — русский сатирик. Автор мемуаров.
Шкловский В. «Сентиментальное путешествие» // Ещё ничего не кончилось. — М.: Вагриус, 2002. с. 165.
Извините, если кого обидел.
19 июня 2011
(обратно)
История про чужой блуд
Время было странное.
Неверно считать, что Революция и Гражданская война отменила мораль.
Действительно, на несколько десятилетий исчезла обязательность регистрации брака, действительно многоукладная страна была перевёрнута и взбаламучена.
Действительно, неуверенность в том, проживёт ли человек ещё месяц или год, не способствует строгости нравов.
Но изменения морали, особенно в городской среде подготавливались минимум двумя десятилетиями уксусного брожения общества.
Серебряный век, и вообще, первая четверть двадцатого века — время обильных мемуаров. Мемуаров, несмотря на опасности для мемуаристов, множество.
Они перекрывают друг друга, иногда спорят, уточняют.
Мемуары сварливы, и ведут себя точь-в-точь, как их авторы.
Поверх этих мемуаров написано множество статей — сначала литературоведческих, а потом и развлекательных.
Оказалось, что Пастернак был прав: остались пересуды, а людей уже нет.
Хочется узнать, кто они и откуда, а развлекательные статьи и книги, давно победившие биографии, норовят рассказать, кто с кем спал.
А жатва для рассказчика на этой ниве обильна.
Так всегда бывает, когда медленное существование жизненного уклада сменяется его быстрым изменением.
Среди историй филологического человека Олега Лекманова о его коллегах-литературоведах есть одна, которая мне очень нравится. Это история про академика Александра Панченко, что в качестве какой-то общественной обязанности читал перед простыми гражданами лекцию по истории русской литературы.
Так вот, рассказывал Лекманов: «Первые два ряда заполнили интеллигентные старушки, пришедшие посмотреть на знаменитого благодаря TV академика. Остальные 18 рядов были заняты школьниками, которых на конференцию загнали «добровольно-принудительно».
Академик начал свой доклад чрезвычайно эффектной фразой:
— Как известно, Михаил Кузмин был педерастом!
Старушки сделали первую запись в своих блокнотиках. Скучающие лица школьников оживились. По залу прошелестел смешок.
— Молчать!!! Слушать, что вам говорят!!! — весь налившись кровью, прорычал Панченко. — А Гиппиус с Мережковским и Философов вообще такое творили, что и рассказать страшно!!!
Тут школьники в порыве восторга принялись обстреливать академика жёваной бумагой.
— А Сологуб с Чеботаревской?! А Блок, Белый и Менделеева?! — не унимался Панченко. — Молчать!!! А Георгий-то Иванов, сукин сын?!»…
— Зал ликовал, — завершал эту историю Лекманов. — а тема лекции, собственно была: «Нравственные ориентиры Серебряного века».
Совершенно неважно, как всё это было на самом деле. Но атмосферу Серебряного века Панченко передал верно. Поэты и писатели кинулись в омут сексуальных экспериментов, впрочем, довольно наивных в наши времена распространения презервативов и победившей стаканной идеи Коллонтай.
Но куда интереснее, чем история чужих фрикций, задача о том, как нам к этому относиться.
Нет, не к чужим романам, а к тому, что в истории литературы эти романы сплавлены с текстами.
Всё сплетено — и рук, и ног скрещенье, и хорошо бы относиться к этому без ханжества и жеманства.
Опыт ханжества у описательного литературоведения уже есть, и он показывает, что сдержать интерес к чужим постелям невозможно.
Опыт точного следования народным желанием тоже есть, и он показывает, как быстро приедается кинематика чужих тел в чужих пересказах. И тут есть опасность отстраниться и превратиться в сноба.
У Анатолия Наймана в «Записках об Анне Ахматовой есть знаменитое место со знаменитой фразой.
Звучит это та «Мне приснился сон: белый, высокий, ленинградский потолок надо мной мгновенно набухает кровью, и алый ее поток обрушивается на меня. Через несколько часов я встретился с Ахматовой; память о сновидении была неотвязчива, я рассказал его. — Не худо, — отозвалась она. — Вообще, самое скучное на свете — чужие сны и чужой блуд».
[53]
Это некоторое лукавство — мы прекрасно знаем, что нет ничего интереснее этих тем, но они похожи на пряности.
Их нужно в жизни чуть-чуть, иначе они превращают еду и истории в несъедобные и негодные.
Так вот, тому времени поиску нравственных ориентиров Серебрянного века относится одна странная история, в которой принимал участие Шкловский.
Забегая вперёд лет на пятнадцать, нужно процитировать одни воспоминания.
Галина Катанян в своих воспоминаниях «Азорские острова» рассказывала, как сразу после самоубийства Маяковского подралась на улице с человеком, сказавшим невзначай: «…Сифилис теперь излечим, и нечего было Маяковскому стреляться из-за того, что он был болен».
Она успела ударить его несколько раз, а потом, возмущённая, пришла к Брикам: «Примачивая мне руку холодной водой, Лиля спокойно говорит:
— Это отголосок очень старой сплетни, поддержанной Горьким еще в 19-м году.
Писать о сплетне опасно — можно ее приумножить и невольно что-то приплести. Поэтому привожу запись рассказа Лили Юрьевны, которую я сделала в тот же вечер:
«Мы были тогда дружны с Горьким, бывали у него, и он приходил к нам в карты играть. И вдруг я узнаю, что из его дома пополз слух, будто бы Володя заразил сифилисом девушку и шантажирует ее родителей. Нам рассказал об этом Шкловский. Я взяла Шкловского и тут же поехала к Горькому. Витю оставила в гостиной, а сама прошла в кабинет. Горький сидел за столом, перед ним стоял стакан молока и белый хлеб — это в 19-м-то году! "Так и так, мол, откуда вы взяли, Алексей Максимович, что Володя кого-то заразил?" — "Я этого не говорил". Тогда я открыла дверь в гостиную и позвала: "Витя! Повтори, что ты мне рассказал". Тот повторил, что да, в присутствии такого-то. Горький был приперт к стене и не простил нам этого. Он сказал, что "такой-то" действительно это говорил со слов одного врача. То есть типичная сплетня. Я попросила связать меня с этим "некто" и с врачом. Я бы их всех вывела на чистую воду! Но Горький никого из них "не мог найти". Недели через две я послала ему записку, и он на обороте написал, что этот "некто" уехал и он не может ничем помочь и т. д.
— Зачем же Горькому надо было выдумывать такое?
— Горький очень сложный человек. И опасный, — задумчиво ответила мне Лиля.
(Перепечатывая архив, я видела этот ответ, написанный мелким почерком: «Я не мог еще узнать ни имени, ни адреса доктора, ибо лицо, которое могло бы сообщить мне это, выбыло на Украину»…)
— Конечно, не было никакого врача в природе, — продолжала Лиля. — Я рассказала эту историю Луначарскому и просила передать Горькому, что он не бит Маяковским только благодаря своей старости и болезни».
Слух о самоубийстве из-за сифилиса возник в день смерти Владимира Владимировича. Несмотря на то, что вскрытие тела показало полную несостоятельность этого слуха, мне иногда доводится слышать об этом и в наше время. Не погнушался реанимировать старую клевету Виктор Соснора в своем документальном романе. А изыскания об интимной жизни поэта, основанные на “свято сбереженных сплетнях”, прочла я недавно у Ю. Карабчиевского».
[54]
Поэт Соснора в своей мемуарной книге «Дом дней» действительно рассказывает чудесные вещи.
Лиля Брик там говорит возмущённо:
— Не было у Маяковского сифилиса! Это глупости и враньё. Триппер был, да.
Но книга Сосноры такая, что у него там после гибели Маяковского на главной площади Тбилиси одновременно стреляются 37 юношей — в число лет поэта. Человек, выхватывающий разоблачительную цитату из Сосноры рискует оказаться в положении посетителей театра Варьете после сеанса с разоблачением чёрной и белой магии. Вот в руках у него стопка червонцев. А глянь — они превратились в смешной ворох листьев.
Я рассказываю эту историю, потому что в ней непосредственное участие принял мой герой.
Но есть ещё один мотив — надо объяснить опасность разговора о чужих романах.
Все врут.
По крайней мере, все норовят обмануть читателя.
Все хотят выглядеть лучше.
Оттого «пересуды» производятся в промышленных масштабах, путаются даты и имена. Ворох жухлых листьев шуршит у тебя в руках.
Пониманию литературы это не способствует.
Зиновий Паперный писал всё о той же истории: «Мне рассказывали — она, Корней Чуковский, Виктор Шкловский.
Корней Иванович:
— Это было в 1913 году. Одни родители попросили меня познакомить их дочь с писателями Петербурга. Я начал с Маяковского, и мы трое поехали в кафе “Бродячая собака”. Дочка — Софья Сергеевна Шамардина
[55], татарка, девушка просто неописуемой красоты. Они с Маяковским сразу, с первого взгляда, понравились друг другу. В кафе он расплел, рассыпал ее волосы и заявил:
— Я нарисую Вас такой!
Мы сидели за столиком, они не сводят глаз друг с друга, разговаривают, как будто они одни на свете, не обращают на меня никакого внимания, а я сижу и думаю: “Что я скажу её маме и папе?”
О дальнейшем, после того как Маяковский и Сонка (так звали ее с детства) остались вдвоём, рассказывает она сама в своих воспоминаниях. Как они ночью пошли к поэту Хлебникову, разбудили, заставили его читать стихи. Однажды, когда они ехали на извозчике, Маяковский стал сочинять вслух одно из самых знаменитых своих стихотворений: “Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?..” (1, 60) (“Имя этой теме: любовь! Современницы о Маяковском”, стр. 10).
Первый серьезный роман в жизни Маяковского кончился в 1915 году — вскоре поэт встретился с Лилей Брик.
Она мне рассказала:
— В 1914 году Максиму Горькому передали, что несколько лет назад Маяковский якобы соблазнил и заразил сифилисом женщину. Речь шла о “Сонке”. Поверив этой клевете, великий гуманист Горький пришел в негодование и стал во всеуслышание осуждать Маяковского. Но сам Маяковский отнесся ко всему этому довольно просто: “Пойду и набью Горькому морду”.
А я сказала:
— Никуда ты не пойдешь. Поедем мы с Витей (Шкловским).
Горького я спросила:
— На каком основании вы заявили, что Маяковский заразил женщину?
Горький сначала отказался.
Шкловский потом очень весело и увлеченно говорил мне, что было дальше:
— Ну, тут я ему выдал! Горькому деваться было некуда. Он стал ссылаться на кого-то, но назвать имени так и не смог.
Эта история не просто “отложила отпечаток” на отношения Маяковского и Горького. Она явилась началом долголетней вражды двух писателей, которая уже не прекращалась. Примирения быть не могло.
После долгого, многолетнего перерыва история лишь сейчас появляется на свет, были только отдельные упоминания. Да и можно ли было говорить о том, как поссорились два основоположника?..
Но сейчас меня интересует другое. Лилю Брик вовсе не смутил и не обезоружил авторитет Горького. Она не раздумывая ринулась защищать Маяковского.
И, конечно, нет ничего удивительного в том, что именно она не устрашилась грозного имени “вождя всех времен и народов”, обратилась к нему с письмом в защиту Маяковского. А ведь в те страшные годы, уже после убийства Кирова и незадолго до 1937 года, она многим рисковала — многим больше, чем тогда, когда призвала к ответу Максима Горького».
[56]
И, наконец, вот что пишет Игорь Северянин в «Заметках о Маяковском»: «Софья Сергеевна Шамардина («Сонка»), минчанка, слушательница высших Бестужевских курсов, нравилась и мне, и Маяковскому. О своём «романе» с ней я говорю в «Колоколах собора чувств». О связи с В. В. я узнал от нее самой впоследствии. В пояснении оборванных глав «Колоколов собора чувств» замечу, что мы втроем (она, В. Р. Ховин и я) вернулись вместе из Одессы в Питер. С вокзала я увез ее, полубольную, к себе на Среднюю Подьяческую, где она сразу же слегла, попросив к ней вызвать А. В. Руманова (петербургского представителя «Русского слова»). Когда он приехал, переговорив с ней наедине, она после визита присланного им врача была отправлена в лечебницу на Вознесенском проспекте (против церкви). Официальное название болезни— воспаление почек. Выписавшись из больницы, Сонка пришла ко мне и чистосердечно призналась, что у нее должен был быть ребенок от В. В. Этим рассказом она объяснила все неясности, встречающиеся в «Колоколах собора чувств»»…
[57]
Софья Шамардина стала партийным работником (что, по-видимому, вызывало смешанные чувства у Маяковского: «Сонка — член горсовета!».
Муж её застрелился в 1937 году, и вскоре она была арестована.
Паперный рассказывает, что после того, как Шамардина просидела семнадцать лет, он встретил её. В гостях у Лили Брик он увидел «пожилую женщину, с очень добрым, усталым и — это было видно — некогда очень красивым лицом».
Шамардина жила в Харитоньевском переулке, переулок Водопьяный уже не был рядом он просто не существовал. Мясницкая, теперь носила другое имя, и площадь поглотила переулок. Шамордина, судя по всему, была одинока, и умерла в Доме для старых большевиков в год Олимпиады».
Итак, как только приближаешься к чужим снам и чужому блуду, ты вдруг понимаешь, что оказался в очень неловком положении.
Чужой блуд всем интересен, но он мешает чрезвычайно: мемуаристы всё путают, каждый норовит если не соврать, то пересказать историю чуть в более правильном виде.
Что делать с этим — решительно непонятно.
Спрятаться за молчанием невозможно — это нечестно по отношению к человеку, который недоумевает, отчего книга о любви к одной женщине посвящена другой. И перед человеком, который задаёт честные вопросы.
Идеальной конструкцией могло бы быть умение говорить о чужих романах спокойно, без ажитации, выстроить между собой и животным интересом, который всем нам свойственен, барьер.
А начнёшь говорить о поэтах, так тебя сразу теребят нетерпеливо: «Кто с кем спал? А? С кем? Живёт с сестрой? Убил отца?»
— Кто с кем спал?
— Все со всеми. Правда-правда. Подите прочь, дураки.
Извините, если кого обидел.
20 июня 2011
(обратно)
История про библеизмы
Множество образов Шкловского построено на Библии.
Это было бы темой большой диссертации, и я удивляюсь, что она ещё никем не написана.
У Лосева в автобиографической прозе "Менандр" есть такое место: "Как-то И.Н. попросила подать ей Библию. Ей когда-то подарил свою Библию Шкловский, стандартное издание, но интересное пометками Шкловского на полях. Библии нигде не было. И.Н. позвонила Наташе, и Наташа тут же принесла ее. А теперь, я смотрю, опять нет".
Интересно было бы посмотреть на эти пометки.
Он говорит про ночное предательство. И говорит он о том, как апостол выходит из тьмы к костру, но за тепло надо платить. И вот апостол предаёт учителя не дождавшись петушиного крика. Но самое главное в этом пересказе, то что Шкловский прибавляет — то что в России вышли бы к костру, раньше. Ночью у нас холоднее, чем в Галилее.
Стриженые солдаты у него похожи на Самсона.
А будь Адам солдатом, то объел бы все яблоки ещё зелёными.
[58]
Власть, любая власть говорит со своими подданными по-арамейски.
И вооружённые люди применяют всё те же приёмы.
"Библия любопытно повторяется.
Однажды разбили евреи филистимлян. Те бежали, бежали по двое, спасаясь, через реку.
Евреи поставили у брода патрули.
Филистимлянина от еврея тогда было отличить трудно: и те и другие, вероятно, были голые.
Патруль спрашивал пробегавших: «Скажи слово шабелес».
Но филистимляне не умели говорить «ш», они говорили «сабелес».
Тогда их убивали.
На Украине видал я раз мальчика-еврея. Он не мог без дрожи смотреть на кукурузу.
Рассказал мне:
Когда на Украине убивали, то часто нужно было проверить, еврей ли убиваемый.
Ему говорили: «Скажи кукуруза».
Еврей иногда говорил: «кукуружа».
Его убивали".
Любимые истории Шкловский рассказывает по нескольку раз — и, часто, на соседних страницах. Так Библия говорит об одних и тех же событиях, будто для лучшего запоминания. "Я читаю греческие романы, Библию, Шопенгауэра и многие принесённые мне книги так, как Дон Кихот читал греческие романы".
Революция меняет всё, но мотив Спасителя остаётся.
Шкловский писал в "Тетиве": "Высокий стиль революции взял библеизмы в их опровергнутом виде".
Первая часть суждения верна, а вот вторая — нет.
Старая риторика оказалась непобедима, да, собственно, и новой-то не было.
Жизнь наша коротка, дыхание прерывисто. Любой революционер, создающий быстрые изменения реальности мгновенно начинает искать чего-то вечного и не меняющегося.
Ты бережёшь дыхание, закладываешь его за щеку, как детскую конфету.
Но время всё рассасывает неумолимо.
Кстати, в "Белой гвардии" Булгакова, романе, набитом библеизмами (потому что ничего лучше для описания трагедий не придумано), Шкловский выходит Антихристом.
Так говорит соблазнённый его, Шкловского, футуризмом несчастный поэт Русаков.
Шкловский-соблазнитель первым приходит к женщине, и уж затем в её жизнь входит святой человек Турбин.
"Пишите книгу, Коля, потом будете вычеркивать. Пишите не Главную книгу. Главная никогда не пишется. Книга Царств в Библии полна несправедливости, жестокости, но она хорошая книга".
Что делать со словами, когда осознаёшь конечность дыхания, непонятно.
Извините, если кого обидел.
23 июня 2011
(обратно)
История про следы наших выступлений
Немного у меня есть записей, к котором до сих пор оставляют комментарии.
Вот одна из них —
про папиросы "Казбек".
Вот уж девять лет прошло, а её всё комментируют (см. постскриптум).
Нет, положительно невозможно заниматься историей чего бы то ни было, не рискуя навлечь на себя гнева заинтересованной общественности.
Извините, если кого обидел.
28 июня 2011
(обратно)
История про сны Березина № 350
Приснился очень долгий сон о том, что я живу в какой-то местности, похожей на один придонский монастырь — Свято-Успенский. Только этот монастырь совсем пришёл в упадок и там обретаются только игумен без мнахов. Я, впрочем, живу рядом — в доме отдыха, или, вернее, в санатории. Среди отдыхающих я встречаю молодую женщину из моего прошлого.
Мы проводим время в разговорах, но у меня есть соперник — невысокого роста молодой человек, чернявый и вёрткий.
Он тоже интересен женщине, но в какой-то момент сдаётся, уходит в тень.
Моя победа слишком легка, и это могло бы меня насторожить.
Потом происходит что-то, быть может — женщина умирает.
И я собираюсь отправится за ней, то есть, спасти её.
Но быстро оказывается, что тут нет сюжета певца, спускающегося в загробный мир за суженой. Мотив этой женщины исчезает, остаётся только мотив путешествия. Внезапным образом мне помогает игумен, он берётся быть не то моим проводником, не то, наоборот, я сопровождаю его в странствие.
Кругом жаркое лето, пахнет разнотравьем.
Мы идём по белой меловой дороге, а потом попадаем в сад через старые ворота. Это сад как бы под открытым небом, но, одновременно и под сводами — невозможно объяснить, как это получается.
И вот я вижу, что в этом саду, сидят среди растений как в трапезной, полупрозрачные люди. Вот лежит с открытым от смертного ужаса ртом какой-то местный помещик.
А вот игумену, идущему впереди, кивают какие-то люди, и он улыбается им в ответ:
— А это наши старички-лесовички.
Я, правда, не понимаю, кто это — крестьяне из близлежащих деревень или паломники. Или вовсе не пойми кто.
Наконец, мы видим стариков, что сидят в этом саду за столами, и я понимаю, что тут-то несколько поколений монастырской братии. Эти старики оборачиваются к игумену, и, не вставая, поднимают приветственно кружки. Но рядом с ними, как тыква на грядке лежит прозрачная голова и игумен вздыхает:
— А это прошлогодний мор.
Голова тупо смотрит впереди себя.
Тут оказывается, что игумен решил остаться в этом саду, чем-то вроде санитара при больнице.
Я же возвращаюсь обратно, но вместо жары вижу над собой пасмурное небо, набухающее грозой.
Извините, если кого обидел.
29 июня 2011
(обратно)
История про переписку Шкловского с Горьким
Grani, 207–208, 2003
[392]
А. М. Горькому
Июль — начало июля 1920 г.
Дорогой Алексей Максимович.
Живу я (Виктор Шкловский) в Херсоне. На противоположном берегу белые, завтра уйдут. Я поступил добровольцем в Красную Армию, ходил в разведку, сейчас помначальника подрывной роты. Делаем ошибки за ошибками, но правы в международном масштабе. Очень соскучился по Вас и по великому Петербургу. Приветствую всех туземцев.
Желаю Соловью и Купчихе и Марии Игнатьевне всяких желаний. Читаю Диккенса и учусь бросать бомбы Лемана. К сентябрю буду в Питере. Потолстел, хотя здесь всё и воздорожало из-за фронта. Но питерцу много не надо.
Изучаю комцивилизацию в уездном преломлении.
По Вашему письму ехал как с самым лучшим мандатом. Привет Марии Фёдорове. Что здесь ставят в театрах, у госиннодворцев каменного века был вкус лучше. Скучаю, хочу домой.
Виктор Шкловский
Жак как?
Жена на меня сердится.
А. М. Горькому
Действующая Красная Армия
16 июля 1920 г.
Дорогой Алексей Максимович.
Пишу Вам с койки хирургического лазарета в Херсоне. Я был начальником подрывного отряда Херсонской группы войск Красной Армии. Вчера в моих руках разорвалась ручная граната. У меня перебиты пальцы на правой ноге и 25–30 ран на теле (неглубоких). Спокоен. Через три-четыре недели буду в Питере.
Привет всем Завтра буду оперироваться.
Виктор Шкловский
А. М. Горькому
[
Октябрь — ноябрь 1921 года]
Дорогой Алексей Максимович.
Я решаюсь говорить очень серьёзно, как будто я не родился стране, которая просмеяла в себе все потроха.
Алексей Максимович, потоп в России кончается, т. е. начинается другой — грязевой.
Звери, спасённые вами на ковчеге, могут быть выпущены. Встаёт вопрос о великом писателе Максиме Горьком.
Наши правители обыграли Вас, так как Вы писатель, а они сыграли в молчанку и лишили Самсона его воос.
Мой дорогой Алексей Максимович, любимый мой, бросайте нас и уезжайте туда, где писатель может писать.
Это не бегство, это возвращение к работе. Здесь в России использовали только Ваше имя.
Уезжайте. Соберите в Италии или Праге Союз из Вас, Уэльса, Ромэна Роллана и, может быть, Анатоля Франса. И начинайте новую жизнь. Это будет настоящий интернационал без Зиновьева
Журнал, издаваемый вашим Союзом, будет голосом человечества.
Всё это совершенно необходимо для русской революции и для Вас.
Оставьте эих людей, одни из которых сделали из Вас жалобную книгу, а другие преступники — и эти другие лучше, но Вам необходимо быть не рядом с ними.
Виктор Шкловский
Извините, если кого обидел.
29 июня 2011
(обратно)
История про переписку Шкловского с женой Шкловской-Корди
В. Г. Шкловской-Корди
Дорогой Люсик. Получил одно твоё письмо. Л. ещё не приехал. Посылаю тебе денег ещё немного. 10 долларов.
Здесь дороговизна страшная. Жил в Праге, но [394] в ней меня приняли очень плохо, так как решили, что я большевик. Сволочи и бездари. Сейчас в Берлине с Ромой. Рома не хочет отпускать меня из Праги. Но я остаюсь здесь. Дука обещает через две недели достать деньги на журнал. Буду зарабатывать. Написал работу, «Роман тайн», сейчас её отделываю. Пришлю. «Ход коня» выйдет первый.
Верен тебе совершенно. Ночью кричу. Приехали Брик. М. и Лиля. Очень неприятны.
Пиши мне на Клейст-штрассе.
Я всё такой же, только купил (покупаю) себе новое пальто.
Живу без комнаты. Некогда нанять.
Любят меня здесь все очень. Берлинская литературная эмиграция не очень сволочная.
Целую руки твои и Василисы. Целую Талю.
Маму целую крепко, крепко и хорошо. Целую папу и детей. Что Володя?
Теперь дело. Я хочу вернуться в Россию, если детик не может приехать. Спроси Мариэту, можно ли сделать попытку? Скажи всем, чтобы хлопотали.
Я устал от Берлина и от разлуки. Устал.
Ну, скоро начну работать. Напишу с горя
роман.
Пиши мне часто, если не можешь, то позове к себе Мишу и пускай он напишет что-нибудь за тебя. Люблю тебя больше прежнего. Жить без тебя не умею. Хочу быть счастливым. Пока до свидания.
Приветствую твой примус. Здесь очень много народа, но мне он не нужен без тебя.
Да, я очевидно разминулся с твоими письмами, они теперь, вероятно, в Праге. Ну, пришлют.
У нас чудесная осень. У нас — это в Берлине.
Целую твои ноги. Прага же мне чужая. Не она город моей поэмы.
Целую тебя. Как живут все мои? Может быть, кто без тебя.
Марка падает и падает. Мы уже привыкли.
Почти что родина. Воздух катастрофичен.
Но всё это не важно и не страшно.
Зима будет свирепая, но нас не удивить. Европа, Люсик, кончается. Кончается европейская культура. Культура не нужна никому. Будем верить, что мы не увидим конца.
Европа, Люсик кончается от политической безответственности и национализма.
Европейская ночь наступает. Уже наступила и на меня. Кому, детик, нужны сейчас мои книги?
Ночь наступает. Будем спать.
Ночь наступает, будем любить крепче.
Здесь чахнет Ремизов, танцует А. Белый, скрипит Ходасевич, хамит Маяковский, пьёт А. Толстой, а остальные шиберуют. Шиберуют.[1]
Революция, её уже знают. Грешники в аду после страшного суда будут так жить. Суд уже был. Веселитесь, недожаренные.
Европейская ночь. Целую мю любовь, мою веру, мою жизнь — Люсю. В грудь, в губы, в уши, в руки. Целую тебя, моя чудная, моя дорогая.
Лучше тосковать по тебе, чем любить кого бы то ни было. Итак, если гора не может к Магомету, то Магомет пойдёт к горе. Наведите справки.
Целую пока тебя.
Привет всем, всем. У тебя в комнате, вероятно, мороз?
Целую тебя. Целую. Ах, Люсик.
Виктор.
25 октября 1922 года.
Берлин.
В. Г. Шкловской-Корди
26 июля 1923
Милый Люсик.
Пишу деловое письмо.
Я очень тоскую по России. Работать мне здесь не удаётся.
Занят я с 10 утра до 6. Всё время уходит на халтуру. Теоретически работать я не могу и становлюсь беллетристом. Очень боюсь выродится и измельчать. Я положительно утверждаю, что работать здесь нельзя.
Мне очень тяжело, и ничей приезд не может улучшить положение ни Брика, ни Юрия. Ты вернёшь меня к жизни, и ты самое дорогое для меня в жизни, я люблю тебя крепко, жарко, благодарно.
Люсик, очень тяжело без Родины.
В России без меня разваливается моё дело, разваливается и уже остановилось. «Леф» халтурит, ОПОЯЗ молчит.
В Госполитуправлении обещали меня не арестовывать.
Я обязан работать и хочу в Россию.
Люсик, родной, жена моя, русская культура не вывозима.
Без работы жить нельзя.
Целую тебя. Терпи две-три недели.
Не изменяй мне, не выходи замуж, не магометантствуй.
Верь в моё счастье.
В Москве у меня уже есть место.
Не знаю, как прожить эти две недели?
Люсик, моя судьба, моя работа, а не только моя жизнь, находятся в твоих руках.
Люсик, ты не можешь представить, как я тоскую по России. Твою телеграмму получил.
Целую твои руки, о капители моей жизни.
Люсик, терпи, терпи, детка, мы принадлежим друг другу на всю жизнь.
Без твоего согласия ничего не будет сделано.
Обещай же э и мне.
Подожди август.
Люсик, решается наша судьба. Люсик, милый, я хочу домой.
Твой Виктор.
В. Г. Шкловской-Корди
5 августа 1923
Милый, хороший Люсик. Письмо твоё отчаянное и две телеграммы получил.
Я думаю о многом то же, что и ты, и совершенно не верю в кисельные берега.
Но, дитёныш, я признаю наше поражение: русская культура оказалась не вывозимой за границу.
Ребёнок, здесь плохо, злобно и тревожно. А для всех и голодно. У магазинов хвосты. Голодные люди. Германия раздавлена.
Место, где мы могли бы закрепиться с тобой, не здесь. А нашему брату нужно работать.
Летать можно по воздуху, но не без воздуха.
У нас воздух плохой, здесь его нет.
Вижу зобу и нет интереса к работе.
Я знаю, как ты устала, я был не лёгким мужем. И я виновен перед тобой.
Люсик, мне стыдно за то, что ты молола хлеб. Я вернусь и буду беречь твои руки.
Честным человеком можно быть везде, но не при закрытых дверях.
Люсик, приходится терпеть.
Пиши мне часто.
Жди ещё ну три недели.
Если дело затянется, то я телеграфирую.
Не мучай себя.
Целуй Василису. У нас, может быть, тоже будет ребёнок.
Дитёнок, мне здесь нечем жить, не материально, а духовно. Я одичалый человек, и мне нужна та обстановка, в которой я вырос.
Целую твоё письмо. Как ты измучена.
А про себя я верю в своё спортивное счастье.
Дома мы опять обрастём интересами.
А тебя я люблю на всю жизнь.
С тобой хорошо.
Целую твои ноги. Желаю всего-всего.
Поцелуй Шимана. Не помогли ему его ляхи.
Папе, маме, детям, Володе привет.
Приеду, вытащу.
Твой Тусик.
…..
Люсик, мы разбиты, и это надо знать, это не тиняковство. Русская интеллигенция разбита.
Но мы отсидимся на мастерстве.
Целую крепко.
Ноги, руки. Здесь Леко Андрев рассказывал про Жака и его штаны.
Извините, если кого обидел.
29 июня 2011
(обратно)
История про переписку Шкловского с Тыняновым
Ю. Тынянову
4 марта 1929
Дорогой Юрий
<…> Я, как и полагается позвоночному и млекопитающему, скучаю, жду тебя. Передай Борису, что он в Гизе считается очень ходовым автором. Торгсектор его любит.
Я устал, по глупости занявшись после «Комарова» разными мелкими делами. <…>
Архаисты очень хорошая книга, ещё не вполне вскрытая даже автором.
Литература вневременна, то есть, она не рояльна, а органна — звук продолжается. И таким образом одновременность причин и следствия, то есть моды сменяются, но продолжают носиться.
«Дон Кихот» одновременен Тургеневу. Об эволюции здесь говорить трудно, так как нет признаков улучшения, вернее, нужно говорить о передвижении системы или движении внутри пейзажа. Изменяются не вещи, а угол зрения. Но и вещи изменяются. Недостаток «Архаистов и Пушкина» — это (методологически правильная) изолированность двух линий, стереометрическая задача решена на плоскости. Может же быть, то, что мы называем архаизмом, и то нечто, что ТВ соей работе вообще не называешь, но противопоставляешь архаизму, — это только частные случаи большой соотнесённости, может быть и не верной.
Вообще, очень хорошая книга. Правильно, что она толстая и стоит 6 рублей.
Мой ремингтон кланяется твоему ремингтону и ждёт от него писем. Для тебя практика.
4. III — 29
Ленинград, Греческий проспект, 15, кВ. 18. Ю. Н. Тынянову.
Б. Эйхенбауму
Дорогой Боря
<…> Я угорел немного от работы. Ученики, они также ошибаются, как и мы, но не так весело. <…>
Не грусти. Не позволяй себе быть очень несчастливым. И пиши непременно. При данном состоянии здоровья лучше всего беллетристику о Волине, о скрипке Бориса Эйхенбаума и молодом Толстом.
Тут нужно немного распустить руку, потерять внутренний стыд. Это теряя для литератора вещь необходимая. Но не пиши слишком отчаявшись, а не то тебя возьмут в штыки, как меня с «Третьей фабрикой».
Вставь в книгу фольклоры института, песни младопоязовцев с историко-литературными пародийными примечаниями.
Целую. Жму твои лапы. Желаю счастья. У нас шёл дождь.
29/III — 29 г.
Виктор
Ю. Тынянову
[Февраль 1934 г.]
Дорогой Юрий
Не видался полгода
Маяковский говорил, что лошади потому никогда не кончают самоубийством, потому что не умеют говорить и никогда не выясняют отношений.
Они, должно быть, говорят, что заняты.
Реки, друг, пресны. Волга впадает в Каспийское море, а Каспийское море солоно.
В реках есть соль небольшая, солёность, которую не чувствует рот. Пресные реки приносят соль в моря. Вода испаряется, соль остаётся.
Наша дружба стара и солона.
Весенняя вода, вода снега не засолоняет рек. Реки солоны осенью.
Многое накопилось, и лучшее в той соли, которую мы сейчас едим, наше литературное несогласие.
Голосом лошади, которая разговаривает, хотя и не должна, могу тебе сказать, что если у меня есть враги, то сегодня они могут спать спокойно, потому что мне так себе.
Я не согласен с тобой литературно.
Со дня, когда мы с тобой встретились, с тобой, я не согласен.
Две нитки ведут, вероятно, в искусство. Ты мыслишь продолжающуюся литературу, ты архаист и архаистом чувствуешь Маяковского, Хлебникова. Работа историков литературы в этом отношении похожа на игру какую-нибудь, скажем, золотые ворта, когда испытывают людей, забирают их в свой лагерь, а потом, собравшись в цепи, смотрят, кто кого перетянет.
Футуристов нет, отношения с ними почти выяснены.
Выйти я могу, посмотреть на друзей, с которыми вместе дрался, нет стоящих, одни мёртвые, другие лёжа, вероятно, играют в двадцать одно.
Здание с колоннами покрывает мою землю, «Академия» издаёт книжки. Классицизм побеждает.
Мандельштам Осип Эмильевич знает, что он враг Хлебникова. Бедный Борис Николаевич это знал.
Твоё издание Хлебникова это скрывает, даёт ложные генеалогии, тушит будущую вражду <…>
[404] Ты был молод и носил корректуры по лестнице, и ты не был тогда хуже, и Мине нужно гордиться тем, что мы сейчас старые писатели, что мы известны и просолены.
Пушкин и Гоголь мне непонятны, но Пушкин сумел остаться ж, хотя он и пытался уйти в историю. Стать Мусиным почти что.
Друг, я не согласен совсем с твоими книгами и знаю, почему их любит моё время, и знаю, что в них хорошее, но не будем же мельчить нашего спора и уменьшать размеры несогласия.
Мы не согласны не потому, что одни из нас хорошие, другие тому, что мы не сходимся размерам плохие, не потому, что одни из журналисты, другие писатели, не потому, что мы по-разному определяем знак между собой и временем, не потому что мы по-разному гостим в наших семьях мы по-разному гостим в наших семьях, а потому что мы разной линии культуры и внутри одной группы, одной формулировки, мы были если не попутчиками, то, скажем, цементом или железом одной конструкции.
И нас разрушило.
Нас мало, и тех уж нет, и Маяковский кончил дружбой с Катаевым. Чужие люди, которые не так, как мы не понимаем друг друга, общеписательская группировка знатных, остров с условными знакомыми, остров Елены, где всё короче прогулки, где ходишь всё меньше, чтобы встречаться только с теми, что согласны, это плен.
Итак, новостей немного. Мне сорок один год, меня сгибали, я разгибался, и душа, как ты понимаешь, поизносилась на сгибах.
Я говорю с тобой редко, преимущественно на улице и говорю вот сейчас.
Ты не прав, снимая путь Хлебникова, его отдельность, делая его судьбу только ошибкой, создавая единый путь, единый способ сдаваться. Кажется, Шпет, кажется, к Байрону, на слово крокодил дал примечание, назвавши этого крокодила по латыни.
У тебя, вероятно, нет номера «Взял», книжки 1915 года, я там писал. Это была наша первая статья о наших будущих издателях.
Я люблю тебя, Юрий, люблю твой голос, способ понимать строку и людей. Я не согласен с тобой совершенно.
С собой я тоже совершенно не согласен.
Давать советы, и изменять цвет траура и способы несчастья я не собираюсь.
Я люблю, когда человек не понимает, что пишет, когда человек пишет, как будто случайно, заблудившиеся корабли, которые открывают материки, называют их неверными именами. Они проходят через зелёные от водорослей моря, протаптывают в море тропинку, от тёплой воды, стоялой воды дуют ветры <…>
Ю. Тынянову
[Середина мая 1935 г.]
Дорогой Юрий!
Получил твоё письмо. У тебя такой: от лирической удачи или от геродотовского плача над разбитым кувшином рядом со смертью, через ощутимое умение к умению неощутимому. Освобождение от монологичности — это задача всей нашей эпохи. Худшая монологичность — монологичность жаобная.
Она же ироническая. <…>
То, что я назвал, и то, чего боятся сейчас и на Западе, вероятно, попытки отделаться от монологичности.
Кино болеет сухоткой сюжета, отсутствием сбитых ходов, поспешностью.
Люди суетятся в искусстве, боясь наскучить читателю. <…>
Я работаю сейчас при сочувствии Ираклия Андронникова, которого, однако, хочется мне втянуть в неимитационную жизнь над «Портретом» Гоголя. Темы о художниках-портретистах, вообще тема о художниках, первых разночинцах нашей культуры, темы ранние. <…>
Я читаю переписку Гоголя с друзьями, там есть очень серьёзное реальное представление действительности.
Гоголь борется сперва против раннего умения, потом против неправды.
Желаю тебе сорокалетнего счастья, которое состоит в долгом китовом вздохе, сделав который, уходит кит в гости к рыбам, якшается с ними, разговаривает, пишет в уме, потом выплывает для нового вздоха и прополаскивает рот фонтанами.
В саркофагах из красного дерева сухим и мокрым тлением тлеют многие наши литсовременники.
Я же трачу себя, иногда на то, что пишу углём в трубе и приписываю примечания на воде вилами.
Мой Марко удался, но он монологичен. <…>
Кланяюсь всем — Борису, иже труждается, и примечательному Оксману, который так конопатит Пушкина примечаниями, что скоро забудет себя, и даже человеку, которому ты не передашь поклон — Томашевскому, великому компилятору.
Ещё кланяется тебе громкоговоритель с Кропоткинских ворот, который три дня пел такие оперы, что я чуть не влюбился.
Ночью у нас пускали фейрверх за домом, днём пускали людей в метро. Метро внутри всё каменное, коридоры в нём кафельные.
Нам нужно встретиться весною. Мой совет: приезжай ко мне с Борисом. У меня есть ванна с горячей водой. Стены набиты книгами, неупоминаемыми, почти совсем нет книг о книгах.
Мы сидели бы, разговаривали бы, вспоминали бы о Пушкине, Тредьяковском, Романе Якобсоне, Маяковском, Поливанове и опять об Александре Сергеевиче
[405]
Я думаю о Бальзаке и написал за этот год не меньше сорока листов, из которых 30 лежат в цензуре.
Я читал газеты в этом году за десять лет. Говорил мало.
Очень скучаю о тебе и Борисе.
Ты Пушкина так и веди, это удалось, это не рукопись. Это не может вызывать крика восторга, между прочим, потому что это неукрадываемо. Может быть, Александра Пушкина надо делать ещё менее гениальным. Замечательно в «Кюхле», которого надо написать второй раз как портрет, замечательно то, что там неизвестно, кто станет Пушкиным.
Это очень трудно, но, может быть, это можно сохранить.
Может быть, дать рождение стиха вне поэта и этот вечный спор географов, которая река — приток.
Итак, не скучай. Живи в Петергофе, говорят, у вас покрасили фонтаны? И до чего-то люди дойдут!
Ю. Тынянову
[Нач. марта 1936 г.]
Дорогой Юрий!
Получил твоё письмо, рад ему <…>
Я Пушкиным занимаюсь и с романом твоим ещё более согласен, чем был согласен раньше <…>
Не виделись мы по году, ты уехал, а я грущу. И «Цукерброд не лезет в рот», Хлебников похож на черновики Пушкина.
Не забудь, лечась, хоть немного увидеть Францию, это обновляет сердце, изменяет ассоциацию. Пушкин умел это, правда, делать, путешествуя по комнате. Для нас Царское Село, ныне Детское, — дача, как была, так и осталась, а для него это история культуры, система мифологии.
Настоящий же мир обновляет сосуды мозга.
Как жалко Павлова.
Как будто в Ленинграде Нева стала мельче.
Жму тебе твои лапы.
Не изучай Париж и парижанок только издали, это неправильный метод.
Что делает Лувр, кстати сказать? Венера Милосская действительно существует?
Кланяйся Джоконде, если она хороша <…>
Ю. Тынянову
[весна 1936]
Дорогой Юрий!
Письмо твоё получил. <…>
Я по-прежнему для грустного весел, для толстого хорошо хожу и хорошо работаю для всякого.
Как твой Пушкин? Плохо приготовляют к юбилею. Пушкинисты не умеют с ним справиться и знают не то, что надо знать. <…>
Был в Ленинграде, никого по делу не видел и удивлялся такому невероятному у себя отсутствию интереса.
Встречался с Бабелем.
Горький болен, сидит перед столом, на котором лежит подушка с кислородом и пишет «Клим Самгина». Ему надоело болеть и ему нравится Мальро, который Арагона не любит и я не люблю. А ты люби, кого хочешь.
Если умеешь ли если сумеешь, то живи полегче, повеселее, посмотри, что там есть в новой французской литературе.
Прочёл, наконец, Джойса в переводе. Я понимаю, что это такое. Но это основано на индукции литературы. Она и ведёт этот сон, связывает его. Мне не завидно. <…>
Дружу с Эйзенштейном, он монтирует картину.
Целую тебя, желаю тебе счастья. Купил «Путешествие в Тавриду», «Литературные листки» Булгарина.
Ю. Тынянову
Дорогой Юрий,
<…> Настроение у меня, как ты понимаешь, плохое, нашего старика мне жалко.
Шли к Донскому монастырю смутным стадом через Москву, милиция ехала двумя линиями, шла пехота связным новым шагом. Мы то грустили, то забывали.
На кладбище Донского монастыря темнота, белые свежевымытые амуры и журчит вода.
На Никитской дом старика уже разорён.
Я со стариком, ты знаешь, был в ссоре, но я его и сейчас люблю. <…>
Я начинаю опять писать, привыкаю, начинаю писать теорию романа, пока начал читать. Приеду ненадолго недели через две. <…>
С Эльзой помирился, говорил с Арагоном, принимал их в «Метрополе» с кавказско-московским добродушием, что, как ты знаешь, я делать умею.
Не будем же времени верить, не будем слишком много вспоминать, будем жить надеждами, надежда — память о будущем.
Дай Пушкину руку, вы дружны, пройди по чужой жизни с другими спорами и с такими знакомыми разочарованиями.
Отправь своё горе на дачу.
Целую тебя.
23. VI. 1936
Москва
Ю. Тынянову
Дорогой Юрий!
Давно не переписывались. Время прошло больше, чем это кажется, и, вероятно, даже характеры у нас переменились.
Но, проходя мимо твоей книги, надвигаю шапку на лоб.
Я кланяюсь. <…>
[406]
Пушкинисты переживают Цусиму.
Они затонут один за другим, по моральным соображениям.
То есть, у них нет пафоса, чтобы держаться на воде. <…>
Твои главы из «Пушкина», напечатанные в «Литературном Ленинграде», лучше прежних.
Пушкин разгорается, ты привык к ему.
Удастся ли тебе то, что не должно удаваться нам.
Во всяком случае мне ни разу не удавалось.
У меня Федотов — несчастен. И Марко Поло — несчастен.
Они были несчастны, но иначе, а Пушкин умел «не давать судьбе победы над собой: он вырвал у неё хоть часть отнятой у его отрады».
Это писал Белинский.
Какого числа наше 19 октября, кто — наш друг, который и сейчас любит нас. Если ты сумеешь дать Пушкина не только несчастным, хотя он был несчастен, то друг наш, неведомый нам, будет соединён с Пушкиным.
«Пускай же он с отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведёт,
Как ныне я, затворник Ваш опальный,
Его провёл без горя и забот».
Пушкин в одном письме предлагал оставить любопытство толпе и быть заодно с гением.
Я верю, что тебе нескучно, на песчаном косогоре в сосновой роще, там у Северного нашего резкого моря.
Это морцо всё же пахнет океаном, которого Пушкин не видел.
Не огорчайся тем, что наши заботы велики и непрерывны, — это неизбежно.
Наши соседи мнимо наши современники, и мы не можем быть навсегда их друзьями.
Нас разлучают не ссоры, а обиды.
Мы отрастаем от них прочь.
Я пишу о Пушкине. Одно огорчает меня, что это не та проза, о которой я мечтаю.
Нужно было бы писать теорию, как письмо.
В ней наша последняя отрада, вырванная нами.
Целую тебя крепко, письмо будет идти долго.
Здесь Боря, который удивляется тому, что ему уже 50 лет.
У Ираклия Андроникова дочка, которая пока не имеет названия.
У меня впечатление, что это пока гранки дочери.
Он счастлив. Был у Всеволода. Юбилей.
Он не был счастлив (Всеволод). Все хвалили его больше за поведение, чем за успехи. Я говорил, неплохо, рассказал одну сказку Геродота о детях, поднятых орлами. Дети кричали с облаков: подайте нам извести и камней, мы готовы строить.
Было дано им такое поручение.
Я пошёл ко Всеволоду, сказал ему что я часто завидую ему, когда читаю.
Он уже
ответил тихо — он мне тоже завидует.
И мы оба не были, в письме это становится однообразно, счастливыми.
Арагоны уехали питаться парижским воздухом.
Между тем французом быть уже страшно, а для этого у них нет солдатских свойств.
Он — это он, её муж.
Виктор Шкловский
4/X — 36 г.
Ю.Тынянову
[осень 1936]
Дорогой Юрий!
Давай опять писаться. В Ленинграде мы не догляделись друг на друга.
Сейчас я сижу у себя, пытаюсь разобраться в отрывках статей.
Хотел бы я писать прозу, так вот не пишется.
С Федотовым ты не прав, потому чо получился Федотов. С Пушкиным ты прав, потому что Пушкин получается.
Он сидит, поджавши ногу, в зале, где люди сидят рядом с ним, вытянувшись и откинувшись: лосины мешают им согнуься.
Поэтому он более мягок, гибок, более расшарнирен, чем был бы расшарнирен среди нас.
Каблуки его стоптаны, он свой совершенно, ему скучно. И одно непонятно — как он не растерялся, когда писал своего «Медного всадника».
Штатскость, поддельность пышного родословия, спорность судьбы, спутанность происхождения, ложность кругом — всё понятно.
Ещё непонятна прямолинейность рукописи с копиями, воля идущих вперёд чиновников, поправки к прозе, сводящиеся к уплотнению сюжета.
Мы плохо представляем себе людей того времени.
Чуть ли не на балах сидели дворяне-ростовщики, давали деньги под вещи и меняли вещи.
Нас дворянством обманул Толстой, он насказал нам сказок, надул нас, как Берсов. <…>
Мы редко с тобой поднимаем осенью голову, мы не видим листьев.
На гоголевском бульваре вечером сидели пары, спиною к свету, лицом друг к другу. Это не традиционно. Город, в котором развесили фонари, милиционер, над которым висит фонарь и он стоит, как в капле света, стоит как под микроскопом — это один способ организации жизни, один её ход, а люди на скамейках — другой.
Такое однородное тело, как кристалл, в разных своих напряжениях для электричества разнородных, кажется, это зовётся пьезокварцем.
Сердце, играя роль реле и усилителя, переключает токи, перестраивая их в молекулярных клетках.
Мне хотелось бы для тебя больше личного счастья, покоя, больше возможности подымать и поворачивать голову.
Я хотел, чтобы ты сидел, поджавши ногу, на больших собраниях, не защищая себя внутренним подмораживанием.
Утро, идёт дождь, у нашего дома по рассеянности снята крыша, стены мокнут прямо мне на мозги и это почти беспокойно.
Ноги я поджимаю по-турецки <…>
Итак, Юрий, я буду тебе писать. Пушкин нуждается в письмах. Написать его почти невозможно, потому что ты взял Пушкина, а не Вильгельма Мейстера. При совершении невозможных дел помогает ощущение понятности этого дела для других.
Итак, желаю тебе удачи.
Ю. Тынянову
<…> Статья о тебе лежит в «Правде», но её оттесняют события, а событий много.
Должна пройти быстро, я ей очень заинтересован, потому что в ней есть формулировки, что именно ты придумал нового в романе и чем этот роман от других, в том числе потому что в ней есть формулировки, что именно ты придумал нового в романе и чем этот роман от других, в том числе от твоих, отличается.
Нельзя было написать со всей честностью, что Пушкин родился в типичной семье и воспитывался в типичных условиях. Может быть, когда-нибудь мы сообразим, какие ситуации лежат в основе биографии великих людей.
Что касается меня, то я завален делами, не очень любимыми.
Влюбляюсь в случайные работы и развешиваю на них свою шерсть, как меринос, которого забыли постричь и ном, разговаривал.
пасут на поле среди колючек.
Виноватых здесь, кроме Виктора Шкловского, нет, можно стричься и бриться самому. <…>
Виделся с Сергеем Михайловичем Эйзенштей
С Бабелем разговаривал, разговаривал с друзьями Горького. Вообще десятидневка была разговорчивая.
Наши современники-критики перед твоим романом покамест недоумевают. Надеюсь не сколько на свою статью, сколько на место её помещения.
Новое входит людям в голову трудно.
Новое качество романа глубоко. Роман сюжетно построен лучше превосходно построенного Киже.
Но Фейхтвангер Киже может понять сегодня, а с Пушкиным он ещё подождёт. <…>.
Виктор
28. III.37 г.
Ю. Тынянову
[лето 1937]
Дорогой Юрий!
Ты совершенно прав, я Тебе не писал. Произошло это вот как: я болел-болел, а потом начал поправляться. Через 10 дней после конца болезни сняли с меня электрокардиограмму, и оказалась она такого качества, какое бывает при серьёзных болезнях сердца <…>
Хотел бы я писать когда-нибудь о счастливых людях.
Итак, я ищу рубашку счастливого человека.
Читал ещё раз Твой роман. Роман хорош, но Ты об этом знаешь.
Я даже здоров, но огорчён.
Скисшие палочки дают горечь.
Оказывается, у меня было не 90 ударов, а 120 и 130, а мне не говорили.
Одним словом, я Тебе пишу письма, как будто мы с Тобой врачи.
Четыре дня был у меня Мандельштам с новыми стихами. Его дела не то налаживаются, не то разлаживаются.
Сам он просится на ручки и делает ноги макаронками: стоять не может.
Если бы я был здоровее, я бы поддержал его.
У нас жара, ливни, грады и погода вообще поперечно-полосатая.
Был у меня Андроников. Вообще народу — непротолчённая труба.
Надо отдыхать, но это не очень выходит.
Ю. Тынянову
Милый Юрий!!
<…> Милый Юрий, я написал книгу о Маяковском. Книга, говорят, хорошая. Она написана с теоретическими главами о стихе, главою о рифме, с описанием того, как Вяземский поссорился с Пушкиным из-за вопроса о рифме, с анализом, заключает ли рифма сама по себе рифма что-то пародийное.
Ответ, конечно, что она заключает.
То есть, в определённые эпохи такова её функция. И тут барон Розен из «Современника», и каламбурные стихи, и замечания Тынянова о Моссельпроме.
Книга очень грустная. Она сказана голосом человека, знающего, что такое эхо и не боящегося этого акустического явления.
Я устал, зеваю днём, пишу не более одной статьи в два дня.
Книжку я тебе пришлю в гранках. Она живописная, с пейзажами, проходящими образами и довольно последовательная.
Асеев над ней плакал. Она, конечно, групповая. Покойник тоже был групповой. А, может быть, она не групповая.
Москва стоит в снегах. Зима не хочет уходить.
Извините, если кого обидел.
29 июня 2011
(обратно)
История про переписку Шкловского с Эйхенбаумом
Б. Эйхенбауму
Дорогой Борис
… Не знаю, радоваться ли или огорчаться, но нам предстоит долгое плавание.
10-летний срок мы выдержали, но, кажется, попали вдоль службы.
Ещё десять лет.
Синбады-мореходы.
Целую тебя крепко, как брата.
Я недоволен собой. Из-за кино не работаю.
Нужно идти в поход со своих деревень.
Юрий болен, отравлен временем, как мочевиной.
А мне нужно опять писать. Мы строители фабрик. Вероятно, трудно, стоя на месте, выдерживать честным и ломким оружием атаки.
Люди атакуют нас, бросая ночными горшками.
Милый Боря. Китайцы говорят, что рыба, которая проплыла Жёлтую реку против течения, выходит на берег драконом.
Выглянь на берег, какая там провинция?
Не трудно.
Я мелею без вас.
Приезжай. Поговорим о героическом неуспехе нашей жизни. О семьях.
Главное же, о будущей литературе.
Желаю счастья.
У меня сын, дочь, дом.
Приезжай, мы устроим здесь доклад и перекроем Питер авторитетом.
Даёшь мировой рынок.
Отвечай <…>
Целую.
Виктор.
19.3. 27 г.
Б. Эйхенбауму
Васильевский остров,
Большой проспект, д. 60/5, кв. 11
<…> Леф распался, не выдержав ссоры моей с Лилей Брик, разделился на поэзию и прозу, Спешно ищем идеологических обоснований. Я хочу устроиться так, чтобы часто бывать в Питере. Посмотрим, что из этого выйдет. <…>
Больше всего нам нужно работать вместе, я чувствую каждый день преимущество коллективного хозяйства над однолошадным середняцким.
Очень крепко целую тебя. Завален мыслям о деньгах. Литературный быт надо рассматривать как один из видов сопротивления материала, тогда, вероятно, получится, а что получится, мне неизвестно. Я очень боюсь, как бы не получилось из «Комарова» работы старого типа. Пиши мне.
8. XI — 28 г.
Виктор Шкловский
Б. Эйхенбауму
Дорогой Боря
<…> Я угорел немного от работы. Ученики, они также ошибаются, как и мы, но не так весело. <…>
Не грусти. Не позволяй себе быть очень несчастливым. И пиши непременно. При данном состоянии здоровья лучше всего беллетристику о Волине, о скрипке Бориса Эйхенбаума и молодом Толстом.
Тут нужно немного распустить руку, потерять внутренний стыд. Это теряя для литератора вещь необходимая. Но не пиши слишком отчаявшись, а не то тебя возьмут в штыки, как меня с «Третьей фабрикой».
Вставь в книгу фольклоры института, песни младопоязовцев с историко-литературными пародийными примечаниями.
Целую. Жму твои лапы. Желаю счастья. У нас шёл дождь.
29/III — 29 г.
Виктор
Б. Эйхенбауму
2 мая [1929 г.]
Итак, пишу тебе, друг, письмо твоим почерком, конечно, относительно и соотнесённо.
Есть два вопроса.
1) Как быть с наукой, или даже как сделать её, чтобы она существовала работай, а не методом. Как сделать не самоцельной, а при деле.
2) Как быть с нами. Последний вопрос распадается на
а) как быть с Эйхенбаумом,
б) _________________ с Тыняновым
в) _________________ с Шкловским.
Эйхенбаум сейчас лучше, чем в прошлом году, но он охвачен идей периодов и кризисов. Он делит себя на десятилетия и старается стареть уступами. Он (Эйхенбаум) не прав со Львом Толстым. Ёмкость человеческого творчества такова, что хотя по проводу из Москвы в Питер сразу могут говорить несколько, то в романе есть не столько проникновения одного явления в другое, сколько сосуществование. Философия сидит и смотрит на страницы истории, написанные унтером, а второй помощник в это время выпускает поющее трио Наташа контральто с колоратурой, тенор Болконский и комический бас Пьер. Роман своден и точки сводов заострены. Ты перегрузил первую часть работы, мы любим друг друга до правды. Первый том похож на сборник комментированных мемуаров Анненкова. Это жанр твоих учеников. Сорок лет и сорок четыре не освобождают от воинской повинности в нашем деле.
б) Юрий горько болен, Безрадостным городом, безрадостной семьёй, женщиной, ревнующей его к славе и болезни <…>
в) Тяжело болен друг мой Шкловский. Его болезнь разбивается на
1) На вопрос о творчестве и литературе, говоря о себе, он обострил себя и ококетил. Он держал рану открытой и нож в ране. Он связал себя своей судьбой. В своём некультурном хозяйстве он не обрабатывал, а царапал землю. Он кочевой землепашец. Пора осесть на пашню. Пора начинать третью жизнь — жизнь немца? Пора тихо выдумывать обезьяну — Онегина.
Но дело не сделано, милый, ведь нет даже перечисления задач. Не знаю, однако. Нужно работать длинно.
2. На вопрос о личной жизни. Вопрос о личной жизни распадается на
х) Жизнь семейная. Семья, любовница, аборты, соперники, прошедшая молодость. Осёдлость, зрелость. Осёдлость нового ремесла.
у) Жизнь общественная. Этот человек недостаточно демобилизован. Он ходит не так, как надо. Специальность его темна и как будто переменна.
Запах у него современный.
Травля совершается механически.
Прошлое тяжёлое. Если он свой, то он соперник, если он чужой, то враг. Я понимаю травлю.
Я понимаю, как я выгляжу со стороны. Мне нужен отдых и ликвидком части личной жизни.
Предложения. Вышеозначенные гении не могут жить друг без друга. Они семья. Они должны писать длинные вещи вместе. Никто не смог написать историю русской литературы. Историю русской литературной техники. Так потому, чтобы обратить механику истории в электричество высших формул теории. Опровергнуть время, укоротить его стебли. Показать, что произведение длится. Тебя целует твой с тобой счастливый друг. <…>
Ю. Тынянову
Б. Эйхенбауму
8/VII — 32 г.
Дорогой Боря, очень тебе советую приехать в Москву, что, как всем известно, недорого и вполне оплачивается.
«Литературная газета» обращалась ко мне с просьбой организовать полосы по формальным моментам, например, полосу об эпитете.
Они думают, что в эпитете всё дело.
Но об этом мы поговорим при личном свидании.
Я в меру скучаю.
Впрочем, самоуверен и даже безделен, но не отдыхаю, потому что собираюсь работать.
Написал яростную статью об Эйзенштейне, Бабеле, Тынянове, Олеше и Мандельштаме.
Вообще я против литературной литературы.
Не скучай, не смейся невесело.
Приезжай.
Николай Иванович живёт, питается сыростью, вообще ведёт образ жизни ему свойственный.
Это тоже необходимо посмотреть.
Я настроен лирически, но как-то у меня ещё не выходит беллетристика. Писать мне хочется о деревьях, поездах, о себе.
Звонить по телефону никому не хочется.
Почти всё взвешено на руке. Поступки людей знаешь наперёд.
Целую тебя. Приедешь, расскажу тебе анекдоты из Поджио.
Вина в городе нет.
Ты взволнован?
Виктор.
Желание и любовь разделились.
Б. Эйхенбауму
Милый Боря!
У меня дизентерия с палочками Шига.
Я болен 20 дней.
Лежу.
Я не мечтаю сейчас о вдохновении. Нет.
Сейчас я имею его.
Вера в себя, любовь к искусству — два друга.
Я имею не мало.
Болезнь истощает меня.
Хочу только здоровья для того, чтобы думать о Пушкине, о Маяковском, об эпохе, которую мы создаём.
Мы не были и не будем трусами.
Святое вдохновение дома, на подножке трамвая, спасает нас.
44 лет больной, люблю я белые ночи, Илиаду, Толстого и книги, которые надо написать.
В моём письме нет хвастовства или задора. Я очень унижено болен.
Но да будет искусство. Целую тебя.
Бремя наше легко — оно истина.
Истина впереди.
Лучшее не написано.
Если я умру, Юрий и ты издадите меня.
Твой Виктор
1 июня 1937
Б. Эйхенбауму
Дорогой Боря!
Я ужасно устал, написавши книгу о Маяковском в 10 листов.
Там есть глава по теории рифмы.
Книга беллетристическая.
Если её написать бы ещё один раз, то она была бы очень хорошей. Думаю, что она не хуже «Сентиментального путешествия» сейчас.
[408]
Впрочем, кто их знает, эти книги? Лучше всего они в воспоминаниях. <…>
Я устал и по утрам зеваю, и из-за плохого характера ругаюсь на собраниях страшным голосом.
Было 20-летие кино, играл оркестр, стояло много цветов, и мы не могли разобрать, кто же гроб.
Пели песню «Эй, ухнем!» и уверяли, что она из ленты Донского и её написал композитор Шварц.
Несомненно, «Вниз по матушке, по Волге» написана Александровым.
Литературные силы меня не оставили. <…>
Итак, дружим мы с тобой и даже ссорились лет 25.
Шло время, построили мы науку, временами о ней забывали, её заносило песком.
Ученики наших учеников, ученики людей, которые с нами спорят, отроют нас.
Когда будут промывать библиотеки, окажется, что книги наши тяжелы, и они лягут, книги, золотыми, надеюсь, блёстками, и сольются вместе, и нам перед великой советской литературой, насколько я понимаю, не стыдно.
И мы, насколько я понимаю, перед великой советской литературой не виноваты. Мы пришли к очень занятому человечеству.
Одним словом, попали в историю.
Итак, я нежно тебя целую, друг. Сейчас вспомнил, что ты ко мне тоже е пишешь, но это ничего <…>
Итак, целую.
Твой Виктор из Шклова.
21. II. — 1940
Б. Эйхенбауму
Дорогой Борис!
Двадцать третьего мы похоронили Юрия.
Он умер в больнице 21-го в 10 часов вечера.
Когда приехала Елена Александровна, он был без сознания.
С трудом устроили похороны. Тело было выставлено в Литинституте.
Ночью Винокур и Бонди дежурили и читали Блока.
Утром в шесть приехал я и брил мёртвого Юрия.
На похоронах были серапионы, Чуковский, Маршак, Фадеев и Эренбург.
Объявления в газетах не было.
Он похоронен на Ваганьковском кладбище.
Семье оставлен лимит. Будут издавать книги.
Кончена жизнь друга.
Кончена самая несчастливая семья.
Нас с тобой двое.
Целую тебя.
Поклон Рае и Оле.
Я думал написать длинное письмо.
Твой Виктор.
Буду писать книгу о Толстом. Многое придумано.
27. XII — 43 г.
Б. Эйхенбауму
10 декабря [1946 г.]
Дорогой Боря!
Получил твоё письмо. Не решался всё время писать тебе. Я не могу думат о Никите. Когда я думаю о нём, всё кругом ничтожно и мертво. Я живу.
Когда-то я поменял всё на семью. Нет сына.
Тысячу раз я примеряю и переделываю жизнь так, чтобы он не был там в Восточной Пруссии у Кенигсберга, где его настиг осколок.
Я могу ответить тебе только плачем <…>
Нашего поколения уже нет.
Я пишу, но не работаю.
Достал черновики работ по теории сюжета. Они лежат на столе. Смотрел Чехова. Но нет сил, и легче сидеть, опираясь руками о колени. Я всё могу, но не хочется <…>
Итак, вот он, плоский берег старости.
Мир не переделан нами. Голос наш стал слишком громким для горла. Больно говорить.
Целую тебя, мой дорогой. Целую всех наших мёртвых. Будем жить.
Я приеду в Ленинград, расскажу тебе подробно дела и о моём бесполезном умении.
Ираклий болен. У него был сепсис. Роман в Америке, возвращается в Прагу.
Те, кто ходит вокруг меня, часто кажутся пустыми пальто. Приходят и остаются на вешалке. Приезжала Эльза Триоле, знаменитая и старая.
Целую тебя.
Целую крепко.
Жизнь была долга. Сколько было неясного? Сколько людей прошло.
Как дорого для нас наше время. Как дорого мы за него заплатили.
Ночью иногда думаю об искусстве.
О Чехове главным образом. Кому оставим знание?
Дорогой мой. Вспоминаю доски твоего коридора. Лестницы. Мебель твоей квартиры.
Поклон Оле и Лизе. Целую их дорогих.
Мне трудно думать о Ленинграде.
Мама ещё жива. Её сознание тает.
Доживаем своё, друг и брат, и, может быть, у болотистого берега старости ещё увидим вечернее солнце и широкие тени вдохновения.
Твой Виктор
Москва 10 <…>
Б. Эйхенбауму
Дорогой Борис
Чернила сохнут, как язык в гортани.
Бедный тритон. Ну что, дорогой, жаба сейчас почти эпидемия. Она бывает и у сорокалетних, и если первый припадок миновал, и с [жабой (?)] живут. С чем мы не живём. <…>
Я пока здоров как 55-летний Онегин. Скоро приеду в Ленинград с рукописями. Деньги приходят и уходят — уходят охотно, приходят — сопротивляясь.
Живу. Живу. Опояз давно стал пунктиром.
Нас мало и тех нет.
Банка с нитроглицерином скоро станет формой одежды.
Ах, не шутится.
Милый тритоша, ещё поплаваем.
Передавать вахту некому. Постоим.
Может быть, обновимся, как [седые (?)], временем [выгрызенные (?)] луны.
Оле много приветов.
Привет моей родне — Питеру — Ленинграду — Сестрорецку.
Привет Толстому Льву. Пускай умнеет. Это похоже.
Что касается прототипа, то его нет. Есть протофакты.
Влияний тоже нет.
Веселовского нет и не было.
Жирмунского и не будет.
А ты есть, но и озорник.
О мяу мяу друг. О мио мио.
О наши крыши родного Ленинграда.
О холод ленинградских набережных и вода, которую не согревает даже история.
И нити жизни, не пёстро свитые шерстяные нити [сношенной (?)] одежды. Книги, которые недописаны.
Горе и будущая слава, ошибки, измены и упущенные случаи изменить женщинам. Так.
О недопитое вино.
О друг мой.
Твой Виктор.
4 августа 1948 г.
Б. Эйхенбауму
Дорогой Боря!
Книга о прозе в наборе. Дописываю сценарий и очень устал.
Старые люди устают тогда, когда они делают то, что они делать не могут.
Да я устал.
13-ти лет я узнал то, что эвфемистически зовут любовью. Прошло ещё 50.
Чуть не написал 500.
Только редко было вдохновение.
Это дело жестокое и несправедливое.
Если бы моя жизнь пошла правильно, я обладал бы навыками академического учёного и сделал бы бесконечно много. Без языков, без философии, без почерка и грамотности и прожил жизнь, коптя котлы вдохновения, которым надо только смазывать измерительные инструменты. И это всё от того, что не имел простой и верной любви в 13–14 лет. <…>
Я печален как слон, у которого запор.
Печален, как морской змей, которого слабит.
Годы укатились на рёбрышках.
Закатились под полы.
Единственный друг мой, брат мой — целую тебя.
Жизнь такая, какая есть, атомы её сталкиваются без воли.
Справедливость есть только в тетрадках учительниц.
Целую тебя. Береги молодых.
Всё было. И заря, и зарево, и зелёный луч, и зубная боль, и боль сердца. Весна не наступает.
Целую тебя, дорогой.
Сима целует, не прочтя письмо. Витя.
17 апреля 1953 г.
Б. Эйхенбауму
[лето 1954 г.]
Дорогой Боря! <…>
Я прочёл заново твою Статью «Как сделана шинель».
По точности анализа, по гибкости и неожиданности эта статья представляла собой кульминацию движения и останется в русской литературе.
В то же время она, как все наши статьи, представляет собой ошибку. Акакий Акакиевич только образ Гоголя. Утверждение, что Акакий Акакиевич только бедный чиновник, — ложно.
Моё утверждение, что искусство — это средство вернуть ощутимость мира, противоречит моему же утверждению, что искусство не чувственно и внеэмоционально.
На самом деле происходит борьба между общностью языка, которая как система сигналов, обусловлавливающая собой мышление, становится между человеком и миром.
Борьба с автоматизмом происходит не для искусства, а для возвращения миропознания. Тем не менее искусство мыслит образами искусства <…>
Между тем жизнь искусства создаётся, а не цитируется, и мы с тобою годами крутимся на одном месте, на котором крутится человечество тысячелетия, а пойти можно бы далеко.
Судьба наша такая, что мы пережили своё поколение и нам приходится идти вместе с другими и замены нам нет.
Ни Орлов, ни Бялый, никто другой не замена.
Поэтому не огорчайся ничем. Я вот огорчаюсь только самим собой, своей недостаточностью, своим неумением выразить то, что мне снится, кажется несомненным.
Страдая от невозможности выразить себя, мы подменяем свои страдания. Так в сказках Геродота человек, которому надо плакать, разбил кувшин с молоком, чтобы мотивировать свои слёзы <…>
Б. Эйхенбауму
[март 1957]
Дожидаясь твоего ответа, пишу тебе ПЯТОЕ письмо.
Но где же прошлогодний снег.
Вот тема письма.
Он там в
океане, где струнами натянуты лучи солнца и голубая дека океана отражает всё ещё непонятую музыку мироздания от полуподнятой крышки неба.
Шум реален, как шум крови в ушах. А музыку ведь не проголосуют даже на пленуме композиторов.
Семантика её в твоём вечном, но вечно занятом пере. Шумит море. Поднимаются и опускаются над кленовой декой, над струнами позвонки инструмента.
Где Баум? Где заведующий семантикой звука.
Он пишет комментарии с получёртом Бялым.
Оседает ещё один снег. Подымает и взламывает лёд. Кладёт льдину на льдину — как библиографические карточки ненаписанных книг.
Подымается вода почти до Подьячей. До Посадской и Профессорской.
Задевает взморье.
Шепчут прибрежные эйхенбаумы в Дубках.
— Кто разберётся в хаосе звуков?
Ветер печальный несёт им ответ.
Однофамильцу их времени нет.
Осины в лесу зеленеют телом. Жму твои милые лапки, мой однолеток и современник. Небо над елями сине. Пришла ещё одна весна старости и полного умения. <…>
Кончился март. Привет твоей и нашей весне.
Виктор Шкловский
Б. Эйхенбауму
Дорогой и милый Боря!
Целую тебя. Желаю тебе счастья в углу между морем и Нарвой. Пускай оно будет широкое и спокойное, и длинное, как полоска между лесом и морем, там у вас. Я был там шестьдесят лет тому назад.
Мы в имении вежливого жандарма Дубельта. Жил он в свежем климате.
Проходит всё. Из реки выносят в море песок. Ветер отодвигает их. Сосны вырастают на дюнах. Жандармы живут под соснами. Писатели живут под соснами и жандармами. <…>
Не верь книгам, которые похожи на Толстого. Все млекопитающие, даже лошади (скрыто) пятипалы.
Меняется жизнь, и происходит суд над ней и её разностное удвоение.
Литература интегрирует жизнь.
Интеграл — способ усвоения неусвояемой кривой.
Проходит всё. <…>
Ещё увеличатся дюны.
Ещё расти будут и вырубаться сосны.
Ещё вынесут волны на берег смолу — янтарь от корабельных лесов.
Пряди книгу. Будем интегрировать и дифференцировать жизнь. Будем искать узлы жизни в её повторяющихся и, может быть, не переплетенных нитях.
Небо сине и ярко. В небе плавают повторяющиеся сосны. Бегут волны.
Сижу в коротких брюках (55 рублей).
Не верю в то, что жизнь проходит.
Читай Достоевского в моём интегрировании.
Не будь слугой [для] Пушкин[а]. Служи себе <…>
Пиши книги, дорогой брат мой, мой спутник, товарищ по перу.
Дублты.
Виктор
6 июля 1957
Б. Эйхенбауму
<…> Ещё один Новый и, вероятно, трудный и длинный, потому что високосный год едет через Аэропортовскую и Малую Посадскую <…>
Искусство движется тем, что оно останавливается перед новым от изумления и обновляет старое. Частично это выражено в мифе. Миф — это путешествующее изумление.
Путешествие, суд и миф — дорога к реализму. Миф часто — рассказ о преступлении без суда.
Ещё путь 1) необычного — и второй путь 2) разобычнивания через революцию.
Поздравляю тебя с Новым годом, с новым скрипом дверей, с которым входят в новые квартиры и в старую жизнь новые книги; осматриваются, видят: на столах и на кроватях лежат старые книги, распухшие от закладок, которыми они раздвинуты, как жизнь снами.
Человечество едет к себе домой топтанными дорогами, как трамвай петляет по захолустным улицам, пока не выедет на главный проспект. Там слезаешь, идёшь один и слушаешь эхо своих шагов. Приходишь к себе: себя настигаешь. Искусство как бы в изумлении отступает перед найденным и достигнутым. Спутанные строчки текстов — это ходы, прогрызанные сердцем. Грызём под корой жизни, стараемся достичь сердцевины, ну а дятлы выдалбливают нас из-под коры, стуча цитатами. <…>
Милый мой друг, ещё не задолбленный дятлами, не кивай на меня головой, не кивай на мои цитаты. Это не цитаты. Это ходы, пробитые неведомым червяком, таким червяком царь Соломон обрабатывал стены храма, не желая прибегать к железу.
Мы при жизни обречены, как музыка, на переосмысление того, что сделали и не сделали.
Я читаю греческие романы, Библию, Шопенгауэра и многие принесённые мне книги так, как Дон Кихот читал греческие романы <…>
Искусство многократно в отличие от языка. Человек мыслит обычно в системе одного языка, но обычно же творит в системе нескольких одновременно существующих искусств, засекая явления линиями разных жанров.
Ручей истории, ручей театра, ручей путешествия, ручей судоговорения — они текут, сплетаясь по одному склону, сплетаясь, но не сливаясь в одну реку — прозы.
В ей отражается — так называемая душа.
Я еду, тень опережает меня. <…>
Целую тебя. С Новым годом!
Ты написал мне по поводу одной обыкновенной истории «вот тебе отомщение и аз воздам».
Немец-переводчик как-то спутал толстовский текст и перевёл (как ты говоришь).
Он перевёл «Я иду с туза»
Я иду с туза.
Крой!
Мы сидим без денег, но живём хорошо.
Витя
Москва
Конец декабря
1957 год
Б. Эйхенбауму
19 апреля 1958 год
<…> Борис милый. Приезжай к нам в Шереметьевку. Будет полный уход и обкорм. Будем ползать перед Б. М. Э. по коврам вместе с книжками. <…>
Всё, кроме содержания твоих снов, будет приготовлено.
Я втянулся в свою работу, но последний (пока) кусок достался мне с трудом и кажется мне стилистически тяжеловатым.
Приезжай, дорогой мой. Приезжай, наш самый любимый, скорей.
Вхожу в ритм открытий. Как трудны полюсы нашей жизни. <…>
Продолжаю писать.
Это я, твой Витя, увлёк тебя, профессионального учёного в слепой полёт над неизвестным нам миром.
Я не терял ничего. Я в первый раз положил самолёт на путь, который нами создаётся.
Потом я ушёл на десятилетия. Крутилась Земля. Сменялась погода. Ты летел через бури, усталость, через годы и измены.
Теперь мы снова летим вместе.
Качаю в привет тебе крыльями.
Уже сорок лет полёта.
Издержано сердце. Накопилась сажа, в трубе усталость. Аорта у нас на рентгене похожа на белую берёзу.
Мы летим. Я радуюсь полёту.
Милый Боря, наш способ быть счастливыми самый трудный.
Льды Амундсена не трудней. Одна мысль беспокоит. Не о книге, не об издании, только об истине. Неразгадываемой до конца, вдохновенной и приблизительной, как пейзаж.
Сима стучит в соседней комнате на машинке. Туманное море спокойно. Цветут вполголоса озябшие деревья.
Никому в мире я не написал столько писем, как тебе.
Витя
Б. Эйхенбауму
Дорогой Борис!
Пишу мало и клею. Чтобы написать тебе письмо, тщательно мыл перо Симиной ручки.
Кончается наша ялтинская весна.
Написал я в Ялте 61 страницу
Сейчас дочитываю и подскрёбываю непонятное.
Только мысль сопровождает писателя до старости и спорит с ним без упрёков.
Забота ослепила Фауста, дохнув в его глаза.
Не преступление с Гретхен, не любовь к Елене, не хитрость Мефисофеля. Нет, просто забота.
Идёт по ступеням жизни, подымаемся с грузом, а забота, как вьюга, холодит виски. Мы обмираем от холода забот <…>
Звёзды нас утешут, милый друг, дорогой мой пророк, поэт, несущий неснятые заботы дня.
Пока бьётся сердце. Пока пишет рука и память хранит всё собранное нами, всё то, что в этом порядке нам принадлежит, надо писать.
Не о мёртвых друзьях, е о горе их жён, не комментарии. Пиши Толстого. Сбереги людям своё понимание.
Стратегия учит забывать малое тактическое зло во имя главной цели.
Мы, Борис, должны быть бестактны.
Бросай муру, оставь благоразумие, даже шутки. Пиши. Кажется, это спасает.
Мы напишем небрежно. Скуём с заусеницами.
Нас не сразу прочтут.
Но время вынесет слово на берег.
Сердце сейчас успокаивает в широкой мысли.
Сердце легче, когда оно [счалено (?)] с жизнью путём искусства.
Верят же в своё христиане. Мы тоже верим в своё, и наша история ближе.
Будут счищать ошибки с твоих и моих книг, через поспешность, горячность, неполное видение увидят и правду <…>
Так трудно доделывать книги, уже болят руки.
Соль жизни, которая пробежала через меня, хрустит в суставах.
Срываюсь в гневе, уже не так весело, но ещё упрямей.
То, что написано, уже написано. Волны не могут вцепиться в берег, но они оставляют на нём понятные следы. Виден уровень эпохи. <…>
Виктор
29 апреля 1957
Б. Эйхенбауму
[25 января 1959]
<…> Сегодня мне 66 лет.
Как ни крути, это много.
Но жизнь продолжается.
Приезжай к нам. Лестница будет устлана пиджаками и усыпана мимозами.
Под подушку твою будет положен «Молодой Толстой».
Старый Шкловский будет прислуживать тебе при бритье.
Приезжай, дорогой. Приезжай, пока близко. Надо дорожить долгой нашей дружбой.
Твой Витя
Б. Эйхенбауму
Дорогой Боря!
Я выздоравливаю очень медленно. Чихаю. Температура скребётся около 36,7. А я животное хладнокровное.
Пишу уже о Хаджи Мурате и газавате.
Стараюсь быть элегантным <…>
Мне бы хотелось событий.
Орфей, дорогой, будь счастлив с Эвредиками. Будь счастлив с музыкой и верным быстрым пером.
Очевидно, наша жизнь кончится обрывом, так как не видно спада.
Поцелуй Лизочку и седую Еву — Олю.
Если бы Оля была в раю, то съела бы яблочный цвет, пока деревья ещё цвели.
Может быть, это вкусно.
А надо быть пчелой и прошивать цветущие деревья со скоростью чёрно-золотых пчёл.
Тогда цвет и плод не входят в противоречия.
Я прожил жизнь опрометчиво.
Цвет, брёл и не приобрёл. <…>
Виктор Шкловский на 67 году своего
дискуссионного цветения.
28 января 1959 г.
Б. Эйхенбауму
Дорогой братик Боря.
Экзамены на большую книгу я сдал.
Отметок ещё не получил.
Ходил на съезд. Мне понравился кремлёвский сад и вид из Кремля на Замоскворечье. Книгу (в конце) подписывал.
Кажется, хорошо. Править не умею.
Пишу заново.
Целую тебя. Сима устала.
Кончилась книга и деньги.
Годы, как змеи и прибрежные камни.
Если достанем деньги, приедем на несколько дней (без подушек) в Ленинград смотреть на белые ночи.
Вот и вечер, Борик, но мы мудры.
Приедем к тебе тогда, когда нет вечера.
Пускай старость наша будет, как белая ночь.
Блести, как Исаакий!!
Целую тебя и твои две зари 1) вечернюю — Олю 2) утреннюю — Лизу.
Витя
19 мая 1959, Москва
Б. Эйхенбауму
[Ноябрь 1959 г.]
Дорогой мой Боря!
Вот и ноябрь. Кажется, сорок второй. Вот и кончается шестьдесят седьмой год от моего рождения.
Живём в Ялте. Сижу перед Симой.
Она печатает десятью пальцами новую книжку «Жили-были».
Идёт в перепечатке 27-ая страница.
В море ветер, волны (видно от нас) изредка перескакивают через мол. Ещё раз (Ещё раз) Ещё много (Много раз).
Пишу сценарий «Казаки». Надо сдать в январе. Заказали сейчас по телеграфу.
Эх раз (Ещё раз).
Напишу. Кое-что уже есть. И сколько раз скажу прозой, знаю.
Не знаю также, почему женщина подала надежду Оленину.
Новая книга уже стала старой и уезжает с пассажирским поездом.
Мы читатели своей жизни, а не писцы её и не хотим предугадывать не нехитрый её конец.
Вот и осень. Надо встретится с тобой.
Пиши, Боренька, Хотя в мире и потепление, но стронция в воздухе много.
Говорят, от него помогает крепкий чай.
Пью загодя.
Могли бы сделать больше. Сделали больше всех.
Пиши, Боренька. То, что для тебя ясно, это 97 %, то, что придумываешь во время писания, это 3 %, как во сне, многое пропадает при пробуждении.
Пиши быстренько, милый ровесник мой.
Приедем к тебе. Придём в мороз к Крылову.
Выпьем за него. Пойдём к «Медному всаднику», выпьем за Евгения, за Юру, за нас двоих.
Читал Гуковского. Не пустышка, но сколько следов, идущих от нас он затирает.
Пиши, Боренька. О Лермонтове, а не о Гамлете. О Толстом, а не [о] ненаходимой книге, которая читала в поезде Каренина.
Роман написан Толстым потому, что тот (иксовый) роман не стоило дочитывать. Пиши, мой молодой друг, с прямыми усиками.
Пиши быстренько, про свои большие мысли, поводя своими усиками.
Сима, печатая, кланяется тебе через русский алфавит.
Оле! Лизе! Привет
Виктор Шкловский
Всё, что написано в мире — недописано. «Казаков» помнишь?
Извините, если кого обидел.
29 июня 2011
(обратно)
История для Вити Пенкина
Пацан сказал — пацан сделал:
Извините, если кого обидел.
01 июля 2011
(обратно)
История про работу
Меня очень давно интересовало устройство литературы в том месте, где она говорит о работе человека.
Собственно, это не проблема даже литературы, а проблема любого искусства — работа неинтересна.
Иногда интересна работа сыщика и работа воина — их принято описывать подробно, в процессе. А вот прочая служба плохо поддаётся описанию.
Писатели рассказывают о склоках на кафедре, любви, вспыхнувшей межу офисными столами, интригах в коллективе.
Мне запала в душу фраза из одного любовного романа, которым в давние времена открылась переводная серия книжечек, продававшихся у каждой станции метро. Там начальник и секретарша
работали в кабинете (То есть, конечно, курсив тут ничего скабрезного не несёт — герои, разумеется, в конце поженятся). Но тут они и именно
работали: "Обедать они не пошли. Миссис Таер принесла им тарелку с бутербродами, а кофе она подавала через каждые полчаса. Наконец в четыре часа Филдинг объявил, что на сегодня довольно".
Герои множества романов работают, будто отходят в туалет — детально описывается косяк двери, выключатель, дальше совершается какая-то магия, которую описать невозможно, и вот опять начинается рассказ об отношениях между коллегами.
Сыщики, солдаты и путешественники (не географы, а именно путешественники) ещё имеют шанс на описание своей работы. Описывается мышечное действие — взмахи косцов или рубка леса, но из этого рождается рассказ, а не книга.
В двадцатые годы прошлого века попыток описания разного труда было довольно много. Да только прочитай поле с пролетарской поэзии труда Пастернака, и всё станет ясно. Посмотрите на этот мир, и — на эти брюки.
Дело не только в знании предмета (в те же двадцатые писатели целыми бригадами уходили на производство — но толку от этого было мало).
Есть другая сторона — кто это будет читать? Читателю интересно действие или переживание. Большая часть текстов о врачах посвящена темам вокруг врачевания, а не самому врачеванию. То есть, "до того" и "после того". Тут потребитель диктует своё. С наукой схожая проблема: это очень хорошо иллюстрирует фильм "Девять дней одного года": что-то щёлкает, жужжит и в гулком помещении происходит Тайна. А потом происходят нескончаемые диалоги (интересные читателю) вокруг науки. При этом я знаю людей, что знали предмет прекрасно.
Геолог Олег Куваев многое понимал в предмете, но читатель может воспринять лишь действие путешественника, опасности, этого путешественника подкарауливающие. А вот то, как герой сидит в камералке и воображает перед собой разломы своей территории, то, где могло накапливаться золото — всего пара страниц, и большого текста на этом не построишь. Большой текст строится на "до" и "после" — интригах в геологическом управлении, приключениях в маршрутах, красоте природы… Или на интригах в больнице, романах между врачами и радости спассшегося от них пациента.
Работу обрамляет множество движений: токарь в промежутках курит с товарищами, ругается с мастером, потом заигрывает с работницей, что привезла ему обтирочные концы и заготовки на грохочущей тележке — это как бы часть работы, но это экспортируемые вовсе человеческие отношения и переживания. А сама работа — некоторая тайна. Описать процесс научного открытия для читателя романа — практически невозможно.
Человек сидит, думает. Потом идёт в парк и тоже думаем. Поэтому и описывают тот сегмент жизни, что "тоже работа" — как учёный курит с товарищами. ругается с директором института и заигрывает с журналисткой, что пришла к нему брать интервью.
Я только сразу скажу, что в комментах творится бум — выкликаются названия производственных романов.
Производственные романы к работе и производству отношения не имеют. Это не "работа", а именно что часть работы.
Причём читать о пилотах интересно только когда в середине романа у самолёта станет отваливаться хвост. Читатель потребляет только истории о нештатных ситуациях.
Чем больше в какой-нибудь человеческой деятельности штатной "нештатности", тем более она литературна.
Часто вспоминают Хейли.
Его романы не собственно исключения. Герои Хейли интересны читателю именно потому, что у него действие всегда происходит во время кризиса, в критических обстоятельствах — будто на войне, когда обычная рутина уходит. В больнице назревает эпидемия, террорист в самолёте, взрыв, падение лифта в гостинице, приехали новые постояльцы, а старые не выехали — нужно что-то делать. То есть, идёт постоянная война, что для обыденной жизни гостиницы или аэропорта не очень характерно. Причём всё это служит поводом описания человеческих отношений — кстати, у Хейли они всегда повторяются: в аварии-взрыве красивая женщина всегда получает увечья, у неё есть любовник, отношения с которым ещё не разрешены. Есть мужчина и женщина, что руководят процессом и тоже выясняют отношения. Это крепкая формульная литература — именно поэтому Хейли хорошо экранизируется, и при этом теряются остатки фактуры. А вот попробуй кто-нибудь описать работу авиационного диспетчера, приёмы концентрации внимания, разговоры с пилотами, его переживания у зелёного экрана. Это почти невозможно.
Это архаические сюжеты — "герой вступает в противоборство с драконом, зная (не зная) о том, что у дракона (у героя) есть уязвимое место…" Великий Пропп и всё такое. Читатель не вынесет "реальной работы", он потребляет подробное и интересное изложение работы в качестве мифа о герое-бизнесмене, который… драконова кровь… то-есть, змей-конкурент… Ну и тому подобное.
Сыщик-путешественник, таксист-врач — это не рассказы о работе, это формы представления архаических сюжетов о столкновении людей.
"Так и выходит, что работа — самое интимное переживание современного человека. "
Извините, если кого обидел.
01 июля 2011
(обратно)
История про Чорного Сталкера
…Селифанов и Петрушин сидели рядом. Вдруг Селифанов, выплыл из какого наркотического трипа, сказал:
— А знаешь кто на самом деле Чорный Сталкер? Знаешь, кто?
Голос у него дрогнул, как обычно бывает у людей, что рассказывают историю не по первому разу, но хотят привлечь к ней особенное внимание.
— А это капитан Рублёв! Петрушин крякнул:
— Какой, нахер, Рублёв! Что ты городишь!
— А вот такой Рублёв, — стукнул Селифанов по столу кулаком. Алик Анкешиев неодобрительно посмотрел в его сторону, но смолчал. Селифанов начал рассказывать.
Повесть о сталкере Рублёве
После знаменитых событий шестого года и прорыва на Киев года, в нашей военно-страховой компании появился капитан Рублёв. Во что он в те чёрные дни вляпался, какая аномалия стала у него на пути, то ли тушканчики объели его по краю, то ли слепые собаки оторвали ему руку и ногу — неизвестно. Однако остался он настоящим героем-инвалидом. Медали, орден от ООН, нашивки за ранения и всё такое.
Но при этом почётная отставка и обычная военная пенсия в две копейки, как если бы он сам себе ногу по пьяни отстрелил. И руку, впрочем, тоже.
Оказалось, что никакого особого бюджета не инвалидов не было выделено, не ясен был и их правовой статус. Правовой статус-то и сейчас не ясен, просто перемёрли все инвалиды по большей части. Итак, не было на капитана Рублёва никакого приказа. А без приказа, может, в армии и может что и случится, а вот в финансовой сфере не может такого случится никогда.
И вот отставной капитан Рублёв, скрипя пневматическими протезами, приезжает к своим родным — а там туда-сюда, отец-пенсионер, мать болеет и денег никаких, кроме продовольственных скидок, не предвидится. У нас ведь как: отставной капитан сразу устраивается в охрану, а какая может быть охрана, когда у человека только левая рука, и дубинку держать неудобно.
Тогда Рублёв поехал по начальству, и завертел известную шарманку: я за вас кровь проливал, я на колчаковских фронтах ранен, имею право на лучшую жизнь, Родина, помнишь ли ты своих героев? А, помнишь? Помнишь, сука? Ну, как только ты начинаешь такие слова произносить, так на тебя и своя охрана находится. Пришлось побираться дальше и выше. Приехал капитан Рублёв в столицу, а там золотые купола, огни неоновых реклам, казино Семирамиды и прочие радости. Пытался квартиру снять, тут-то его военная пенсия и кончилась. На улице просто так и пахнет деньгами, заёдёшь пельмени с соточкой в забегаловке взять, так сдерут прямо как здесь (При этих словах Селифанов воровато оглянулся на барную стойку, но Алик Анкешиев уже ушёл куда-то на кухню, и его место занял бармен Борода).
Начал Рублёв бегать по инстанциям, справки собирать да медалями звенеть. А начальства-то нет, то оно занято, время идёт, деньги кончаются, уж на бритвенные лезвия перестало хватать, а от пены для бриться капитан Рублёв давно отказался.
Наконец, отправился капитан Рублёв в главный офис, уже не военный, а гражданский, туда где не пластик по стенам, а мрамор, где не обычные лампочки, а энергосберегающие, где перед тем, как цапнуть ручку у двери, нужно сначала в сортир сбегать и руки помыть. А в том сортире тебя ещё обморок хватит, какое мыло там в дозаторе, да какие зеркала.
Капитан Рублёв сел в приёмной, проходит час, другой, охрана в «тетрис» играет, народу вокруг набежало, причём не простого, а в орденах — у кого звезда «Меценат года», у кого «За достоинство предпринимателя» на пузе горит. Тут и хозяин вышел. Ну… можете представить себе: государственный человек! Подходит к одному, к другому и ласково так спрашивает: «Чё? Как? Зачем вы?».
Добрался и до Рублёва, а тот ему, собравшись с духом и говорит: «Так и так, проливал кровь, пять ранений, в глаза кровососу глядел, слепые собаки моё тело рвали, пенсия маленькая. Спасите-помогите». Хозяин поглядел — всё правда, и справки в искусственной руке дрожат на сквозняке.
— Хорошо, — говорит, — зайдите завтра.
Капитан Рублёв радостный ушёл, нажрался, будто дело сделано, а через два дня снова в офис. Там говорят, что надо ещё подождать, а куда ждать, если уже и бритвенные лезвия кончились.
Потом и вовсе его в приёмную пускать не стали — охранник сразу перед ним турникет запирал.
Наконец капитан начал кричать у подъезда, как самый настоящий диссидент.
— Спасите-помогите!
Это дело увидел важный человек-с-мигалкой и говорит:
— Ведь сказал я уже вам: ждите, не сегодня.
Слово за слово, разговор стал накаляться, Рублёву говорят, что бюджеты не подписаны, а он гнёт, что кровь поливал. Ему — что кризис, а он, что товарищи, съеденные и недоеденные, по Зоне лежат.
Ему так:
— Сами пока поищите себе средств к существованию!
А он такой:
— А я здесь пенсии ждать буду!
Не нашли понимания.
Вызвали охрану, потащили к выходу, да и выкинули в сугроб.
— Ну и ладно, — тогда заорал капитан Рублёв прямо в камеру видеонаблюдения. — Сам найду себе средство! Сказали — средство, будет вам средство! Существованию? Будет мне к существованию! Уж найду себе кусок хлеба, чё!».
И пропал капитан Рублёв, будто его и не было. Так, понимаете, и слухи о нём канули в реку забвения, в Лету, как выражался покойный поэт Доризо. Итак, куда делся Рублёв, неизвестно; но не прошло, и двух месяцев, как появилась у нас тут на Зоне группировка Чорного Сталкера и паханом там был не кто другой…
— Да что за хрень ты городишь, — не утерпел Петрушин, — группировки такой нет. «Чёрная кошка» — была, да вся, как один, в болоте сгинула. Анархисты из «Чорного передела» пытались тут бомбу из «ведьминого студня собрать, да их всех, как один повязали. «Белые Сталкеры» были, да это оказалось подразделение «Долга», вот и всё.
Селифанов как-то растерялся, но тут же вывернулся, говоря, что это нам ещё неизвестно, и если полицейские нам дадут почитать сводки, то там про Чорного Сталкера всё будет, всё там написано, и про искусственные руки и ноги в качестве примет — тоже.
Но тут Борода, всё слышавший, обидно заржал, да и все остальные тоже. Селифанов крепился-крепился, да и стал смеяться вместе со всеми.
Извините, если кого обидел.
01 июля 2011
(обратно)
История про ЛЕФ
История ЛЕФа, как ни странно, не описана. Тол есть, существуют тысячи книг, и, наверно, сотни фильмов, посвящённых его членам, а спроси обывателя, что такое был ЛЕФ — так скажут, что это — Маяковский
Оно, конечно, верно — говорим «Ленин», а подразумеваем «Партия».
И про Маяковского — верно.
И обыватель чуть более просвещённый назовёт имена Бриков и Шкловского, Родченко и Степановой.
Но вот классический пути литературного течения, что собирается преобразовать мир, или, на худой конец, перевернуть искусство, требует художественного описания.
Классический путь это всегда начало в узком кругу, группа единомышленников, что собирает в гараже автомобиль, самолёт или компьютер. Потом они поднимаются выше и случаются первые ссоры.
Затем вокруг них формируется армия сторонников, и вот они уже — сила.
Потом армия терпит поражение. Или нет, она не терпит поражения, а просто вожди покупают себе новые мундиры и зачищают приближённых. Волнами ложится в волчьи ямы комсостав, а вожди канонизируются после похорон. Мемуары становятся одинаковыми, потому что сладкий хлеб победы общего дела сплачивает бывших врагов.
"Благо было тем, кто псами лег в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами, со звонкими рыжими баками"!
Если армия разбита, то пришедшие из плена пишут оправдательные и обвинительные мемуары.
Есть таки е мемуары Елизаветы Лавинской
[59] о Маяковском.
Зиновий Паперный про них писал: «Во главе Дома-Музея стояла Агния Семеновна Езерская, до этого заведовавшая каким-то артиллерийским музеем. В Музей Маяковского она перешла по распоряжению Надежды Константиновны Крупской, занимавшей руководящую должность в Наркомате просвещения. Так что Маяковским Агния Семеновна занималась не по призванию, а по указанию. Была у нее заместительница — серьезно увлеченная творчеством поэта исследовательница Надежда Васильевна Реформатская. Обе были в то время, о котором я хочу сказать, седые, солидные. У Агнии Семеновны — лицо решительное, властное, не терпящее возражений, у Надежды Васильевны, наоборот, приятный, интеллигентный вид.
И вот Лиля Юрьевна узнает, что Агния Семеновна купила для музея рукопись воспоминаний, где весьма неприглядно рисуются Брики как пара, во всем чуждая Маяковскому. Если я не ошибаюсь, автор — художница Елизавета Лавинская, подруга сестры поэта Людмилы Владимировны.
Между тем, директриса приглашает в музей Лилю Брик — поделиться воспоминаниями о Маяковском. Сотрудники слушают в полной тишине, все взволнованы. Но вот Лиля Брик кончила читать вслух свою тетрадь. Все молчат — растроганы услышанным. В глазах у некоторых сотрудниц слезы. Как говорится, тихий ангел пролетел…
Но тут Лиля Юрьевна, как бы случайно вспомнив, обращается к директрисе:
— Агния Семеновна, хочу вас спросить: зачем Вы покупаете явно лживые, клеветнические мемуары?
— Я знаю, что Вы имеете в виду. Но, уверяю Вас, это находится в закрытом хранении, никто не читает.
Лиля Юрьевна заявляет, отчетливо произнося каждое слово:
— Представьте себе на минуту, Агния Семеновна, что я купила воспоминания о Вас, где утверждалось бы, что Вы — проститутка, но я бы обещала это никому не показывать. Понравилось бы Вам?
Вступает Надежда Васильевна:
— Простите, Лиля Юрьевна, Вы не совсем правы.
— Ах, не права? Или Вы, Надежда Васильевна, воображаете: в воспоминаниях говорилось бы, что Вы…
И Лиля Брик произносит те же слова второй раз. Затем она приветливо прощается со всеми, и мы втроем — с ней и Катаняном, как было условлено, едем к ним домой».
Лили Уриевна, конечно, придирчиво относилась к самой себе в изображении потомков и современников, и, действительно Лавинская писала и о ней, и о моральной стороне дела довольно резко: «А вся неразбериха, уродливость в вопросах быта, морали? Ревность — «буржуазный предрассудок». «Жены, дружите с возлюбленными своих мужей». «Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует своей жене своих товарищей». Нормальная семья расценивалась как некая мещанская ограниченность. Все это проводилось в жизнь Лилей Юрьевной и получало идеологическое подкрепление в теориях Осипа Максимовича».
[60]
Но куда интереснее, что она писала о самом ЛЕФе — однако, надо понимать, что это воспоминания солдата разбитой армии. Наполеон покинул Египет и бросил войска, можно представить, что он напишет.
Не всякий брошенный солдат верен императору.
«И у меня так: из-за Лефа, из-за Брика вся жизнь на слом; каким огромным трудом далось даже переключение на графику. Ведь Лавинский, Родченко и остальные хоть в прошлом прошли какую-то школу, а наше поколение митинговало, отрицало и научилось в конце концов на практике одному оформительству. Но и в эти горькие минуты сознание того, что благодаря Лефу я знала, я так часто слышала, я была большой отрезок времени около Маяковского, как-то зачеркивает бесцельные угрызения: «могло быть иначе». Да, безусловно, могло бы быть иначе, если в 1923–1924 годах я умела бы немного самостоятельно мыслить…
… В 1930 году, уже после смерти Маяковского, Асеев сказал нам — Антону и мне:
— Вы, художники, были дураки, нужно было ломать чужое искусство, а не свое.
Помню, эта фраза потрясла меня своим цинизмом, но потом я поняла, что это была именно фраза: в тот период ничего подобного Асеев не думал и совершенно искренне сам громил живопись и скульптуру, воспевая фотомонтаж»
[61].
При этом становится понятно, что Осип Брик настоящий генератор идей, которые во многом были провидческие, но и цена у них оказалась соответственной.
Извините, если кого обидел.
04 июля 2011
(обратно)
История про ЛЕФ
История ЛЕФа, как ни странно, не описана. Тол есть, существуют тысячи книг, и, наверно, сотни фильмов, посвящённых его членам, а спроси обывателя, что такое был ЛЕФ — так скажут, что это — Маяковский.
Оно, конечно, верно — говорим «Ленин», а подразумеваем «Партия».
И про Маяковского — верно.
И обыватель чуть более просвещённый назовёт имена Бриков и Шкловского, Родченко и Степановой.
Но вот классический пути литературного течения, что собирается преобразовать мир, или, на худой конец, перевернуть искусство, требует художественного описания.
Классический путь это всегда начало в узком кругу, группа единомышленников, что собирает в гараже автомобиль, самолёт или компьютер. Потом они поднимаются выше и случаются первые ссоры.
Затем вокруг них формируется армия сторонников, и вот они уже — сила.
Потом армия терпит поражение. Или нет, она не терпит поражения, а просто вожди покупают себе новые мундиры и зачищают приближённых. Волнами ложится в волчьи ямы комсостав, а вожди канонизируются после похорон. Мемуары становятся одинаковыми, потому что сладкий хлеб победы общего дела сплачивает бывших врагов.
"Благо было тем, кто псами лег в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами, со звонкими рыжими баками"!
Если армия разбита, то пришедшие из плена пишут оправдательные и обвинительные мемуары.
Есть такие мемуары Елизаветы Лавинской
[62] о Маяковском.
Зиновий Паперный про них писал: «Во главе Дома-Музея стояла Агния Семеновна Езерская, до этого заведовавшая каким-то артиллерийским музеем. В Музей Маяковского она перешла по распоряжению Надежды Константиновны Крупской, занимавшей руководящую должность в Наркомате просвещения. Так что Маяковским Агния Семеновна занималась не по призванию, а по указанию. Была у нее заместительница — серьезно увлеченная творчеством поэта исследовательница Надежда Васильевна Реформатская. Обе были в то время, о котором я хочу сказать, седые, солидные. У Агнии Семеновны — лицо решительное, властное, не терпящее возражений, у Надежды Васильевны, наоборот, приятный, интеллигентный вид.
И вот Лиля Юрьевна узнает, что Агния Семеновна купила для музея рукопись воспоминаний, где весьма неприглядно рисуются Брики как пара, во всем чуждая Маяковскому. Если я не ошибаюсь, автор — художница Елизавета Лавинская, подруга сестры поэта Людмилы Владимировны.
Между тем, директриса приглашает в музей Лилю Брик — поделиться воспоминаниями о Маяковском. Сотрудники слушают в полной тишине, все взволнованы. Но вот Лиля Брик кончила читать вслух свою тетрадь. Все молчат — растроганы услышанным. В глазах у некоторых сотрудниц слезы. Как говорится, тихий ангел пролетел…
Но тут Лиля Юрьевна, как бы случайно вспомнив, обращается к директрисе:
— Агния Семеновна, хочу вас спросить: зачем Вы покупаете явно лживые, клеветнические мемуары?
— Я знаю, что Вы имеете в виду. Но, уверяю Вас, это находится в закрытом хранении, никто не читает.
Лиля Юрьевна заявляет, отчетливо произнося каждое слово:
— Представьте себе на минуту, Агния Семеновна, что я купила воспоминания о Вас, где утверждалось бы, что Вы — проститутка, но я бы обещала это никому не показывать. Понравилось бы Вам?
Вступает Надежда Васильевна:
— Простите, Лиля Юрьевна, Вы не совсем правы.
— Ах, не права? Или Вы, Надежда Васильевна, воображаете: в воспоминаниях говорилось бы, что Вы…
И Лиля Брик произносит те же слова второй раз. Затем она приветливо прощается со всеми, и мы втроем — с ней и Катаняном, как было условлено, едем к ним домой».
Лили Уриевна, конечно, придирчиво относилась к самой себе в изображении потомков и современников, и, действительно Лавинская писала и о ней, и о моральной стороне дела довольно резко: «А вся неразбериха, уродливость в вопросах быта, морали? Ревность — «буржуазный предрассудок». «Жены, дружите с возлюбленными своих мужей». «Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует своей жене своих товарищей». Нормальная семья расценивалась как некая мещанская ограниченность. Все это проводилось в жизнь Лилей Юрьевной и получало идеологическое подкрепление в теориях Осипа Максимовича».
Но куда интереснее, что она писала о самом ЛЕФе — однако, надо понимать, что это воспоминания солдата разбитой армии. Наполеон покинул Египет и бросил войска, можно представить, что он напишет.
Не всякий брошенный солдат верен императору.
«И у меня так: из-за Лефа, из-за Брика вся жизнь на слом; каким огромным трудом далось даже переключение на графику. Ведь Лавинский, Родченко и остальные хоть в прошлом прошли какую-то школу, а наше поколение митинговало, отрицало и научилось в конце концов на практике одному оформительству. Но и в эти горькие минуты сознание того, что благодаря Лефу я знала, я так часто слышала, я была большой отрезок времени около Маяковского, как-то зачеркивает бесцельные угрызения: «могло быть иначе». Да, безусловно, могло бы быть иначе, если в 1923–1924 годах я умела бы немного самостоятельно мыслить…
… В 1930 году, уже после смерти Маяковского, Асеев сказал нам — Антону и мне:
— Вы, художники, были дураки, нужно было ломать чужое искусство, а не свое.
Помню, эта фраза потрясла меня своим цинизмом, но потом я поняла, что это была именно фраза: в тот период ничего подобного Асеев не думал и совершенно искренне сам громил живопись и скульптуру, воспевая фотомонтаж»
При этом становится понятно, что Осип Брик настоящий генератор идей, которые во многом были провидческие, но и цена у них оказалась соответственной.
Извините, если кого обидел.
04 июля 2011
(обратно)
История про Ивана Купалу
XIII
Слово о том, что неочевидное бывает очевидным, ориентиры видны, задачи — определены, и дело только за тем, чтобы кому-нибудь принять на себя ответственность
— Да, дела… — сказал Синдерюшкин, ощупывая то, что осталось от удочек. — Странные тут места, без поклёвки. Хотя я другие видел, так там вообще…
Вот, например, есть у меня дружок, специалист по донкам — он как-то поехал на озёра, заплутал и уже в темноте у какого-то мостика остановился. Смотрит, а там кролик сидит — огромный, жирный. Ну, думает, привезу жене кроля вместо рыбы — тоже хорошо.
Кроль с места и не сходит, дружок мой быстро его поймал — как барана. Посадил на сиденье с собой рядом, только тронулся, а кролик рот раскрыл и блеять начал: «Бя-я-яша, бя-я-яша», говорит. Тьфу!
— И что? — с интересом спросил я.
— Дрянь кролик, жёсткий. Видно, какой-то химией питался. Никому не понравилось.
— Да ладно с ними, с кроликами! Пока не дошли до места, нечего о еде говорить. — Рудаков был недоволен. — С другой стороны, наверное, надо искупаться. В Ивана Купалу надо купаться, а то — что ж? Почему не купаться, а? Говорят, вода особая этой ночью.
— Да что тебя всё тянет купаться? — возмутился Синдерюшкин. — Что за мания такая? Знаешь, что было с альпинистами в Шамбале? Знаешь, да?
— В какой такой Шамбале?
— В обыкновенной тибетской Шамбале.
— Ну и что? Что?
— Они купались в священном озере.
— И что?
— И вот!
— Ну и что потом стало с этими альпинистами?
— Ну, они вошли в священное озеро и начали в нём купаться, некоторые намылились, кто-то стал бриться… Но они не понимали, что всё уже началось.
— Что началось?
— Всё началось.
— И что, они утонули?
— Да нет…
— Умерли, спустившись с гор?
— Да нет, не умерли, но жизнь у них совсем дрянная стала, что не приведи никому.
— Тьфу, — сплюнул Рудаков.
— А я всё-таки не верю в чудеса. — Гольденмауэр не мог не показать своей непреклонности. — Ничего особенного не происходит, а все как-то приуныли.
— Вода… Чудеса… Не верю — вот и всё.
— А кто верит? Это ж не чудеса, а срам один! — Синдерюшкин встал, будто старец-пророк, и стукнул в землю удилищем. — Срам! А как заповедовал нам игумен Памфил, «Егда бо придет самый праздник Рождество Предотечево, тогда во святую ту нощь мало не весь град возмятется, и в седах возбесятца в бубны и сопели и гудением струнным, и всякими неподобными играми сотонинскими, плесканием и плясанием, жёнам же и девам и главами киванием и устами их неприязен клич, все скверные бесовские песни, и хрептом их вихляния, и ногам их скакания и топтаниа, ту есть мужем и отрокам великое падение, ту есть на женско и девичье шептание блудное им воззрение, тако есть и жёнам мужатым осквернение и девам растлениа».
Мы с Рудаковым хором сказали: «Аминь!». Мы сказали это не сговариваясь, просто это как-то так получилось — совершенно непонятно от чего. И непонятно было, откуда у Синдерюшкина взялся этот пафос. Откуда взялась эта речь, напоминавшая больше не обличение, а тост и программу действий. И отчего, наконец, он ничего не сказал про рыб?
— Слушай, — пихнули мы в бок Гольденмауэра, забыв прежнее наше к нему недоверие. — Слушай, а всё-таки, когда эти страсти-мордасти творятся? Ведь календарь перенесли, большевики у Господа две недели украли и всё такое. Но ведь природу календарём не обманешь — барин выйдет в лес — лешие схарчат, парубок за счастьем полезет — погибель, так и, страшно сказать, комиссар в кожаной тужурке не убережётся. Надо ж знать корень родной земли. А?
Рассудительный Гольденмауэр объяснил дело так:
— Вот глядите: летнее солнцестояние всё едино — в чёрный день двадцать второго июня.
— А правда, что Бонапарт-антихрист к нам тоже двадцать второго ломанулся? — тут же влез Рудаков.
— Нет, неправда. Двенадцатого или двадцать четвёртого — в зависимости от стиля.
— Так вот, одно дело — летнее солнцестояние, которое тоже не совсем в полночь или полдень бывает, другое — Иванов день, что после Аграфены (на Аграфёну, как говорили — коли гречиха мала, овсу порост) идёт — он по новому стилю седьмого числа. Теперь смотрите, есть ещё языческий праздник — если полнолуние далеко от солнцестояния, — то справляется Купала в солнцестояние, а если расходится на неделю примерно, то делается между ними соответствие. Так что Купала у язычников бескнижных был праздником переходящим.
Он посмотрел на Рудакова и зачем-то добавил:
— Как День геолога.
Синдерюшкин внимательно глянул на Лёню и требовательно сказал:
— Так настоящая Купала-то когда?
— Нет, ты не понял, на этот счёт существуют два мнения, а вернее, три. Смотря что понимать под Купалой. Знаешь, кстати, что «Купала» от слова «кипеть»?
— Ты докурил? — хмуро спросил Рудаков Синдерюшкина.
— Да. А ты?
— Ну. — Рудаков загасил бычок, огляделся и решил не сорить. Ну его к лешему. Неизвестно с лешим там что. С таким немцем, как Гольденмауэр, никакой леший не нужен. Ишь, коли гречиха мала, овсу порост.
Мы пошли по расширившейся дороге. Под ногами были твёрдые накатанные колеи, ногам было просторно, а душе тесно — так можно было бы идти вечно или, иначе сказать, — до самой пенсии.
Однако для порядку мы спрашивали нашего поводыря:
— Эй, Сусанин, далеко ли до Евсюкова?
— Да скоро.
Мы верили Рудакову, потому что больше верить было некому.
— Трактор, точно, трактор — к трактору, а дальше — рукой подать.
Наконец мы остановились на привал и по-доброму обступили Рудакова. Так, правда, обступили, чтобы он не вырвался. Мы спросили Рудакова просто:
— А ты давно у Евсюкова был? Давно трактор-то этот видел?
Он задумался.
— Да лет шесть назад.
— А-а-а, — понимающе закивали головами все.
— Тю-ю, — сказал затем Синдерюшкин.
— Ага, — молвил Гольденмауэр.
— О! — только-то и сказал я.
А мосластая ничего не сказала.
Она, вместо того чтобы выразить своё отношение к этой возмутительной истории, начала показывать нам за спину. Там, у края поляны, на повороте стоял трактор. Он представлял собой довольно жалкое зрелище. Одно колесо у него было снято, стёкла отсутствовали, а из мотора торчал скорбный металлический потрох. Да и на трактор был он не очень похож. Тем более что на единственной дверце было написано совершенно другое название — короткое и ёмкое.
Извините, если кого обидел.
05 июля 2011
(обратно)
class='book'>
История про разные предложения
Меня, кстати, тоже не в капусте нашли, я тоже получаю письма с заманчивыми предложениями. Вот, к примеру: "Владимир, добрый день! Я представляю интересы кинокомпании «XXX Крекс-пекс-фекс».
Мы приглашаем Вас поучаствовать в спецпоказе фильма «Восстание планеты обезьян». Специально для блоггеров будет закрытый показ по отрывкам из фильма «Восстание планеты обезьян».
После просмотра Вы размещаете информацию про просмотренные отрывки у себя в блоге http://berezin.livejournal.com/profile, добавляете трейлер и объявляете конкурс на лучший комментарий к посту. Победитель получит вот такую футблоку: (тут была нарисована довольно дурацкая футболка)
Выбрать победителя Вы можете по своему субъективному мнению.
Пожалуйста, как можно скорее подтвердите получение письма и интересует ли вас данное предложение?
Спасибо. С уважением, менеджер по всяким таким штукам Такая-то".
Я жутко вежливый, и ужасно люблю, когда мне пишут красивые девушки (а это как раз такой случай). Конечно надо было подтвердить получение (это обычно делает за меня мудрёная программа Bat, но тут уж технике доверия нет.
Я и ответил:
"Дорогая Такая-то! Должен вам сказать, что я действительно люблю весёлые мероприятия (Хотя я и понятия не имею, что именно за фильм вы двигаете в широкие народные массы — вдруг это совершенно невесело).
Однако обычно я пишу честную рецензию на то, что видел. Вообще, докладывать человечеству, что и как я видел — единственное, что я умею. Мне кажется, что именно этим я могу быть полезен обществу и устроителям всякого рода мероприятий.
Что до конкурса, то мне он представляется довольно странным.
Вообще, то что вы предлагаете — нормальная работа промоутера.
Но если это предложение о работе, то оно сделано довольно странно — из него выходит, что высшей наградой людям бывает вывешивание в своих блогах каких-то трейлеров, просмотр не фильма, а каких-то "фрагментов", и чтение чужих комментариев, чтобы дать их авторам возможность получить футболку.
Мой долг сообщить вам, что это не так, или, по крайней мере, не общее желание. Мир довольно прагматичен, зато прост.
Награды там вовсе не такие.
И идеи не такие тоже — то есть, идеи, ради которых люди бросаются что-то делать.
Дай Бог здоровья и денег побольше. Искренне ваш".
Извините, если кого обидел.
05 июля 2011
(обратно)
История про купальскую ночь
XX
Слово о том, что, отправившись к воде, можно вернуться с пересохшим горлом
Перед нами спускались с обрыва Рудаков и Гольденмауэр. Они шли, обнявшись, как мистический и несбыточный символ интернационализма. За ними порхала мосластая подруга Лёни. Пыхтел Синдерюшкин, на всякий случай взявший с собой удилище.
Перед тем как войти в воду, я воткнул трубку в зубы и закурил. Дым стлался над водой, и странный свет бушевал в небесах. Зарницы следовали одна за одной, и я понимал, что уж что-что, а это место и время я вряд ли забуду.
Стоя в чёрной недвижной реке по грудь, я прислушивался к уханью и шлепкам.
Где-то в тумане плескались мои конфиденты. Они напоминали детей-детдомовцев, спасшихся от пожара. Постылый дом-тюрьма сгорел, и теперь можно скитаться по свету, веселиться и ночевать в асфальтовых котлах. Молча резал воду сосредоточенный Рудаков, повизгивала Мявочка, хрюкал Кричалкин, гнал волну Гольденмауэр, а Синдерюшкин размахивал удилищем.
Я вылез из воды первый и натянул штаны на мокрое тело, продолжая чадить трубкой. Рядом со мной остановилась мосластая и, когда догорел табак, предложила не ждать остальных и идти обратно.
Мы поднимались по тропинке, но вышли отчего-то не к воротам евсюковской дачи, а на странную полянку в лесу. Теперь я понял — мы свернули от реки как раз туда, куда Евсюков не советовал нам ходить — к тому месту, где он кидал сор, дрязг и прочий мусор.
Нехорошо стало у меня на душе. Мокро и грязно стало у меня на душе. Стукнул мне под дых кулак предчувствий и недобрых ощущений.
То ли светлячок, то ли намогильная свечка мерцала в темноте.
Луна куда-то пропала — лишь светлое пятно сияло через лёгкие стремительные тучи.
Тут я сообразил, что мосластая идёт совершенно голая и одеваться, видимо, не собирается. Да и казалась она теперь совершенно не мосластой. Как-то она налилась и выглядела если не как кустодиевская тётка, то почти что как известная заграничная актриса Памела Андерсон.
— Что, папортн… папоротник искать будем? — натужно улыбаясь, спросил я.
— Конечно! — совсем не натужной, но очень нехорошей улыбкой ответила мне бывшая подруга Лёни Гольденмауэра.
— Но сейчас не полночь? — ещё сопротивлялся я.
— Милый, ты забыл о переводе времени.
Я уже стал милым, а значит, от неприятностей было не отвертеться.
Достал я снова табак и трубку, табак был хороший, ароматный, но спутница моя вдруг чихнула так сильно, что присела на корточки. Эхо отозвалось будто бы во всём лесу, чихнуло сбоку, сзади, где-то далеко впереди.
Я устыдился, но всё-таки закурил.
И мне показалось, что стою я не в пустынном лесу, пусть даже и с красивой голой бабой рядом, а на вокзале — потому что всё копошится вокруг меня, рассматривает, и понял тогда, как ужасно, видать, обжиматься и пихаться на Красной площади — действительно замучают советами.
Свет становился ярче, и наконец очутились мы на краю поляны. Мы были там не одни — посередине сидели два уже виденных мной ботаника, между ними лежал огромный гроссбух. Один ботаник водил пальцем по строчкам, а другой держал в руках огромный хвощ и искал глазами источник света.
Моя спутница погрозила им пальчиком.
— Люли-люли, на вас нюни, — строго сказала она.
И два ботаника сразу пожухли как ботва, да и трава у них в руках обвисла.
Теперь я понял, что значило на самом деле выражение «иметь довольно бледный вид». Ботаники его приобрели мгновенно, правда, были этим не очень довольны.
Бывшая мосластая сделала короткое движение, налетел ветер, и обоих ботаников как ветром сдуло, как рукой сняло.
— Бу-бу-бу, — доносилось из-под пня.
— Э-эээ-эээ-э… — блеяло с макушки берёзы.
Высунулись, казалось, какие-то лица и морды из кустов и высокой травы. Да что там лица — хари какие-то просунулись отовсюду — огромные, страшные.
И увидел я впереди свет, и пошёл на него, спотыкаясь и дыша тяжело и хрипло.
— Не рыдай мене мати, — печально сказала мосластая. — Мать моя…
Я с удивлением понял, что совершенно не знаю, как её зовут по имени.
— Кто мать твоя?
— Мать — сыра земля. Вот образованный человек, а таких вещей не знаете. Вот вы ведь писатель? А скажите, как правильно говорить: папортник или папоротник?
Язык застрял у меня во рту.
— Прп… Парпртк… Парпортнк…
Я ещё что-то добавил, но уже совсем неслышно.
И тут тонкий луч ударил мне в глаза, кто-то светил в лицо, будто ночная стража. Светляком-мутантом горела в траве яркая звезда. Я протянул руку, дёрнул, за светлячком потянулся стебель… И вот в руке остался у меня мокрый бархатный цветок. Сразу же зашептало, заголосило всё вокруг — точно как на Красной площади в час минувших парадов. Рыкнуло, покатилось по рядам тысяч существ какое-то неприличное слово, забормотала своё трава, вторили ей камни и кусты.
И я познал их языки, но, к несчастью, одновременно я узнал столько всего о своей неустроенной жизни, что впору было попросить осину склонить пониже ветку и выпростать ремень из штанов.
Говор не умолкал, слышны были разговоры и живых и мёртвых, копошился какой-то Бобик под землёй, уныло и скучно ругались мертвецы на недавнем кладбище — что лучше: иметь крест в ногах или в изголовье, рассказывала свою историю селёдочная голова, неизвестно на что жаловался бараний шашлык, и мёртвый кролик бормотал что-то: хню-хню, хрр, хню-хню — то ли он вспоминал о поре любви, то ли о сочном корме, но в голосе его уже не было смертного ужаса.
Ужас был во мне, он наполнил меня и приподымал вверх, как воздушный шар.
В этот момент женщина положила руки мне на плечи. Она обняла меня всего, её губы были везде, трогательная ямочка на подзатыльнике выжимала у меня слезу, и я с удивлением увидел, что моё естество оказалось напряжено. Да и она сильно удивилась моей сексуальной силе, даря мне горячие поцелуи в лоб и лицо. Было видно, что она обожала секс и не ограничивалась никакими рамками, но от её тела пахло чистотой и страстью одновременно. Нежно вскрикнув, она стала смыкать свои руки у меня на спине, экстатически повизгивая. Иногда она наклонялась вперёд, потираясь своими упругими арбузными грудями о мои и одаривая мои лицо и губы поцелуями благодарности и надежды. По всему было видно, что к ней пришёл прилив страстного желания соития и что она заметно нервирует от желания. Я был безумно возбуждён от её интимных вздохов наслаждения, как и от приятного ощущения обволакивания мягкими тканями. От всего этого я быстро потерял контроль, что меня насторожило.
«Лолита, Лорка, Лорелея», — пронеслось у меня в голове…
Извините, если кого обидел.
06 июля 2011
(обратно)
История про летние чудеса
…«КамАз» загнали во двор, а сами принялись пить, потом оказалось, что братаны привезли девок — страсть каких некрасивых, но жуть каких дорогих.
Начали плясать — девки на столах, а братки под столами ногами сучили.
Мы Очкастого не узнавали — видать, было у него такое бандитское прошлое, что никакими очками не прикроешь.
— Ламбада, ламбада! — орали братки.
Петруша тут и говорит: «Кот из дома, мыши — в пляс». Потому как при Исае Митриче Очкастый не только не плясал, но и вовсе не улыбался. А мы были простые бойцы, но вполне прекрасно понимали эту забаву начальников. А начнут паны веселиться — так берегись. Сиди лучше в уголку, забейся в какую-нибудь щель, да и гляди. За просмотр денег не берут, но поймавши — тыздят.
Очкастый стал двигать локтями, будто не танец перестройки «Ламбада» плясал, а шваркнуло его электрическим током из известной аномалии. Девки в высоких сапогах о ноги его тёрлись срамными местами, как вдруг он упал. Затем опять упал.
При этом Очкастый стал орать, что тут под полом аномалия, что всё это наваждение, и Зона неспокойна.
Ну, плавали — знаем, плохому танцору известно, что мешает: аномалия. А под полом у нас не сортирная труба в биологический отстойник, а старое индейское кладбище, каким нас пугает американский писатель Кинг.
Но поскольку все напились, а некоторые даже перестали в туалет бегать, чтобы свои линии занюхать, так Очкастого пару раз уронили на пол, и уж точно один раз — нарочно.
Тогда мы ничего не могли понять, вернее — тогда мы ничему не удивились.
Это уж когда Очкастый нас собрал после всего, так и рассказал:
— Дело табак, у меня глюки или что. Потому что, когда я «Ламбаду» плясал, то провалился в пространственный пузырь, и оказался безо всякой защиты и оружия на Зоне, причём километрах в десяти, у заброшенных совхозных теплиц.
Я Очкастого слушал из вежливости, но тут навострил уши. Потому что он совхоз имени Двадцатого партсъезда так художественно описывал, что я сразу узнал место. Я мимо теплиц как раз накануне ходил — там дыни тогда росли метра два в длину. Есть их, конечно, нельзя, но сила какая эпическая! Они ведь и зимой росли — мороз, снег, а дыни эти снег вокруг себя растопят, пар от них идёт, чисто гигантские яйца. В них ради интереса пуляли — так зимой ничего, а летом из них целый рой насекомых вылетал. В общем, есть нельзя — одно понятно.
Ну и Очкастый очень точно это место описывал, а я ведь знаю, что он на Зону не ходит, что он чистый барыга. А по рассказу выходит, что он моментом перенёсся к теплицам, и с ним эти дыни разговаривают.
Ржут дыни над очкастым, прямо как в иностранный праздник Хелловин. Эээ… Нет, в этом празднике были тыквы, а тут мы все знали, что именно всепогодные дыни растут.
Ну, стоит Очкастый, бздит. Тыквы ржут — нам-то понятно, что он перед «Ламбадой» две дороги затянул.
А Очкастый продолжает рассказывать, что, дескать, он ждал-ждал, и понял, что надо выбираться самому. Оглянулся, а вокруг уже не теплиц, ни тыкв, не городских девок, которых как картошку на грузовике привезли, а гладкое поле.
— Э! Йопта… Вот тебе на! — так это нам Очкастый рассказывает. Тогда начал он прищуривать глаза — место, говорит, не совсем незнакомое: сбоку лес, из-за леса торчал шест ретранслятора с лампочкой, который виднеется далеко в небе, но находится он по ту сторону Периметра, около расположения спецбатальона ООН. Что за хрень! Да это точно ООНовский батальон! А с другой стороны тоже что-то сереет; вгляделся: это наш бар — где девки ещё пляшут, братва гуляет и всё такое. Вот куда затащила Зона! Потоптавшись, наткнулся он на тропинку. Луны не было; белое пятно виднелось вместо неё сквозь тучу. «…! …! И ствола-то у меня нет!» — подумал Очкастый.
Тут ещё, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка. Я эту могилку знал давно, все её знали — никакая это была не могилка. Это была пирамидка Неизвестному Сталкеру, которую ещё при Советской власти поставили.
Нормальная такая пирамидка, как на кладбищах солдатам ставили — высотой метра два, а на макушке красная звезда, которую сварным аппаратом вырезали из стального листа.
Говорят, что сталкер был вполне известный, именно поэтому его безутешные родители подвалили сюда и за бешеные деньги поставили памятник. Фокус был в том, что могилы под ним не было, памятник поставили там, куда дотянулись. Старики завещали пирамидку холить и лелеять, да только больше не появились, видно померли.
Сталкер «Чекист», в миру Дима Силантьев, которому старики выдали денег впрок сначала честно исполнил обещание — на следующее лето покрасил пирамидку белым цветом, да вот беда — Дима закрасил имя, фамилию и отчество безвестного страдальца. Ну дальше и пошло: некоторые вовсе считали, что это могила Неизвестного солдата, убитого немцами ещё в 1943 году.
Суеверные сталкеры приносили ему ханку, а на Пасху — незалупленное яичко.
И вот тут Очкастый видит не яйцо, а зажженную свечку, не светодиод какой, а нормальную свечку на могиле, что пламя то и дело на бок кладёт, а оно всё же не гаснет.
Он с пьяных-то глаз подождал, огонёк пропал, но загорелся вдали другой.
— Схрон! — закричал Очкастый. — Япона мама, схрон! Сталкеры маячок на схроне с хабаром поставили! Он решил обвеховать место, воткнул какую-то ветку, и пошёл на огни нашего бара.
Вот чудной человек! Столько нас обирал, столько на нас наживался, столько наших историй и объяснений слушал, а не понял, как Зона крутит человеком, и не почуял, как начала она играть с ним в свои недетские игры.
Пошёл он обратно. Молодой дубовый лес, что подрос тут уже после аварии, стал редеть, показалась сетка-рабица вокруг бара, на которую от непрошенной мелкой нечисти подавали ток, вот и дверь.
Как он открыл дверь, Очкастый не помнил. Но ощутил себя уже посредине бара, девки куда-то подевались, а он сидит, привалившись к барной стойке с внешней стороны, и кажется, только что блевал.
Причём поредевшая братва и говорит:
— А чо ты, Очкастый, учудил? Отчего без сознания тут валялся?
— Не спрашивай, — ответил он браткам, а нам всё случившееся сперва не стал рассказывать.
Выпросил снарягу и всё такое, вооружился и пошёл к могиле Неизвестного Сталкера.
Миновал и ограду, пролез и через дырки в минных полях, через них разве глупый кабан не пролезет, и вот вошёл в низенький дубовый лес. Там между деревьев вьется дорожка и выходит в поле — кажись, та самая. Вышел на опушку — место точь-в-точь вчерашнее: вон и ретранслятор торчит, но бара нашего не видно. Дошёл до поворота, откуда наш бар видать, так ретранслятор пропал. Не видно ретранслятора, так он двинул к ретранслятору, бар скрылся.
Он плюнул и стал по ПДА вычислять могилу Неизвестного Сталкера. Мы бы его провели, но так ведь Зона его жадностью крутила.
Тут и дождь пошёл, как будто из ведра.
Так он и вернулся, переоделся и забился к себе на склад, в свою комнатку-нору.
Причём матерился он такими словами, что некоторые из братков, имевшие по три ходки и все туловища в эпических наколках, повествующих о срамной и горькой их жизни, краснели. Мы сразу поняли, что у него там не заладилось.
На другой день я проснулся и смотрю: Очкастый снова на Зону собирается. Космоснимки себе распечатал, опять вооружился до зубов, да и слинял.
Вернулся он только вечером. Оказалось, что Очкастый всё же дошёл до странного места, достал сапёрную лопатку, да и начал копать наугад.
Глядь, вокруг него опять то же самое поле: с одной стороны торчит ретранслятор, и опять, сука. Красной лампочкой мигает. Да и бар видать!
Да и, ёрш твою двадцать, ветка, что он тогда воткнул! Вон и дорожка! Вон и могилка! Вон-вон горит и свечка!
Очкастый суетливо побежал туда, махаясь сапёрной лопаткой, как солдат, у которого кончились патроны. Прибежал, и остановился перед могилой Неизвестного Сталкера.
Её, конечно больше никто не красил, пирамидка из сварного железа проржавела и вылезла из земли. Теперь она стояла на тонких паучьих ножках из арматуры.
Свечка на ней была, впрочем, только что погасшая. «Тут мне фарта идёт!» решил Очкастый и начал обкапывать могилку всех сторон. Наконец, пихнул он пирамидку в сторону, упёршись крепко ногами.
Тут по окрестностям прошелестел ветер — ясно, был бы кто из нас, сталкеров, что через день на Зону ходят, то уж давно бы обгадились. Но Очкастый был барыгой. Ему хабар глаза застил, он, видать, сказал что-то вроде: «А, с-с-сука, туда тебе и дорога! Теперь легче будет».
Но Очкастый в этот момент и сам подплывать начал, потому что стал слышать голоса, как он рассказывал. Будто кто-то дышит в спину, девки какие-то лапать начинают, в одно ухо хабар обещают, в другое — неземных эротических ласк со скидкой и по телефону. При этом не поймёшь, кто тебе этих ласк обещает — а то Очкастому в своё время была неприятность. Он в Таиланд полетел, и так с ласками промахнулся, что его одно время считали зашкваренным.
Начал он копать дальше — земля мягкая, сапёрная лопатка так и уходит. Вот что-то ухнуло. Выкидавши землю, увидел он стальной ящик-контейнер.
— А, голубчик, вот где ты! — вскрикнул Очкастый, подсовывая под него лопатку.
И опять голоса ему в ухо, будто с Зоны к нему идут кабаны и говорят ему что-то. И снорк бежит, и здоровается. И кровосос ему говорит: «Вот где ты!», — а уж с кровососом ему встречаться совсем не с руки.
— А-ааа… Гады! — заорал Очкастый, бросив лопатку. И уже хотел бежать, как всё стихло.
Он успокоился и решил:
— Это только пугает Зона!
И Очкастый принялся ворочать контейнер. Хоть это явно был не гроб, но был контейнер ужасно тяжел! Что делать? Тут же не оставить! И собравши все силы, ухватился он за него руками.
— Ну…! …! Ещё, ещё! — и вытащил! Взвалил на спину контейнер и давай бежать, потому что опять появились у него голоса, задышала Зона в спину, и будто прутом стали стегать ему по ногам кусты.
«Куда это зашел Очкастый?» — думали мы, обнаружив, что его нет уже три часа, а время совсем не утреннее.
Нет его, да и нет.
Глядь — Очкастый.
В него чуть не пальнули, так он был на зомби похож — грязный, в земле, оружие потерял, какая-то хрень за спиной. Чистый зомби, я говорю. Вернее, очень грязный.
— Ну, чё, лохи! Я вас всех убрал, заорал Очкастый. — Ну, хлопцы, будет мне теперь на бублики! Буду, сукины дети, в Крым ездить, на лимузине кататься! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что принес! — заорал Очкастый и открыл контейнер.
Это было не по правилам, потому что сталкер о хабаре не орёт, не хвастается, но Очкастым, как я говорил, Зона водила. Последние мозги, как зомби выела.
Так что ж в контейнере-то было? А? Что, невиданный рай, артефакты ценой в мильон? Вот то-то, что и не в мильон. А был там какой-то сор, гниль, пакость, да ещё с диким радиационным фоном. Мы радиофагом облопались, а потом ещё дезактивацию помещения пришлось проводить.
Через два дня приехал Исай Митрич и схватился за голову: хозяйство в упадке, доходу нет, клиенты разбежались, а Очкастый облысел от схваченной дозы.
Но застрелил он Очкастого не тогда, а месяц спустя.
Из жалости, кажется.
Извините, если кого обидел.
07 июля 2011
(обратно)
История про прототипы
Между делом найдя у Омри Ронена такой абзац"…увлекательная работа Александра Долинина в сборнике "Владимир Набоков: рго еt сопtrа", содержащая полную сводку высказываний Ходасевича о Шкловском, сопоставление эпизодического персонажа романа "Дар", писателя Ширина, со Шкловским, а также разбор примечательной "Повести о пустяках" Бориса Темирязева (Юрия Анненкова) как произведения, построенного на излюбленных формальной школой монтажных приемах (следует присовокупить в связи с этим, что Шкловский послужил прототипом одного из действующих лиц повести)", решил освежить в памяти контекст.
Сборник этот я помню, но с его издания прошло уже лет пятнадцать.
Заглянул в "Дар": "Федор Константинович собрался было во-свояси, когда его сзади окликнул шепелявый голос: он принадлежал Ширину, автору романа "Седина" (с эпиграфом из книги Иова), очень сочувственно встреченного эмигрантской критикой.("Господи, отче —? По Бродвею, в лихорадочном шорохе долларов, гетеры и дельцы в гетрах, дерясь, падая, задыхаясь, бежали за золотым тельцом, который, шуршащими боками протискиваясь между небоскребами, обращал к электрическому небу изможденный лик свой и выл. В Париже, в низкопробном притоне, старик Лашез, бывший пионер авиации, а ныне дряхлый бродяга, топтал сапогами старуху-проститутку Буль-де-Сюиф. Господи отчего —? Из московского подвала вышел палач и, присев у конуры, стал тюлюкать мохнатого щенка: Махонький, приговаривал он, махонький… В Лондоне лорды и лэди танцевали джими и распивали коктайль, изредка посматривая на эстраду, где на исходе восемнадцатого ринга огромный негр кнок-оутом уложил на ковер своего белокурого противника. В арктических снегах, на пустом ящике из-под мыла, сидел путешественник Эриксен и мрачно думал: Полюс или не полюс?.. Иван Червяков бережно обстригал бахрому единственных брюк. Господи, отчего Вы дозволяете все это?"). Сам Ширин был плотный, коренастый человек, с рыжеватым бобриком, всегда плохо выбритый, в больших очках, за которыми, как в двух аквариумах, плавали два маленьких, прозрачных глаза, совершенно равнодушных к зрительным впечатлениям. Он был слеп как Мильтон, глух как Бетховен, и глуп как бетон. Святая ненаблюдательность (а отсюда — полная неосведомленность об окружающем мире — и полная неспособность что-либо именовать) — свойство, почему-то довольно часто встречающееся у русского литератора-середняка, словно тут действует некий благотворный рок, отказывающий безталанному в благодати чувственного познания, дабы он зря не изгадил материала. Бывает, конечно, что в таком темном человеке играет какой-то собственный фонарик, — не говоря о том, что известны случаи, когда по прихоти находчивой природы, любящей неожиданные приспособления и подмены, такой внутренний свет поразительно ярок — на зависть любому краснощекому таланту. Но даже Достоевский всегда как-то напоминает комнату, в которойднем горит лампа".
Нет, решительно не вижу никакой связи, кроме той, разумеется, что Ширин и Шкловский начинаются с одной буквы.
Отчего не предположить тогда, что Ширин это Сирин наоборот, унылый вариант судьбы самого Набокова.
Та же степень обязательности.
Но тут хорошо сформулировать общие принципы игры в угадайку. "Роман с ключом" только тогда роман с ключом, когда к нему сознательно приделан замок и у этого замка есть ключ. А вот когда автор посто берет типажи из жизни (а откуда их взять), а потом проводит над ними операции подобно Агафье Тихоновне, переставляя носы и меняя рост, то поиски прототипов становятся не очень осмысленным занятием.
Разве — мемориальным развлечением.
Вот у Богомолова в архиве есть запись о "Моменте истины": "Что касается судьбы людей, послуживших прообразами: прототип Алехина — вскоре погиб при задержании вражеских агентов в декабре 1944 года в Польше; Таманцева — погиб зимой 1945 года в окопном бою при неожиданном прорыве танковой группы немцев; генерала Егорова — умер вскоре после войны, не дожив до 50 лет; Блинова — во время войны был артиллеристом и в контрразведке ни одного дня не служил — закончил войну Героем Советского Союза; подполковника Полякова — самого гражданского человека из героев романа — после войны совершенно «вышел из образа»: закончил военную академию, стал генералом и прослужил в армии еще четверть века; Аникушина — буквальный и соответствует всему до деталей. Я знал офицера, который, находясь после ранения на службе в комендатуре, был привлечен к одной операции розыскников и повел себя в точности как Аникушин. В результате погиб старший оперативно-розыскной группы, а этот офицер получил тяжелое ранение, но выжил».
И что, что делать с этим знанием?
Даже журналисты не встрепенулись.
Извините, если кого обидел.
07 июля 2011
(обратно)
История про Константина Симонова и драматургию
Из разных своих соображений я давно хотел почитать статью Константина Симонова "Задачи советской драматургии и театральная критика", напечатанную в № 3 журнала "Новый мир" за 1949 год. Благодаря любезности нынешнего главного редактора этого журнала Андрея Василевского, я могу показать, что там, собственно, было написано.
Итак, Симонов писал: ««Наша советская драматургия, непрерывно развиваясь, сейчас, в эпоху строительства коммунизма, является важнейшей' и неотъемлемой частью самой передовой в мире советской литературы.
Наша драматургия опирается в своих традициях на самую передовую, самую демократическую драматургию XIX века — на русскую классическую драматургию.
Наша драматургия опирается на классическое наследство первого пролетарского драматурга — Горького.
Наша драматургия создала за тридцать лет своего существования ряд выдающихся произведений, ставших не только этапами в развитии драматургии и всей советской литературы, но и важнейшими вехами в развитии советского театрального искусства, которое воспитывалось, развивалось и укреплялось прежде всего на создании лучших советских спектаклей.
Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить такие произведения, как: «Егор Булычев и друпие» и «Достигаев и другие» М. Горького. «Любовь Яровая» К. Тренева, «Шторм» В. Билль-Белоцерковского «Бронепоезд № 1469» Вс. Иванова, «Разлом» и «За тех, кто в море» Б. Лавренева, «Первая конная» В. Вишневского, «Бойцы» Б. Ромашова, «Гибель эскадры», «Платон Кречет», «В степях Украины», «Фронт» А. Корнейчука», «Чудак» А. Афиногенова, «Темп», «Мой друг», «Человек с ружьем» Н. Погодина, «Нашествие» Л. Леонова, «Далеко от Сталинграда» А. Сурова. Вот тот далеко не полный список выдающихся произведений, с которыми пришла советская драматургия к началу послевоенного периода.
Но наряду с этими достижениями лучших советских драматургов, закрепленными в лучших театральных постановках, в нашей драматургии, взятой в целом, и в наших театрах к 1946 году наметился ряд неудач, ошибок и идейных провалов.
В историческом постановлении ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и о мерах по его улучшению» говорилось о том, что многие драматурги стоят в стороне от коренных вопросов современности, что многие театры не уделяют настоящего внимания постановке советских пьес, что неудовлетворительное состояние репертуара драматических театров объясняется также отсутствием принципиальной, большевистской театральной критики.
Партия резко поставила вопрос о недостатках нашей драматургии, о примазавшихся к ней пошляках, о засилье в репертуаре пошлых и дешевых западных пьес.
Партия поставила перед нашей советской драматургией задачу, опираясь на все достижения ее большого пути, решительно двинуться вперед, разгромить идейных противников, создать новые пьесы, достойные Сталинской эпохи, достойные народа, победившего в войне с фашизмом и строящего коммунизм.
Передовая часть советской драматургии за время, прошедшее с опубликования исторического решения ЦК ВКП(б), много и плодотворно работала над этой задачей. Конечно, отнюдь нельзя успокаивать себя и говорить, что мы сделали все, что могли, и все, на что способны. Но, тем не менее, в этот период было создано немало драматических произведений, которые безусловно можно рассматривать как положительные результаты нашей работы. Достаточно на¬звать «Великую силу» Б. Ромашова, [183] «Победители» Б. Чирскова, «Хлеб наш насущный», «В одной стране» Н. Вирты, «Жизнь в цитадели» и «Борьба без линии фронта» А. Якобсона, «В одном городе» и «Московский характер» А. Софронова, «Большая судьба» А. Сурова, «Макар Дубрава» А. Корнейчука, «Южный узел» А. Первенцева, «Закон чести» А. Штейна, «Губернатор провинции» бр. Тур и Л. Шейнина, «Глина и фарфор» А. Григулиса, «Константин Заслонов» А. Мовзона, «Генерал Ватутин» Л. Дмитерко, «Снежок» В. Любимовой, «Красный галстук» С. Михалкова. «Утро Востока» Мамед Ханлы, «Единая семья» А. Абишева, «Весна в селе Речном» А. Броделэ — достаточно назвать хотя бы эти пьесы, — а перечень еще неполон, — чтобы отметить, что наша драматургия за эти два года имеет значительные итоги работы.
Все усилия были направлены к тому, чтобы решить задачи, поставленные партией, и если сделано далеко еще не все, если положение в целом еще нельзя считать вполне удовлетворительным, то все же к лучшим, перечисленным выше произведениям драматургии можно отнести ту положительную оценку, которую дал советской литературе товарищ Молотов в своем докладе б ноября 1948 года.
У нас есть далеко не свободная от недостатков, еще не использующая всех заложенных в ней возможностей, но, тем не менее, большая, активная, боевая советская драматургия, позволяющая законно говорить о ней, как о равноправном отряде самой передовой в мире советской литературы.
Такая точка зрения ничего общего не имеет ни с зазнайством, ни с самоуспокоенностью, но в то же время она далека от самоуничижения и недооценки собственных сил и возможностей.
Между тем, в последнее время с особенной остротой и силой обнаружилось, что существует еще и другая, не наша, чуждая, более того — глубоко враждебная нам точка зрения на советскую драматургию. Это точка зрения подвизавшихся до последнего времени в нашей театральной критике антипатриотов и буржуазных космополитов, с их сознательными подголосками и бессознательно подпевавшими им, шедшими за ними либералами и дурачками.
Эта группа антипатриотов нигилистически относилась к прошлому русской драматургии и русского театра, низкопоклоннически изображая то и другое не самобытным, громадным явлением искусства, а только копиями западных образцов.
Они клеветали на великую драматургию Горького, они на всех перекрестках пытались оболгать историю советского театра, а советскую драматургию изображали, как драматургию второго сорта по сравнению с современной декадентской, разлагающейся западной драматургией. Они иезуитски пытались протащить мысль о том, что советский театр развивался не на основе советской драматургии, а вопреки ей, вопреки якобы «второсортному» драматургическому материалу советских писателей.
Эти люди проповедывали враждебную нам точку зрения и на нашу драматургию периода войны, и на нашу послевоенную драматургию. Под прикрытием дымовых завес из общих страховочных слов они фактически пытались выступать против постановления ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров».
Эта враждебная нам точка зрения, в зашифрованном виде сформулированная в печатных статьях, довольно откровенно проявлялась в выступлениях на всякого рода совещаниях и обсуждениях и уже в совершенно расшифрованном виде пропагандировалась во всякого рода кулуарах в углах, начиная от закоулков московского ВТО и кончая задворками ленинградской секции драматургов, в которой, кстати сказать, до самого последнего времени драматургов и не бывало.
Самыми давними теоретиками группы критиков-антипатриотов были Гурвич и Юзовский, в ее деятельности принимали активное участие Малюгин, Борщаговский, Бояджиев, Варшавский, Холодов, Альтман и некоторые другие. Преступная работа этих людей разоблачена партией и партийной печатью, об этой группе и об ее антипатриотических взглядах много и подробно писалось во всей нашей прессе.
Необходимо, наконец, оценить по заслугам этих людей, деятельность которых на протяжении долгого времени была направлена к тому, чтобы подбить ноги передовым советским драматургам.
Для того, чтобы все силы вложить в решение задачи, поставленной партией перед нашей драматургией, необходимо разоблачить систему взглядов, методов и приемов [184] этой антипатриотической критики, нужно разобраться в том, как она нам мешала в прошлом, и не позволить мешать нам в будущем, обезопасить себя от возможности каких бы то ни было рецидивов антипатриотической критики.
Прежде всего несколько слов о теоретических корнях всей этой антипатриотической системы оценок, враждебных советскому искусству.
В 1928 году в издательстве писателей в Ленинграде вышла книга В. Шкловского под названием «Гамбургский счет».
Вот что было написано в качестве предисловия к этой абсолютно буржуазной, враждебной всему советскому искусству книге:
«Гамбургский счет — чрезвычайно важное понятие.
Все борцы, когда борются, жулят а ложатся на лопатки по приказанию антрепренера.
Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы.
Они борются при закрытых дверях и завешанных окнах.
Здесь устанавливаются истинные классы борцов, — чтобы не исхалтуриться.
Гамбургский счет необходим в литературе.
По гамбургскому счету Серафимовича и Вересаева нет.
Они не доезжают до города.
В Гамбурге — Булгаков у ковра…
Горький — сомнителен (часто не в форме).
Хлебников был чемпион».
Это возмутительное предисловие стало цельной идейной программой для критиков, стоящих на буржуазных позициях и пытавшихся опрокинуть советское искусство, поставить под сомнение его художественные ценности.
Эту свою «теорию гамбургского счета» критики-антипатриоты противопоставили настоящему, партийному, народному счету, который предъявляют к литературе и искусству партия, народ, социалистическое государство.
Было бы неверно думать, что мы имеем дело только лишь с программой доморощенных эстетов. Нет! Это воинствующая, продуманная реакционная программа. Старый писатель-общественник В. Вересаев, писатель-коммунист, автор «Железного потока» А. Серафимович этой программой сброшены со счета. Объявлен «сомнительным» Горький, который, перед тем как вышла эта книга, вернулся, под вой врагов, домой, в Москву, в свое социалистическое отечество. И получает высшую оценку, признан «чемпионом» Хлебников, этот откровенный представитель буржуазного декаданса, дошедшего в его лице до полного распада личности.
Под этой постыдной программой подпишутся и сегодня наиболее реакционные- представители современной западной бур¬жуазной литературы.
Быть может, сейчас В. Шкловский, — презрением к самому себе — тогдашнему Шкловскому. вспомнит эти написанные им слова. Быть может, он найдет в себе мужество и сам до конца разоблачит свои прежние взгляды и взгляды всей возглавлявшейся им буржуазно-формалистической школки «Опояз», взгляды, глубоко враждебные советскому искусству. Кстати сказать, он до сих пор не написал по этому вопросу ничего до конца внятного, а это было бы только правильно и полезно, и, прежде ее его, для него самого.
Но главный вопрос тут, конечно, не в В. Шкловском. Дело в том, что эта формулировка о втором, буржуазном счете» предъявляемом советской литературе, стала на долгие годы знаменем для всех критиков-антипатриотов, для всех критиков. боровшихся на разных этапах разными методами с советским искусством. Не случайно, что через одиннадцать лет после появления этой книги В. Шкловского, на Всесоюзной режиссерской конференции, материалы которой были изданы целым томом, ленинградский критик М. Янковский, имя которого сейчас фигурирует а числе людей, активно выступавших в Ленинграде против лучших пьес советского репертуара, заявлял:
«Шкловский в своей книге говорит что среди борцов существует такой обычай: раз в год они собираются за закрытыми дверями и устраивают настоящее соревнование. За закрытым» дверями, без публики, определяется подлинный класс борца — дерутся по-настоящему. Это называется «гамбургским счетом». Нам нехватает…этого «гамбургского счета»», нехватает соревнования, нехватает того, что помогло бы нам сделать переоценку некоторых официальных ценностей».
Что такое, спрашивается, эти «некоторые официальные ценности» для М. Янковского? Это та оценка, которую дает партия, дает народ произведениям советской драматургии и советского театрального искусства. Этой оценке предлагается произвести переоценку. С каких позиций? С позиций несоветских, антипатриотических, с позиций буржуазного космополитизма.
Выступление М. Янковского показывает, до какой откровенности доходили критики-антипатриоты, когда благодушные либералы яре доставлял и им для этого трибуну. Подобные прямые высказывания — это только открыто опубликованная часть программы, это только вершки, а корешки идут очень глубоко и очень разветвленно, они охватывают все стороны деятельности критиков-антипатриотов. Свой буржуазный «второй счет» они предъявляли к советской драматургии и театру во всех областях и во всех формах, и не нужно обманываться тем, что в большинстве случаев у этих критиков-антипатриотов забрало было опущено или только чуть-чуть приподнято. Они знали, что если они поднимут забрало и скажут всё, что они на самом деле думают, то их забросают камнями на улице.
Но если бы им дали волю, они быстро сбросили бы маски, забыли про всю свою мнимо советскую фразеологию и открыто объявили бы своим знаменем — в драматургии гнилые пьесы Сартра, а своим знаменем в режиссуре — антинародные, нигилистические, наплевательские по отношению к драматургии постановки Мейерхольда.
Стоит только вспомнить, как перед постановлениями ЦК партии в 1946 году эти критики-космополиты, ведя за собой на поводу некоторых весьма уважаемых, но, видимо, недостаточно идейно зрелых деятелей нашего театра, стали пропагандировать на сцене пьесы ницшеанца и циника, английского разведчика Сомерсета Могэма, такие, как «Круг». Да разве один «Круг»?
Ведь именно под влиянием и давлением этой самой концепции «гамбургского счета» и исповедывавших ее критиков-космополитов, в Комитете по делам, искусств, на обсуждении спектакля «Круг» Сомерсета Могэма, некоторые театральные деятели, отстаивая право на эту постановку, говорили, что «самая главная ценность пьесы заключается в том, что это есть свидетельство большого английского писателя о той среде, которая его выпестовала, в которой он живет и которой он посвящает свое творчество». Говорили, что «хотя содержание этой пьесы не всегда соответствует тому, чего бы мы ждали от пьесы, написанной совершенно нашим автором (Могэм, видите ли, оказывается все-таки — не совершенно наш автор! — К. С.), нас привлекла определенная картина английского общества». Говорили, что «это хорошая литература», что это «очень хорошая пьеса», говорили, что «после спектакля приятно, как когда прочтешь западную книгу. Почему не прочесть западной книги, не посмотреть западного спектакля?». Говорили, что «прежде всего Могэм умный драматург, дающий возможность актерам создать целый ряд острых и интересных образов, Нам нужно размять актерские кости и давать интересный и разнообразный для этого материал». То есть, если сказать все это простым языком, то люди низко кланялись драматургии Сомерсета Могэма, считая, что советским актерам невозможно «размять кости», играя советские пьесы.
Я привел здесь высказывания четырех наших театральных деятелей — и не хочу но этому поводу называть их имена, потому что они всей своей работой, взятой в целом, доказали, что им дорог советский театр и советская драматургия и что эти их высказывания были лишь идейным срывом, а не их программой. Но это показывает, как расходятся круги по воде от камня, преднамеренно брошенного критиками-космополитами, как либерализм, доверчивость, неумение во-время распознать своих идейных противников неизбежно приводят к идейным провалам, к ошибкам.
Нельзя, говоря о космополитизме, ограничивать его вредоносную деятельность только сферой искусства или науки. Нужно, прежде всего, рассмотреть, что такое космополитизм политически. Пропаганда буржуазного космополитизма выгодна сейчас, прежде всего, мировой реакции. Космополитизм в политике — это стремление ослабить патриотическое чувство независимости народов, обессилить, связать народы и выдать их с головой американским монополиям…»[63]
Ну и ещё двадцать страниц текста в том же духе.
Извините, если кого обидел.
11 июля 2011
(обратно)
История про фильм "Трактористы"
А вот вопрос к тем, у кого под рукой фильм "Трактористы": а что блестит на груди у главного героя танкиста Клима Ярко? Мне отчего-то казалось, что у него, особенно в последней сцене свадьбы, на груди орден Красной Звезды.
Но потом мне показалось, что это медаль (когда он пляшет, эта штуковина прыгает на гимнастёрке), но потом и вовсе я стал склоняться к тому, что это значок ПХВО на цепочке. Но на кой сдался герою-танкисту этот значок? Разве из конспирации.
Со званием у него всё понятно — он старшина.
Кстати, в финальных кадрах застолья (Это свадьба главного героя и героини), представлен важный ряд иконостас имевшихся тогда советских орденов. Слева стоит председатель колхоза с орденом
Боевого Красного знамени за Гражданскую войну, затем тракторист, которого играет Крючков, с орденом Красной звезды — которая, разумеется, по старому образцу привинчена над сердцем, затем героиня с орденом Трудового Красного Знамени, И, наконец, его командир, по всему видно, упоминавшийся ранее брат героини с орденом Боевого Красного Знамени на гимнастёрке — видимо, за Хасан или Халкин-Гол.
Не представлены, правда, орден Ленина и орден "Знак Почёта", первые награждения которым произошли в 1935 году, а премьера фильма прошла 3 июля 1939.
Извините, если кого обидел.
12 июля 2011
(обратно)
История про девушку и фауста

Извините, если кого обидел.
12 июля 2011
(обратно)
История про странный дом
Я всё-таки скажу пару слов о былом, используя недописанную рецензию для "Нового мира".
Надобность в ней отпала, потому что про эту книгу написали без меня.
А книга Мариам Петросян мне кажется довольно странной, но дело не в том, что на меня подействовала магия текста, а потому, что я не до конца могу понять феномен её популярности.
Лучше всех про «Дом, в котором…» Мариам Петросян высказался киевский человек Михаил Назаренко — вернее, он процитировал Кэрролла: «Ты загрустила? — огорчился Рыцарь. — Давай я спою тебе в утешение песню.
— А она очень длинная? — спросила Алиса.
— Она длинная, — ответил Рыцарь, — но очень, очень красивая! Когда я ее пою, все рыдают… или…
— Или что? — спросила Алиса, не понимая, почему Рыцарь вдруг остановился.
— Или… не рыдают».
На этой цитате можно было бы закончить разговор, но я честно поясню свою мысль: есть книги, что становятся вдруг удивительно популярными и неглупые люди передают их друг другу со словами — «Почитай, вот где забирает, вот где жизненная правда». И ты читаешь, и видишь, что не забирает, не дёргает что-то, не происходит какой-то алхимии. И вот выплыло это слово «алхимия», «алхимии», не улучшенного ли тебе Коэльо продают, но нет, нет, вроде не его, но что? И ты начинаешь спрашивать неглупых людей, что они нашли в этой книге, и они отделываются какими-то странными словами «жизненная книга», «причудливый мир», «мироздание, выстроенное персонажами».
Причём я могу как читать рецензии, так и разговаривать с их авторами лично, и оттого меня не проведёшь на одном простом механизме отзывов. Этот механизм заключается в том, что рецензент начинает говорить о книге, потом в его голове что-то щёлкает, и он уже начинает говорить о другой книге, некоем воспоминании, и через эти воспоминания, что пришли ему в голову, выводит, что книга хороша.
А есть жёсткий зачёт, будто объяснить школьнику — в чём сила, брат?
В чём сила этой книги? Почему она такая толстая? Где в ней литературная логика, и в чём конкретно прелесть?
У меня есть отмычка для замков общественного настроения. Это очень простой ход — попросить пересказать текст. И вот, когда я просил пересказать этот роман, а потом объяснить, что в нём хорошего, то его восторженные читатели мялись, экали и мекали, а потом говорили:
— Атмосферная книга.
Так же можно пересказывать кляксы Роршаха. Они тоже "атмосферные".
И, точно так же, они могут составить наше мнение о коллективном и персональном бессознательном.
Мне интересны именно движения масс, потому что назначение книги повышенной духовности происходит регулярно. И мне кажется, что это явление сродни абстрактной живописи с назначениями и самоназначениями картин повышенной духовности.
Нет, определённо, это очень полезная книга, я говорю это без тени иронии. Книга Петросян очень полезна, потому что показывает, что механизмы, поднимающие на гребень волны чайку по имени Джонатан Л., или того же Коэльо не зависят от классов, сословий и образования.
…Но разговоры адептов мне понравились именно тем, что собравшись в кружок, они говорят: "А я эту книгу сразу стал перечитывать. Прочитал — и сразу по новой" — "А я не смог, у нас очередь" — "А я перечитал два раза" — "А я — три раза перечитал!".
Это вовсе не от того, что на книгу клюют люди со слабой памятью, нет.
Дело в другом: будто я подсмотрел за собранием первых христиан. Полумрак, пещеры, рыбы там всякие на стенах нарисованы. Перечти ещё раз Учителя, брат.
А если кто будет злорадно говорить "И сие пройдёт", так я скажу тому, что восторг неофита в таком случае неминуемо сменяется ностальгическим восторгом. Через много лет люди перечитывают книгу в несчётный раз, и любовь к ней ещё менее подвержена критике — ведь это любовь к прошлому.
Обидишь культовую книгу, значит обидишь прошлое её адептов, их юность и молодость.
Да и то, много лет они исповедовались в любви к какой-то пустышке, что ли? Подите прочь, да вы ведь просто завидуете!
И такое впечатление, что я имею дело с некоторой конвенцией неглупых людей, что назначили роман Петросян, роман неплохой, но не очень понятный, «волшебным миром» и «новой вселенной». И миры, и вселенные должны быть, и вот неглупые люди увидели подходящий роман и вчитали в него «атмосферу» и «волшебство».
Нет, решительно — загадка.
13 июля 2011
(обратно)
История про эфир
Позвали поговорить в прямом эфире в 15.00. Понятия не имею, что там с вопросами, но если там можно спрашивать, то пожалуйста.
Извините, если кого обидел.
13 июля 2011
(обратно)
История про метафоры и прочее бессвязное
Читал Ольшанского. Безотносительно к содержанию, начал думать о метафорах (сексуальные метафоры вообще самые запоминающиеся). Так вот там есть выражение в начале текста "А ковыляющие на пятнадцатисантиметровых каблуках девочки, и без того рослые, как строительный кран", которое, закономерно закольцовывается в конце "Я на митинге, в твиттере, на баррикаде — а ты в баньке, употребляешь строительный кран на пятнадцатисантиметровых".
Это жутко интересно сделано (как и весь текст) — и многие другие конструкции внутри текста.
Предложили написать про гомосексуалистов рассказ. Задумался. С нынешним бытом знаком я мало, а вот лет сто назад… Чёрт, забыл итог длинной дискуссии по этому поводу насчёт князя Феликса Юсупова.
Вообще, как-то удивительно мало литературных сюжетов вокруг… <…>
Или вот, насчёт Каверина и его сказки про Великого Завистника. Какой-то ужасный Каверин Завистник.
Извините, если кого обидел.
14 июля 2011
(обратно)
История про летнее времяпровождение
Обнаружил, что рядом, на "Новослободской" прямо-таки на улице зазывают на Селигер.
Это тот самый форум, о котором все так много говорят.
Который в прошлом году Прохоров, собственно, содержал.
Про который всяк политизированный человек говорит не иначе, как разодрав рубаху на груди.
Так что всякий желающий может поехать, приобщиться к инновациям и всему такому.
Ничего секретного — а ведь раньше со стороны казалось, что это масонское братство, тайное общество.
Проще надо быть.
А девушка там стоит очень красивая, чо.
Извините, если кого обидел.
14 июля 2011
(обратно)
История про бульвары
Ходил на бульвары поздравлять разных знакомых, сидевших там. Москва влажна и горяча. Москвичи обсуждают приход новой жары как недорезанные помещики в 1918 году обсуждали движение Красной армии.
Меж тем, бульвары наполнены людьми и местность в их пределах напоминает Крым. Точная цитата про это содержится в записных книжках Ильфа: "Внезапно в кабацкую болтовню вмешался парикмахер Люся. Он сказал: «Как Байдарские ворота — так нет больше женатых и нет замужних. Тут у нас летом каждый кустик дышит». Все одобрили эту сентенцию и с видом заядлых сердцеедов продолжали говорить пошлости".
Причём это апрель 1936 года, Ильфу остаётся год до смерти, и он это, в общем, понимает.
Извините, если кого обидел.
15 июля 2011
(обратно)
История про internet addicted
Сегодня — день рождения Дениса Давыдова. С ним вообще много всего приключилось интересного — о его внешности довольно долго судили по портрету брата, принимая его за портрет самого Давыдова, в народном сознании он и вовсе стал прототипом поручика Ржевского.
Но я не об этом — под конец жизни Давыдов удалился в имение своей жены (там потом случилась весьма драматичная история), но я опять же не об этом — Давыдов там писал мемуары, вёл обширную переписку, ну и по хозяйству что-то приказывал.
Я так про себя определял идеальную жизнь растворённого в Сети человека: встаёшь по утру в своём имении, отвечаешь на письма Пушкина и Жуковского, сам пишешь Загоскину. Вот и к обеду зовут. После обеда, натурально, послеобеденный сон. После — снова к клавишам, пишешь автобиографическую прозу.
Готовые куски отсылаешь товарищам для прочтения и комментариев.
Дети тихо повизгивают под окнами, фехтуя деревянными сабельками.
Там и вечер — племянница в гости приехала.
Красота.
Извините, если кого обидел.
16 июля 2011
(обратно)
История про одну статью
Стесняюсь спросить, а нет ли у кого текста
Чудакова М., Тоддес Е. Прототипы одного романа // Альманах библиофила. Выпуск Х. — М. 1981. С. 172–192. А?
P.S. Дорогие друзья, как вы догадываетесь, прежде чем задавать такие вопросы, я всё-таки пробиваю названия статей в поисковых машинах. То есть, делиться со мной свеженайденным в Яндексе не очень осмысленно. Точно так же, не надо давать мне ссылку на alib.ru
Я знаю этот ресурс — там книги продают, а не дают почитать. Да и не буду я покупать книгу (например, эту) в Тель-Авиве — слишком дорого мне обойдётся сноска на три строчки.
Когда я так спрашиваю, то это означает, что у меня есть надежда, что кто-то отцифровал, или просто отсканировал для себя текст и может вывесить или прислать текст. Что, кстати, предусмотрено ст. 1275 4-ой части Гражданского Кодекса РФ, где говорится об использовании в учебных или научных целях.
Извините, если кого обидел.
17 июля 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Я считаю, что нет ни одной причины, чтобы кто-то должен был тратить своё время на просмотр фильма фильм "Бразилия". А у вас есть любимый всеми вокруг фильм, который вы считаете очень плохим?
— Для начала я скажу, что посмотрел фильм "Бразилия" и ничуть не пожалел. Другое дело, что я не восторженный его поклонник — посмотрел и посмотрел.
А что до других фильмов, то дело в том, что сейчас очень сложно нати фильм "любимый всеми" — общество очень расслоилось. Это, может "Чапаев" в тридцатые годы был любим всеми, а сейчас в одной компании сосуществуют люди, любящие Тарковского за "Зеркало" и с унынием вспоминающие о "Жертвоприношении", и люди, Тарковского боготворящего за всё — за всё. А есть ещё ведь культурные феномены типа "Иронии Судьбы или С лёгким паром", которые и вовсе от кинематографа оторвались и существуют совсем в иной плоскости.
— Да прямо таки все любили Чапаева… конечно не все, просто вслух сказать боялись.
— Ну так можно сказать про любое произведение искусства (и вообще любой предмет) — понятно, что на всякое общее мнение можно возразить, что оно необщее.
Но что толку воевать со словами. Можно потратить годы рассказывая людям, что "солнце не может двигаться по небу, это земля движется".
Но тогда вас могут принять за идиота.
Понятно, что миллионы людей любили Чапаева. А в нашем современном кинематографе мы не можем привести такого примера.
— Про совр. рускино известно, что оно в жопе т. ч. единение происходит больше на почве ненависти как к "Утомленным солнцем-2". Хотя у того же "Бумера" почитателей дохуя было. Учите историю, ходите в народ и парьтесь за кого принимают Вас раз это волнует.
— Вы, кажется, чем-то взволнованы.
— Сов. власть конечно боролась с врагами, но не так чтоб их количество свелось к стат. погрешности, на которую Вы предлагаете плюнуть. Их тоже были милл…
— Определённо, вы чем-то взволнованы.
— Это Вы взволнованы тем, за кого Вас принимают — вопрос зажали о количестве нелюбителей Чапая. Но это ерунда по сравнению с большей глупостью Вашего сравнения агитбоевика Эйзенштейна с картинами Тарковского к-рые сейчас смело назовут артахаусом.
— Ну, точно! Вы взволнованы.
Извините, если кого обидел.
17 июля 2011
(обратно)
История про столицу
Отвлёкшись от мыслей о жизни и смерти, я всё же скажу пару слов о том, что все обсуждают — об увеличении площади Москвы вдвое.
Причём уже не первую неделю, а, кажется, вторую, вполне достойные люди в каком-то безумии начинают яростно спорить о том, каково это будет, а иные уже перетряхивают сундуки в поисках закладных на свои дачи. Кстати, если все эти карты — затея крепкой группы риэлтеров с из Троица, то я ими восхищён. Это почище идеи графа Монте-Кристо с оптическим телеграфом.
Стесняюсь спросить: а кто-нибудь видел какой-нибудь документ по этому поводу? Кем он подписан, какой гриф на себе несёт?
Я-то человек, помнящий многие государственные проекты — вот, к примеру, поворот северных рек на юг. Или там Продовольственную программу. А вот, опять же, был такой план, что в 2000 году у каждой семьи будет отдельная квартира. И документы про всё это я видел и они были даже напечатаны в газетах.
Но всё же, что за документ лежит в основании этих яростных споров пикейных жилетов? То есть — тебя, дорогой читатель, собственно говоря. Как ты выпускаете эмоции, как вы начинаешь генерировать отклики в своей голове — на основании карты неизвестного авторства? Расскажи мне скорее, Веничка, мне это так интересно.
А так-то лучше всего об этом сказано:
Говорят, скоро всем бабам обрежут задницы и пустят их гулять по Володарской.
Это неверно! Бабам задниц резать не будут.
Даниил Хармс. Из записных книжек.
Извините, если кого обидел.
18 июля 2011
(обратно)
История про SMS
Странное дело, всех очень задела история с внезапно опубликованными частными SMS (там, правда, на треть был спам от сотовых операторов и прочих упырей).
Но дело не в этом — каждый раз, когда случается мелкое в масштабах человечества наступление на приватность, люди вздрагивают.
Хотя казалось, что день за днём окружающий мир доказывает нам, что никакой приватности в нашей жизни нет.
Но когда происходит такая история, я всегда думаю, что она послана мне в какое-то назидание.
Назидание тут как раз не в том, что мы все живём как на ладони.
Человек религиозный, так вообще должен начинать с этого ощущения каждый день и с этим же чувством засыпать.
Но есть ещё одна тема — вот добрый К. говорит, что всё это ужасно, и люди пишут о кошечках и пусиках, кто-то зовёт возлюбленную Писей, и на этом фоне нынешняя и будущая власть должна вызывать сочувствие. Эким народом ей приходится управлять, а он ещё время от времени голосует.
Я так в отличие от доброго К. - форменный мизантроп, и никакого сочувствия никакая группа у меня не вызывает.
Я довольно давно, ещё до появления сайтов, где выкладывают фотографии котят, догадывался о том, как в этом смысле устроено человечество — как под властью Генеральных секретарей, так и под властью президентов, кондукаторов и кормчих.
Однажды я прикупил на Савёловском рынке коммуникатор — новенький, прямо в коробке, однако оказалось, что им год пользовался один милиционер. SMS свои он стёр, однако ж оставил мне на память свои логи ICQ.
Мне нечего ломаться — читать-не-читать, у меня профессия такая, хотя я никогда не расскажу того, что сам считаю ненужной обществу чужой тайной. Но вот на что это похоже — мне как-то достался чужой бушлат от неизвестного человека. И вот ты обнаруживаешь чужую жизнь в крошках табака, монетке чужой страны, таблетке для обеззараживания воды, две гаечки, завёрнутые в клочок письма из дома. Милиционер был молодым парнем, его гонят из подмосковного города на усиление, а у него свидание, начальство не отпустило в отпуск. Нормальная жизнь со своими котятами в шкафу.
Наша частная переписка одинакова, мои частные письма не многим интереснее, чем телефонная переписка молодого милиционера. Мы все такие.
Желающие могут прочитать один из моих любимых рассказов одного турецкого писателя.
Случаи, когда муж нечаянно узнаёт, что Машенька не его дочь, а Виктора Петровича — всё же редки и чаще встречаются у Достоевского. "Наивны наши тайны, секретики стары", как пел один бард (стихи плохие).
Жизнь не густа.
Придираться к котятам нечего.
Извините, если кого обидел.
19 июля 2011
(обратно)
История про дуэль
Отчего-то вспомнил: есть такой небольшой городок Чернь, более известный тем, что неподалёку от него находится Бежин Луг, и, собственно, в этом уезде происходит действие "Охотничьих рассказов".
У дороги там стоит серый памятник Тургеневу и Толстому, похожим на Маркса и Энгельса.
В здании бывшей бумажной фабрики давным-давно открыли крохотный музей. Директор его была прекрасная женщина.
— Чернь, — говорила она, — райское место, для вас, писателей! Фет, Толстой, Тургенев… Они так любили эту землю, тут писали, даже дуэль назначили именно у нас, на чернской земле!
Извините, если кого обидел.
22 июля 2011
(обратно)
История про Плёс
А вот, стесняюсь спросить, никто из здесь присутствующих в Плёс не ездит?
А то у меня как-то создалось впечатление, что Плёс — это такой новый Коктебель. Дорогое дачное место, сложившиеся компании, лодочные прогулки по Волге, променады к бронзовому памятнику Женщине из России, которую мы Потеряли.
Ну и всё такое.
Извините, если кого обидел.
22 июля 2011
(обратно)
История про письма мёртвого человека
В этой ночи у меня образовалось свободное время, и я начал размышлять о вчерашнем разговоре о писателе Гольдштейне.
Дело в том, что только что опубликовали письмо писателя Гольдштейна к критику Кузьминскому. Критик неодобрительно отозвался о романе писателя, и вот уже неизлечимый писатель сообщал критику, что тот неправ. Письмо это затерялось много лет назад, и теперь уже выплыло в виде открытого письма.
Ужасно тягостное осталось у меня впечатление от него, да и разговор о мёртвых всегда выходит невесёлый.
Я как-то видел Гольдштейна в Тель-Авиве, и говорил с ним.
Это было лет пятнадцать назад, и в то время Гольдштейн, я думаю, ещё не был болен раком, но говорил он очень тихо, будто сильно уставший человек.
Я слушал его, и думал про себя: вот писатель, что честно отдаёт всего себя литературе, а то, что он пишет — я читать не могу. (Я много его читал по служебной обязанности, когда работал в одном книжном приложении к крупной газете).
Читать я это не мог не оттого, что это было как-то коряво написано, а оттого, что это мне казалось таким изводом "литературы повышенной духовности", которым все начали заниматься после прочтения ксерокопии романа Владимира Набокова "Дар". Будь Гольдштейн жив и продолжил писать, то в кадровой позиции "утончённая литература повышенной духовности" был бы не только Шишкин, а ещё и он.
Тут должна следовать скорбная фигура умолчания — когда человек умирает от рака, его неприлично ругать в обществе.
Однако, единственное, что можно сделать в качестве настоящего уважения к мёртвому писателю, так это говорить о его тексте без скидок на болезнь и преждевременную смерть.
Ума не приложу, зачем это письмо сейчас перепечатано, а не доставлено адресату втихую — там писатель подставляется и стилем, и содержанием.
Мёртвый писатель пишет ужасно, но казус с этим письмом оказался очень для меня полезен. Первая — этот ужасный стиль, с долгими периодами, обременённый придаточными, и паспортами учёности: "Ошибочно, далее, полагать, будто литература — если это действительно литература — пишется для читателя. Читатель отнюдь не ниспослан ей в качестве цели и вожделенного, у фиванских врат, собеседника, ему разве что дозволяется поживиться плодами её; так плавающие-путешествующие применились в конце-то концов к абстрактной в своём солнечном эстетизме доктрине торуньского астронома".
Зачем "Ошибочно, далее, полагать, будто" — это хорошо если платят построчно, но зачем этот усложнённый язык в частном, частном, частном письме?
Зачем тут про фиванские врата? Для подтверждения мультикультурности? Торунь — это город, кочевавший из Польши в Пруссию и обратно несколько раз и известный тем, что в нём родился Коперник. То есть, торуньский астроном — это Коперник, Коперник постулировал гелиоцентрическую систему, и из этого производится солнечный эстетизм. Ну хорошо, гелиоцентрическая доктрина-система абстрактна (впрочем, почему — абстрактна? И почему именно в солнечном эстетизме?). И как применились ей плавающие-путешествующие? Это ведь очень сложный вопрос — если речь идёт о навигации, конечно. Не сказать, что до Коперника не было навигации по небесным светилам. То ли читатель хочет поживиться плодами навигации, то ли литература — читателем.
В общем, Аркадий, не говори красиво.
Но главной проблемой становится смысл этого абзаца — если "Литература пишется не для читателя", если это акт общения с высшими силами, то отчего писать критику непонятное письмо. Акт общения с Богом свершился, ему никто не мог помешать, к чему упрёки сторонних лиц в непонимании?
Я учился в Литературном институте и вынес оттуда три фразы (это довольно много, некоторые не вынесли и этого). Одна из них была о том, что писатель не имеет права оправдываться и "дообъяснять" свои тексты. Это очень мудрое правило — в таких случаях писатель всегда выглядит комично и жалко. Любой писатель и всегда.
Меж тем длинные периоды типа — "Высказывания Ваши, а Вы давно и твердо держите свою линию, коробят меня пренебрежительным отношением к прозе, впрягшейся в обновление поэтических форм, наиважнейшую в речи работу, без которой литература «не излучает» и только лишь корчит посмертные бодрые рожи с серийных обложек — полюбуйтесь-ка на фаюмский портрет. Речевым промыслом свершается путь в незаказанном направлении, для пущей торжественности именуемый литературною эволюцией, и огорчительны нападки на слово, отовсюду теснимое — ладно бы рынком, монстру по штату положено выглодать скучную плоть несогласных, но теми, с кого бы полфразочки в одобренье защиты…" — удивительно беззащитны. Они будто бы страшный сон Годунова-Чердынцева, который пишет критику Мортусу оправдательное письмо.
Но, если и так, то в письме взят чрезвычайно неудачный тон. Именно тот тон искусственной интеллектуальности, что был ужасен в прозе.
Конечно, любые творческие декларации имеют право на существование — но тут не декларация, а что-то бессвязное, очень ранимое, искусственное, личное.
Как ни крути, будь я близким мёртвому писателю человеком, бы не стал этого печатать ныне.
Однако мне, сидящему посреди ночной Москвы, этот безжалостный к своему автору текст оказался очень полезен.
Жизнь жестока, литература трансформируется, стили трещат и ломаются как лёд.
Время смывает книги и их авторов.
Ты поминутно понимаешь, что мир равнодушен к твоим буквам.
Надо смотреть на это с отчаянным спокойствием, без жалоб.
Извините, если кого обидел.
23 июля 2011
(обратно)
История про неприятные сюрпризы
Постель наполнена мелким речным песком.
Чорт! Где я был ночью и отчего не помню своего отсутствия?
Извините, если кого обидел.
23 июля 2011
(обратно)
История про стаканы
14, 12, 20, 28 — и это неполный ряд, разумеется.
Вспомнил былое благодаря посту periskop.su.
Надо сказать, что я несколько раз писал о гранёных стаканах в разных изданиях — коротко писал и писал пространно.
В результате я должен сказать одно — загадок в истории гранёного стакана больше, чем точных знаний. Да и вопрос "Скока граней?" сродни вопросу о том, сколько должен быть рост и вес у красивой женщины. Поиск точного числа сродни желанию пройти под радугой.
Однако на этом пути мы можем узнать много нового, если только не окостенел ещё живой интерес.
А то ведь наш обыватель каков — у него в голове связка "стакан" — "Мухина". Он как заслышит слова "гранёный стакан", так сразу выпучит глаза и выпалит: "Мухина!". "Му-хи-на!" Да так и остолбенеет.
Потому как скажи ему: "Птица!", так он радостно закричит "Курица!".
А скажи "Поэт?" получишь в ответ: "Пушкин!"
Так вот никаких документов о роли Мухиной в судьбе гранёного стакана не наблюдается — только воспоминания родственников и ворох недостоверных газетных статей, в которых журналисты выпучивают глаза не хуже обывателей.
Образ советского гранёного стакана возник с унификацией производства в середине XX века. То есть, если раньше человек помнил, что в разных столовых и рюмочных, в трактирах и кабаках была разная посуда, то тут в каждое заведение общественного питания, а то и в каждый дом пришли миллионы и миллионы схожих стаканов.
А так-то гранёные стаканы известны в стеклоделии давно. Был, по слухам, стакан Ефима Смолина, который царь Пётр Алексеевич хватил оземь, да тот стакан, на радость мастеру, и не разбился.
Контр-адмирал Дыгало пишет: "Еще задолго до официального появления кают-компании на кораблях 1-го и 2-го ранга Российского флота имелись наборы отличной столовой и винной посуды, «дабы не ударить лицом в грязь, буде придется принимать иностранных гостей». Составной частью этих наборов, изготовлявшихся бессчетными купеческими мануфактурами, были, естественно, стеклянные стаканы — малопрозрачные, темно-зеленого бутылочного тона, которые расписывались эмалевыми красками, и более дорогие, декорированные тонкой гравировкой прозрачные бесцветные кубки Императорского хрустального и стекольного завода. Вся эта посуда во время штормов билась в неимоверных количествах, ибо зафиксировать ее гладкие формы на столе было почти невозможно. Правда, помогла русская смекалка: моряки во время качки застилали столы мокрыми скатертями (это применяют и сейчас), однако круглые по форме стаканы и кубки скатывались со стола и бились даже в этом случае. От удручающих трат казну избавил один из мастеров Императорского стекольного завода, который изготовил первый в России граненый стакан. Апробацию новшества российский император произвел самолично, откушав из него полынной водки. Он нашел, что «стакан осанист и по руке в пору». От своих нынешних собратьев первый русский граненый стакан отличался большой вместимостью, толстыми стенками и зеленоватым оттенком. Возможно, это обстоятельство привело к тому, что в народе, несмотря на постоянное обновление разговорного языка, водка сохраняла за собой былинное название зелена вина — что ни налей в такой стакан, все в нем казалось зеленым. Но главным достоинством этого стакана была его высокая прочность: даже при падении со стола на палубу он очень редко разбивался".[64]
Естественно считать, что и на других флотах мира они к тому моменту уже были.
Но и до этого гранёные рюмки и стаканы упоминаются среди продукции Измайловского завода 1676 года.[65]
Да и далее: "Хотелось бы упомянуть еще один фрагмент стакана: его тулово покрыто гранями, как у современных граненых стаканов, но грани нанесены шлифованием. Происходит он из надежно датированного слоя XVIII в."[66]
Самым распространённым оказался так называемый «мухинский» стакан как бы образца 1943 года — этот год был урожаен на стандарты, например, на промежуточный патрон 7,62.
Стакан, правда, был разработан куда раньше — до войны был проект посудомоечной машины для больших общественных столовых — там гранёный стакан входил в специальные гнёзда. Кстати, вместо Мухиной, иногда авторство отдают инженеру Славянову — но мутная вода расследований тоже утекает в песок. Поминают даже Каземира Малевича, видимо, приписывая ему всё простое и угловатое.
Но стандарт этот — кажущийся, потому что на каждом стеклоделательном заводе СССР порядки были свои, и, подчиняясь своим областным, республиканским начальникам или руководству совнархозов, они проявляли многогранную самодеятельность.
Не говоря уж о том, что в старых стаканах была гранёной внутренняя поверхность, а не только внешняя.
Но дело, между прочим, не в гранях, а в варке при температуре 1500 °C, двойном обжиге, и, как утверждали, добавках свинца, приближающих стекло к хрусталю.
Прочность калёных стаканов имела, правда, и оборотную сторону — уж если они бились, так громко и будто взрываясь.
Было множество гранёных стаканов — малогранные архаичные, следующее поколение — гранёные стаканы с ободком сверху, затем гранёные стаканы с неполным гранением — до середины, со сложно профилированными гранями.
Обычно считают стандартом двухсотпятидесятиграммовый десятигранник с ободком, хотя, как дотошные грибники, в разных потайных местах знатоки обнаруживали россыпи десяти-, двенадцати—, шестнадцати— и семнадцатигранников.
Но я всё же расскажу, как с помощью стакана Владимир Ильич Ленин объяснял смысл жизни: "Тов. Бухарин говорит о «логических» основаниях. Все его рассуждение показывает, что он — может быть, бессознательно — стоит здесь на точке зрения логики формальной или схоластической, а не логики диалектической или марксистской. Чтобы пояснить эту, начну с простейшего примера, взятого самим тов. Бухариным. На дискуссии 30 декабря он говорил: «Товарищи, может быть, на многих из вас споры, которые здесь происходят, производят впечатление, примерно, такого характера: приходят два человека и спрашивают друг у друга, что такое стакан, который стоит на кафедре. Один говорит: «это стеклянный цилиндр, и да будет предан анафеме всякий, кто говорит, что это не так». Второй говорит: «стакан, это — инструмент для питья, и да будет предан анафеме тот, кто говорит, что это не так». Этим примером Бухарин хотел, как видит читатель, популярно объяснить мне вред односторонности. Я принимаю это пояснение с благодарностью и, чтобы доказать делом мою благодарность, я отвечаю популярным объяснением того, что такое эклектицизм в отличие от диалектики. Стакан есть, бесспорно, и стеклянный цилиндр и инструмент для питья. Но стакан имеет не только эти два свойства или качества или стороны, а бесконечное количество других свойств, качеств, сторон, взаимоотношений и «опосредствовании» со всем остальным миром. Стакан есть тяжелый предмет, который может быть инструментом для бросания. Стакан может служить как пресс-папье, как помещение для пойманной бабочки, стакан может иметь ценность, как предмет с художественной резьбой или рисунком, совершенно независимо от того, годен ли он для питья, сделан ли он из стекла, является ли форма его цилиндрической или не совсем, и так далее и тому подобное"…[67]
И проч, и проч.
Стакан у нас долго объяснял всё и служил для массы межалкогольных игр — с ним была придумана масса застольных фокусов. К примеру, если наполненный доверху стакан грамотно бросить на пол так, чтобы он соприкоснулся с ним дном, то возникал кумулятивный эффект: жидкость из него струёй добивала чуть не до потолка.
Вокруг онтологического стакана была масса традиций — помимо счёта граней (это, мне кажется, отчасти проверка на трезвость), в поездах требовали негранёные стаканы тонкого стекла, а распространены были как раз малобьющиеся гранёные. Воровство гранёных стаканов из автоматов для газированной воды — отдельная история. Гранёный стакан как мерная ёмкость — от 200 до 250 грамм, гранёный стакан как форма оплаты — "за стакан".
Извините, если кого обидел.
23 июля 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
***
— Какой из заданных тут вопросов понравился больше всего?
— Не знаю. Я вообще не использую этот критерий. Дело в том, что это своего рода исповедь — я ведь и сам в себе стараюсь разобраться. К тому же у меня осталось несколько ответов — есть несколько тем, которые во мне живут именно в виде ответа на эти незаданные вопросы.
— Как зовут человека, который задал вам тут больше всего вопросов?
— Понятия не имею. Я принципиально отношусь к этим вопросам, как к заданным мирозданием. Совершенно неважно, если это спрашивает знакомый. Здесь он на минуту становится настоящим анонимом.
— Какой вопрос вы хотели бы задать мне?
— Не знаю. Вы ведь — мироздание. Спрашивать вас, не еврей ли вы и подорожает ли животное масло — мне не интересно. Я знаю ответы на эти вопросы. Ответ на вопрос «Когда я умру?» я пока не хотел бы знать — вдруг он меня расстроит. А больше ничего мне на ум не приходит.
— Я не еврей. Только один прадед. Ну может ещё несколько прапрапра были евреями. А вы антисемит? Почему?
— А таки зачем вы мне сообщаете что вы не еврей?
— А я воспринял намёком цитату «Спрашивать вас, не еврей ли вы и подорожает ли животное масло — мне не интересно. Я знаю ответы на эти вопросы». Так как вы к ним относитесь?
— Вы заблуждаетесь в том, что в этом месте возможен диалог. Это он, может, возможен в Живом Журнале, а вот тут у вас один шанс и один вопрос — потому что это анонимная площадка. Вот вы были Иваном Сергеевичем Синдерюшкиным и вдруг стали мирозданием и задали мне вопрос. Но тут же, вы превратились обратно в себя, а задавая второй вопрос превратились в совершенно другое мироздание.
Это произошло в силу здешней анонимности. То есть, каждый новый вопрос вас обнуляет. Я никак не могу (и не хочу) догадаться, кто и где это стучит по клавишам, и через кого мироздание со мной беседует.
Впрочем, по этому поводу национального я имею два соображения — во-первых, очень жаль, конечно, что мироздание не опознаёт известную цитату из классика, а во-вторых, моё мнение по национальному вопросу вполне совпадает со стихотворением хорошего поэта Александра Кушнера, что помещено на титульной странице моего Живого Журнала.
— Вы хотели бы сами задавать анонимные вопросы? Если да, то кому?
— Я бы хотел порасспрашивать нескольких людей. Но в этом случае анонимность не важна, и потом они все — мёртвые.
— Можете рассказать мирозданию смешной анекдот?
— Это бестолку, его так не расшевелишь.
— Вы готовы отвечать на эти вопросы до потери сознания?
— Я как-то не собираюсь терять сознания. А вопросы не портятся, если я сейчас пойду спать — пусть лежат, ждут своего часа.
— Какой вопрос вы хотели бы услышать от мироздания?
— Я считаю, что от мироздания ничего не надо хотеть, и, тем паче требовать. А то будет как с тем человеком, что больше всего хотел сбросить десять килограммов, тут же попал под трамвай, и ему ногу отрезало.
— Что вы извлекаете из общения с мирозданием?
— Воду, белки, жиры, углеводы и минеральные вещества. А так же — кислород из воздуха.
— В чём смысл жизни? а то мирозданию самому интересно…
— Не знаю.
— Мне очень нравится играть в эту игру с Вами. И когда Вы величаете меня Мирозданием. Я ни с кем больше не хочу, я хочу только с Вами. И никак Вам прямо об этом не скажу. Не могу. А Вы меня не понимаете и приписываете мне какие-то вовсе несуществующие роли.
— Это не вопрос, это — утверждение.
— Ну хорошо, утверждение. А вот вопрос: а вам нравится играть в эту игру с Мирозданием, или Вы это делаете ради какой-либо призрачной выгоды?
— Да отчего же призрачной? Выгода вполне ощутимая — я формулирую вещи, которые, может, не сформулировал бы. Руки б не дошли.
— Не обидно, что так мало вопросов задают?
— Когда как. Если скучать, то, может и жалко, что мало. А если другие дела есть — так и Бог с ними. Сейчас дела есть.
— Хочется ли Вам любви безрассудной, безумной? Ну, хотя бы во сне, рядом с тихо сопящей женой?
— Безрассудной и безумной любви рядом с тихо сопящей женой?! Такого не хочется — я в одном порнографическом фильме это видел, и такие искусственные риски меня не возбудили.
Извините, если кого обидел.
24 июля 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
***
— Какие события (явления) в общественной жизни России внушают Вам надежды?
— Восходы и закаты.
***
— Вы умный?
— Задним числом — очень. Просто страшно становится, какой я умный задним числом.
***
— А какие вопросы вам нравятся? На какие вопросы вам приятно отвечать?
— Нравятся? Ну, когда меня спрашивают, положить ли мне ещё добавки. А вообще-то мне нравятся такие вопросы, отвечая на которые, можно что-то (для меня) важное сформулировать. Лучше я расскажу, какие вопросы мне точно не нравятся.
Во-первых, плохо сформулированные. Типа «А я думал, вы тут, надо довольно сильно задаваться и возомнили о себе. Мне неинтересно». Что хотел спросить человек — непонятно. Видно, что душа у него болит, а как помочь ему — неясно.
Во-вторых, вопросы, которые построены по известным шаблонам: «Признайтесь, вы же просто завидуете! Да?». Кому-то я точно завидую, и, кстати, интересно почему. Но на такие вопросы в Сети уже придуманы такие же ответы — раньше они были остроумными, а теперь немного затёрлись. Диалог превращается в бесконечное: «А?» — «Хуй на!»…
В-третьих, вопросы про абстрактные понятия. Типа «Правда ли, что все мужики — сволочи?» или «Правда ли, что все бабы — дуры?». Это настолько абстрактно, что не за что уцепиться в ответе — ну, можно придумывать что-то более или менее остроумное, но это будет натужно и ужасно скучно.
Пока это всё, что я придумал.
***
— Не пора ли Вам сказать уже: «Подите прочь — какое дело поэту мирному до вас»?
— Не пора. Вдруг мне захотят предложить денег?
***
— Поясните ваше отношение к людям, отошедшим от мира сего в область буддистских просветлений, ЛСД-экспириенсов, миролюбивых хиппозных курений и так далее, с целью достижения гармонии с самим собой и окружающим миром, или и того хлеще с целью победить бытие?
— У меня нет к ним никакого отношения. Я желаю им доброго здравия, но не очень хотел бы жить рядом с ними — потому что быт их ужасен, а бытие всегда побеждает.
***
— А почему вы свой тви забросили?
— Ну, Твиттер это всё-таки ресурс для записей в движении, с телефона. А я сейчас по большей части дома сижу. Кроме того, есть такая психологическая проблема — очень сложно контролировать свои записи, если ты их делаешь в трёх местах. Не в том дело, что о чём-то проговоришься, это — Бог с ним, а в том. что я всё-таки ценю свою записанную мысль — поди её потом найди. А если потеряется — жалко. Вот я и пишу в Живой Журнал — тем более, что процесс для меня мало отличается от твиттинга — с моего телефона это тоже легко.
— А как вы собираете мысли после бесед — сразу же достаете свой смартфон и записываете?
— Это смотря какие беседы. Вот я иногда хожу к друзьям-алкоголикам, так там записывай — не записывай, мысли довольно кривые выходят. А вот этим летом я проговорил с одним человеков часа два в лесу, у потухшего костра — так потом пошёл в палатку и мелким почерком исписал восемь страниц в путевом дневнике.
Но самое главное — память. Опыт показывает, что память всё равно главнее записей.
Извините, если кого обидел.
25 июля 2011
(обратно)
История про интересные покупки
Вчера провёл несколько разговоров:
— о заказных убийствах,
— о причудливости биографического жанра,
— о том, что теперь о неполадках в Живом Журнале сообщают по главным телевизионным каналам. Кстати, это дурной симптом — теперь снобы должны всё быстрее мигрировать из Живого Журнала на какой-нибудь Google+ — а это мне не очень нравится. Это ведь как посетители в кафе, которые делают две трети удовольствия от посещения. Впрочем, я написал об этом эссей десять лет назад, и обидно что всё сбывается.
— о факультете защиты информации,
— и о покупках анальных пробок (последняя тема оказалась для меня внове — нет, я как-то видел эти штуковины в интересном кино, но ни разу не видел их в деле. Сочетание "анальная пробка" для меня было чем-то медицинским: "Доктор, срочно! Пациент в третьей операционной! Анальная пробка! Сестра, дефибриллятор, восемь кубиков феназепама!" — ну, как-то так. Много загадок таит внутренняя жизнь.
Извините, если кого обидел.
26 июля 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Пишете ли Вы длинные тексты?
— У меня такое впечатление, что всю жизнь я пишу один бесконечный, ужасно длинный текст, который время от времени пишется в разном стиле и разным почерком, но на самом деле — един.
— Ваш ответ понятен — я читал ваши тексты. Но все-таки, давайте снова попробую спросить, есть ли (в планах?) длинные тексты?
— Ну, так вопрос был «пишу ли я», а не «каковы ваши, хехе, творческие планы». Можно сказать вот что: есть тексты длинные, но состоящие из связанных друг другом частей. Сейчас у меня есть три таких книги, и судьба их разная. Одна, дай Бог, выйдет скоро, с другой работают, а третью (очень хорошую) я придерживаю. Но понятно, что бывают «просто длинные тексты». Романы, или, как говорят деликатные литературоведы, романная форма.
И я сейчас как раз думаю, что нужно написать три романа, я постоянно ношу их в голове, перекладываю их от затылка ко лбу, что-то с ними происходит. У них есть такие рассказы-зародыши. Знаете, есть такие детские игрушки — нужно засунуть в стакан с водой маленькую резиновую ящерицу, а к утру она разбухнет в десять раз. Вот это как раз такие протороманы — только, увы, к утру ничего само собой не случится. Это довольно трудно — рассказывать историю, особенно, когда этот рассказ нужно записывать.
Потом я придумал два фантастических сюжета, и мне очень хочется сочинить вокруг них истории, потому что это та часть науки, которую я знаю, которой занимался несколько лет, но писать в стол мне такие романы нехочется. Наука вещь быстрая, а ещё быстрее меняется интерес к ней.
Но в это громадьё планов включается известный регулятор — финансовый кран, который определяет нашу жизнь.
Как-то так.
***
— Почтеннейший Березин, зачем Вы сделались лысый?
— Для гармонии.
— А когда вы избрали лысый образ жизни?
— Лет с двадцати пяти у меня был чёткий график: десять лет так, десять лет этак. Но я думаю, что с годами я буду лишён выбора. Кстати, очень правильная фраза «лысый образ жизни». Я как-то хотел написать о нас, лысых, большое эссе.
Там должна была быть история из фильма «Котовский» и рассуждение о вшах Гражданской войны.
Там должна была быть страница о плешивых из «Тысячи и одной ночи».
Там должны быть описаны скинхеды и тот человек из романа Ильфопетрова, на лысине которого так хотелось написать химическим карандашом какое-нибудь слово.
Много там должно было всего быть.
***
— Если бы вы были клоуном, то каким — рыжим или белым?
— Роналдом Макдоналдом. Я люблю поближе к кухне.
— Значит, рыжим. А кухня-то какая? Итальянская, немецкая, китайская?
— Совершенно не обязательно «значит, рыжим». Есть ведь и иные деления — ковёрный и буфф, а Роналд так и вовсе состоит при МакДональдсах. Какая, например, кухня в этих заведениях? Она постиндустриальная, глобалисткая — это особая тема. МакДональдс ведь придуман так, что в любой стране мира вы получите нечто предсказуемое. Ну и бесплатный туалет — хотя тут мир уже научился бороться с писающими путешественниками.
Извините, если кого обидел.
26 июля 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Вот с этими всеми вопрошаниями-отвечаниями не чувствуете ли Вы себя слегка Баневым на встрече со школьниками?
— Я благодаря вам, перечитал это место. Вообще эту повесть можно воспринимать по-разному, и гимназистов, что задают вопросы Баневу, я не люблю. Мне они неприятны — так, наверное, были неприятны недобитому интеллигенту, вжавшемуся в угол своей квартиры, вернее, той комнаты от неё, что ему оставили, молодые комсомольцы, что ходят по коридору. Причём, у Банева была смесь страха и удовольствия, а у меня «с интересом постороннего прислушиваясь к своим ощущениям, и он не удивился, ощутив гордость. Это были призраки будущего, и пользоваться у них известностью было все-таки приятно». Тут призраков нет, нет и избыточной известности.
С другой стороны, все эти вопросы, анонимные и нет, имеют несколько свойств.
Во-первых, эта такая игра в фанты (если на вопросы отвечать честно), это щекочет нервы, как игра «на желание».
Во-вторых, это щекочет самолюбие — если тебя о чём-то спрашивают, даже «Который час?», значит, ты жив, ты ещё кому-то интересен.
В-третьих, это совершенствует навыки острословия.
В-четвёртых, в результате ответов на вопросы ты сам можешь что-то понять (как вы помните, когда гимназисты спрашивают писателя Банева, то их не очень интересуют ответы. Гимназисты его препарируют, исследуют его реакции. Я очень хорошо понимаю, что большая часть вопросов задаётся не из желания получить точный ответ. Люди спрашивают, чтобы поговорить, чтобы обозначить собственное присутствие, ну и — чтобы услышать звук своего голоса. Другое дело, что я, отвечая, могу тоже понять что-то, вспомнить цитату и сформулировать то, что давно хотел сформулировать, но как-то не доходили руки.
***
— Давно хотел задать Вам какой-нибудь вопрос, но понял, что глуп. А зачем Вам глупцы? Как быть?
— Жить себе дальше. Тут, главное, избегать кокетства, которое связано с желанием, чтобы тебя разубеждали. Тут ведь есть опасность, что вам ответят «Коли такой глупый, так и сидите себе дома», ну и возникнет некоторая обида. Если не боитесь, то хорошо. Я ведь и сам склонен к самоуничижению, но в силу жизненного опыта готов и к такому результату.
***
— Вы весь такой положительный, неужто без изьянов? (Осторожней — в Вас все влюбятся. А это — бремя).
— Вот уж чего я могу не опасаться, так этого. А если серьёзно — на расстоянии многое кажется положительным: «Помню, во время моего пребывания в Лилипутии мне казалось, что нет в мире людей с таким прекрасным цветом лица, каким природа одарила эти крошечные создания. Когда я беседовал на эту тему с одним ученым лилипутом, моим близким другом, то он сказал мне, что моё лицо производит на него более приятное впечатление издали, когда он смотрит на меня с земли, чем с близкого расстояния, и откровенно признался мне, что когда я в первый раз взял его на руки и поднес к лицу, то своим видом оно ужаснуло его. По его словам, у меня на коже можно заметить большие отверстия, цвет её представляет очень неприятное сочетание разных красок, а волосы на бороде кажутся в десять раз толще щетины кабана; между тем, позволю себе заметить, я ничуть не безобразнее большинства моих соотечественников».
***
— Вы счастливый человек? Ну, ясно, что на этот вопрос однозначно ответить невозможно: это зависит от погоды, от настроения.
— Сейчас как-то не очень. Хотелось бы побольше радости, но тут уж только молиться и надеяться. Знаете, 25 ноября 1866 года Тютчев написал письмо дочери — он поздравлял её с днём ангела. В этом письме какой-то холодный ужас, ужас от познания мира. Тютчев создал самый жёсткий формат поздравления: письмо написано по-французски, перевод этой части письма следующий: «Всё, что ты мне говоришь о последнем письме о живительной силе, которую черпает душа в смирении, идущем от ума, конечно, весьма справедливо, но что до меня, то признаюсь тебе, я не в силу смириться с твоим смирением и, вполне восхищаясь прекрасной мыслью Жуковского, который как-то сказал: «Есть в жизни много прекрасного и кроме счастия», я не перестаю желать для тебя счастия…».[68]
Извините, если кого обидел.
26 июля 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
***
— На обложке какого журнала хотели бы увидеть свою фотографию? (И с какими словами).
— Упс. Хороший вопрос. Наверное, так: обложка National Geographic с чёткой надписью: «Под шубой сибирских степей обнаружен весёлый косматый абориген. Говорить не умеет».
***
— Насколько для Вас важен визуальный ряд: цвет, форма, пропорции, шрифт, которым набран текст?..
— Визуальный ряд чего? Книги, что ли? Был важен, да — а теперь новые хоть с коммуникатора читаю.
***
— У Вас была гёрлфренд (любой серьёзности/продолжительности) — иностранка (настоящая, не из бывших союзных республик)?
— Как-то вы меня напугали, это ж какая картина — «гёрлфренд» (слово, по-моему, гадкое) да ещё она по любому серьёзна, и, о ужас, гёрлфренд любой продолжительности. А так-то всякое бывало.
— Вы часто говорите и пишете: «красивая женщина»… А что входит в это понятие, в Вашем понимании? Какие параметры: рост, вес, длина ноги от бедра?
— Не знаю. Тут ведь нет общих правил. Резиновые женщины имеют идеальные пропорции, но толку в этом мало.
— Красота — чисто эстетически, приятно смотреть. Но тогда «роковая женщина или розовая и пухлая»?
— Это вы прекратите, это свиноводство какое-то.
— На каких животных чаще похожи женщины? Женщины вообще? Вами любимые женщины?
— На весь животный мир. Разом.
— Что вкуснее — курица, рыба, мясо или сладкая женщина?
— Откуда ж мне знать, ведь я не людоед.
Извините, если кого обидел.
27 июля 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
***
— Бывает ли, что Вас мучает бессонница? О чём Вы размышляете тогда? О чём зимой, и о чём летом?
— Страшный вопрос, кстати. Дело в том, что у меня часто бывает бессонница. Много лет назад это было проблемой — в полночь играл по радио гимн, и ты до шести утра, до такого же гимна, только утреннего, оставался один на свете. Телевидение ещё раньше прекращало передачи, а коротковолнового приёмника у меня не было. Вот это была проблема, страшно вспомнить.
У хорошего писателя Пруста есть такое место — больной просыпается ночью, и видит, что из-под двери пробивается свет. Он радуется, что настаёт утро, новый день, но это просто слуги прошли со свечой по коридору, и нужно мучится ещё несколько часов в одиночестве. Я лежал в больницах и знаю эту ситуацию.
А вот в обычной жизни, где ночью можно выйти в Сеть, на другой стороне планеты день и можно поговорить с людьми, что давно там живут, в жизни, где телевизор круглосуточно — уже не так неуютно. Но ночью с другой стороны хорошо — мало кто тревожит, можно делать, что хочешь. Можно написать что-нибудь или читать других.
Так или иначе, все случаи бессонницы сейчас упираются в экран и клавиатуру.
***
— Оправдали ожидания своих родителей?
— Невозможно понять. Отца уже не спросишь, а матушка моя скромна была в своих ожиданиях. Я же собственными успехами не очень доволен — в смысле того, что недостаточно ресурсов накоплено.
— Вы хороший родитель?
— Помру — увидим.
***
— Вам хочется славы? Влияния на людей?
— Ужасно хочется. Чтобы приходишь в магазин, набираешь полный вещмешок капусты, а потом делаешь такие пассы ладонями, и тебе только кланяются — ступайте, мол, какие там деньги? Чего там!.. А потом тебе ещё перезванивают, и говорят, что хотят тебя поить, кормить и возить по всему миру вечно, лишь бы я только отвечал на какие-нибудь вопросы.
***
— Какое время года любите?
— Апрель люблю. Апрель похож на субботу. Мне в детстве нужно было ходить в школу по субботам, и когда ты выходил из школы, то понимал, что у тебя есть этот день, вечер, и ещё целое воскресенье. Так и апрель — после него будет ещё май, потом целое лето. А потом золотая осень, которую я люблю не меньше апреля.
***
— Вы мизантроп?
— Да.
Извините, если кого обидел.
27 июля 2011
(обратно)
История про именины
Провёл именины тавтологическим образом.
Однако ж, они оказались самыми запоминающимися, из тех что были.
Извините, если кого обидел.
29 июля 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Знаете, почему сократили размер постов до печатной страницы? Потому что СУП жаден и не очень умен: вместо обрезки тяжелых рекламных бантиков и прочего дизегни, режет тексты юзеров.
— Это не вопрос. Это — утверждение.
— Хорошо, тогда вопрос: доколе? Вы лично не подумываете об альтернативном варианте? Можно ведь транслировать контент оттуда в жж, а в моменты неживости, как сейчас, спокойно обсуждать что угодно, подальше от ЖКХ.
— Мне кажется, что эсхатологическая паника «Нам всем конец, давайте искать ковчег» сродни ажитации вокруг последнего листка отрывного календаря майя и планете Нибиру. Можно, конечно, метнуться и купить акции Компании по Строительству Спасительных Космических Кораблей, но можно и не суетиться. Будем жить — пить-гулять будем, а смерть придёт — помирать будем. Рецепт верный: «1 фунтовый бифштекс и 1 пинта горького пива каждые 6 часов. 1 десятимильная прогулка ежедневно по утрам.1 кровать ровно в 11 ч. вечера. И не забивать себе голову вещами, которых не понимаешь».
— Да это не паника, а мысли о втором санузле, безо всякой суеты. Вот вы же завели вопрошальник, и мило отвечаете на вопросы, пока сантехники занимаются первым.
— Нет, этот вопрошальник совсем иная игра — что-то вроде фантов. То есть, это пространство, где некто может мне задать абсолютно анонимный вопрос.
Причём на любую тему — и весь фокус в том, что я не веду здесь диалог (и этот бы не вёл, потому что мне тут диалоги не нравятся).
Я тут отвечаю на отъединённые вопросы, причём говорю даже с потенциальным знакомым как с настоящим анонимом. Это очень интересный опыт именно в процедуре ответов, когда я даже и не хочу знать, кто меня спрашивает. Это вопросы Мироздания.
Извините, если кого обидел.
30 июля 2011
(обратно)
История про технологии
— Вы — физик. Почему вы не высказываетесь о Сколково?
— В этом-то вся прелесть разговоров о «сколково», «феминизме», «викторсуворове» и заключена, что это разговоры не профессионалов, а сеансы психотерапевтического выговаривания. Никто про это «Сколково» толком ничего не знает, но сказать хотят всё — чтобы сострить (а состривший человек всегда чувствует некоторый подъём настроения), чтобы разрядить своё раздражение и т. п. И окружающий мир с охотой предоставляет человеку такие точки для выговаривания — все знают, что есть такое «сколково», и это связано с наукой. Если человек родом из СССР получил Нобелевскую премию, а потом его пригласили (или хотели пригласить) в место «сколково», а он отказался, то из этого, как из капли воды, можно вывести весь Мировой океан. Тут и начинается психотерапевтическое выговаривание — мы, к тому же, не знаем подробностей приглашения — кто, как, в каких словах, да и прочие люди путаются в формулировках отказа. Психотерапевтическое выговаривание в том, что событие с неопределёнными чертами начинают наделять чертами, подходящими для эмоциональной реакции. Однако суть «сколково» даже не в этом — всё в мотивациях. Мы забываем мотивации, и, в частности, мотивацию создания не наукограда, а самого понятия «сколково». Мне представляется, что главная мотивация — это иметь повод для гордости. (Не попил денег, не прочие дела — хотя это всё всегда сопутствует гордости). Само по себе развитие, имеющее толчком гонор, ничего ужасного не несёт, даже наоборот. Но его надо отличать от новации, имеющей в основе целесообразность, или какие-нибудь естественные причины.
Мне кажется, что беда в том, что Сколково неестественно. Со стороны это, в общем, так кажется. Хотя вот добрый мой друг, буровых дел мастер О!Рудаков рассказывает нам, возвращаясь с работы там, что там просто строят огромный бизнес-центр. Естественнен ли в Подмосковье бизнес-центр с конференц-залами и офисами? Да отчего же нет — только к каким-то открытиям он имеет опосредованное отношение.
Однако, я помню, что советское самолётостроение в двадцатые (и космонавтика в пятидесятые) со стороны тоже были неестественны. Любая новация в своё отсутстствие кажется неествественной. И я вот готов поверить в Сколково (и без всякой фанаберии буду рад успехам этого предприятия — буду рад любой удаче), если будет понятно, что за ним стоят умные энтузиасты. Академгородок возник в куда более чиновной и регламентированной стране, чем мы видим сейчас вокруг себя. Но пока естественности в понятии «сколково» не наблюдаю.
— Как вы считаете, с этой ли планеты человеческий род? Не занесены ли мы, по всем канонам научной фантастики на Землю искусственно? Или, быть может, занесён на эту планету не человек, а только его разум? Интересно узнать ваше мнение по этому частому вопросу.
— Знаете, если честно говорить, то я ничего не думаю по этому поводу. То есть, я как-то участвовал в дискуссиях по поводу панспермии, но спорил по поводу логичности современных теорий. Для меня проблемы «как это было на самом деле» слишком далеки — разве если мне закажут фантастический рассказ написать.
Извините, если кого обидел.
31 июля 2011
(обратно)
История про день ВМФ
По счастливому обстоятельству текст рассказа про День флота я написал довольно давно и давно выложил в Журнале, оттого технических проблем с ним нет.
Поздравляю всех причастных с праздником, вечная память моим близким — подводнику, капитану первого ранга Владмиру Реммеру, Глебу Седину, командиру зенитного дивизиона линкора "Марат".
Восемь транспортов и танкер
Старший лейтенант Коколия задыхался в тесном кителе. Китель был старый, хорошо подлатанный, но Коколия начал носить его задолго до войны, и даже задолго до того, как стал из просто лейтенанта старшим и, будто медведь, залез в эту северную нору.
Утро было тяжёлым, впрочем, оно не было утром — старшего лейтенанта окружал вечный день, долгий свет полярного лета.
Он старался не открывать лишний раз рот — внутри старшего лейтенанта Коколия усваивался технический спирт. Сложные сахара расщеплялись медленно, вызывая горечь на языке. Выпито было немного, совсем чуть — но Коколия ненавидел разведённый спирт.
Сок перебродившего винограда, радость его, Коколия, родины, был редкостью среди снега и льда. Любое вино было редкостью на русском Севере. Поэтому полночи Коколия пил спирт с торпедоносцами — эти люди всегда казались ему странноватыми.
Впрочем, мало кто представлял себе, что находится в голове у человека, который летит, задевая волны крыльями. Трижды приходили к нему лётчики, и трижды Коколия знакомился со всеми гостями, потому что никто из прежних не приходил. Капитан, который явился с двумя сослуживцами к нему на ледокольный пароход с подходящим названием «Лёд», был явно человек непростой судьбы. Чины Григорьева были невелики, но всё же два старых, ещё довоенных, ордена были прикручены к кителю. Капитан Григорьев был красив так, как бывают красивы сорокалетние мужчины с прошлым, красив чёрной формой морской авиации, но что-то было тревожное в умолчаниях и паузах его разговора. Капитан немыслимым способом получил отпуск по ранению, во время этого отпуска искал свою жену в Ленинграде и увидел в осаждённом городе что-то такое, что теперь заставляло дергаться его щёку.
Тут даже спирт не мог помочь. Григорьев рассказывал ему, как ищет подлодки среди разводий, и как британцы потеряли немецкий крейсер, вышедший из Вест-фиорда. Что нужно было немцу так далеко от войны — было непонятно. Разве что поставить метеостанцию: высадить несколько человек, поставить на берегу домик или вовсе утеплённую палатку с радиостанцией. Такие метеостанции они ставили, но здесь её смысл был неочевиден.
Ветра в нашем полушарии были больше западные, и для чётких прогнозов нужно было лезть в Гренландию, а не к Таймыру. В общем, цели крейсера оставались загадкой.
Пришёл на огонёк и другой старший лейтенант, артиллерист. Он рвался на фронт, и приказ уже был подписан — один приказ и на него, и на две его старые гаубицы. За год они не выстрелили ни разу, но артиллерист клялся, что если что — они не подведут.
Спирт лился в кружки, и они пили, не пьянея.
А теперь Коколия стоял навытяжку перед начальником флотилии и слушал, слушал указания.
Нужно было идти на восток, навстречу разрозненным судам, остаткам конвоя, что ускользнули от подводных лодок из волчьей стаи — и при этом взять на борт пассажиров-метеорологов.
При этом старший лейтенант утратил часть своей божественной капитанской власти. Оказалось, что это не пассажиры подчиняются ему, а он — пассажирам.
Пассажиров оказалось несколько десятков — немногословных, тихих, набившихся в трюм, но были у них два особых начальника.
Коколия раньше видел много метеорологов — поэтому не поверил ни одному слову странной пары, что поднялась к нему на борт.
Один, одетый во всё флотское, был явно сухопутным человеком. Командиром — да, привыкшим к власти, но эта власть была не морской природы, не родственна тельняшке и крабу на околыше. Фальшивый капитан перегнулся через леера прямо на второй день. И это был его, Серго Коколия, начальник — капитан Фетин, указывавший маршрут его, Коколия, штурману, и отдававший приказы его, Коколия, подчинённым.
Его напарник был явно привычен к морю, но измождён, и шея его болталась внутри воротника, как язык внутри рынды.
Коколия вгляделся в него в кают-компании и понял, что этот худой — совсем старик, хотя волосы его и лишены седины. Старика называли Академиком, это слово просилось на заглавную букву.
«Лёд» был старым пароходом с усиленной защитой — он не был настоящим ледоколом, как и не был военным судном. На нём топорщились две пушки Лендера и две сорокапятки — так что любая конвенция признала бы его военно-морским. Но конвенции пропали пропадом, мир поделился на чёрное и белое. Чёрную воду и белый лёд, полосы тельняшек — и ни своим, ни врагам не было дела до формальностей.
Старший лейтенант давно уравнял свой пароход с военным судном — и что важно, враг вывел в уме то же уравнение.
Коколия трезво оценивал свои шансы против подводной лодки противника, оттого указания пассажиров раздражали.
Он был вспыльчив, и, зная это, старался заморозить свою речь вообще. Например, его раздражал главный механик Аршба, и тот отвечал ему тем же — они не нравились друг другу как могут не нравиться друг другу грузин и абхаз.
Помполит Гельман пытался мирить их, но скоро махнул рукой.
Но Аршба был по сравнению с новыми пассажирами святым человеком.
Они шли странным маршрутом, и Академик, казалось, что-то вынюхивал в арктическом воздухе — он стоял на мостике и мелкими глотками пил холодный ветер.
— А отчего вас Академиком называют? — спросил Коколия. — Или это шутка?
— Отчего же шутка, — улыбнулся тот, и Коколия увидел, что у собеседника не хватает всех передних зубов. Я как раз академик и есть. Член Императорской академии наук. Никто меня вроде бы не исключал — только посадили меня как-то Бабе-Яге на лопату, да в печь я не пролез. Вас предупредили насчёт Фетина?
— Ну?
— Фетин отменит любой ваш приказ — если что. Но на самом деле Фетину буду советовать я.
— В море вы не можете отменить ничего, — сорвался Коколия. Но это означало только, что в душе у него, как граната, лопнул шарик злости. Он не изменил тона, только пальцы на бинокле побелели.
— А тут вы и ошибаетесь. Потому что всё может отменить даже не часовая, а минутная стрелка — вас, меня, вообще весь мир. Вы же начинали штурманом и знаете, что такое время?
Коколия с опаской посмотрел на Академика. Был в его детстве, на пыльной набережной южного города, страшный сумасшедший в канотье, что бросался к отдыхающим, цеплялся за рукав и орал истошно: «Который час? Который час?».
— Видите ли, старший лейтенант, есть случаи, когда день-два становятся дороже, чем судьба сотен людей. Это такая скорбная арифметика, но я говорю об этом цинично, а вот Фетин будет говорить вам серьёзно. Вернее, он будет не говорить вам, а приказывать.
— Можно, конечно, приказывать, но меня ждут восемь транспортов и танкер, у которых нет ледокола.
— А меня интересуют немецкие закладки, которые стоят восьмидесяти транспортов! — и Академик дал понять, что сказал и так слишком много.
Коколия хотел было спросить, что такое «закладки», но передумал.
Разговор сдулся, как воздушный шарик на набережной — такой шарик хотел в детстве Серго Коколия, да так ни от кого и не получил.
Они молчали, не возобновив разговор до вечера. Академик только улыбался, и усатый вождь с портрета в кают-компании тоже улыбался (хотя и не так весело, как Академик).
Под вождём выцвел лозунг белым на красном — и Коколия соглашался с ним: да, правое, и потом всё будет за нами. Хотя сам он бы повестил что-то вроде «Делай, что должен, и будь что будет».
Академик действительно чуть не проговорился. Всё в нём пело, ощущение свободы не покидало его. Свобода была недавней, ворованной у мирного времени.
Война выдернула Академика из угрюмой местности, с золотых приисков.
И теперь он навёрстывал непрожитое время. А навёрстывать надо было не только глотки свободного, вольного воздуха, но и не сделанное главное дело его жизни.
Гергард фон Раушенбах, бежавший из Москвы в двадцатом году, успел слишком много, пока его давний товарищ грамм за граммом доставал из лотка золотой песок.
И теперь они дрались за время. Время нужно было стране, куда бежал Гергард фон Раушенбах, и давняя история, начавшаяся в подвале университета на Моховой, дала этой стране преимущество.
У новой-старой родины фон Раушенбаха была фора, потому что пока Академик мыл чужое золото одеревеневшими руками, фон Раушенбах ставил опыты, раз за разом улучшая тот достигнутый двадцать лет назад результат.
И теперь одни могли распоряжаться временем, а другие могли только им помешать.
Настал странный день, когда ему казалось, что время замёрзло, а его наручные часы идут через силу.
Коколия понял, что время в этот день остановится, лишь только увидел, как из тумана слева по курсу сгущается силуэт военного корабля.
На корабле реял американский флаг — но это было обманкой, враньём, дымом на ветру.
Ему читали вспышки семафора, а Коколия уже понимал, что нет, не может тут быть американца, не может. Незнакомец запрашивал ледовую обстановку на востоке, но ясно было, что это только начало.
Академик взлетел на мостик — он рвал ворот рукой, оттого шея Академика казалась ещё более костлявой.
Он мычал, глядя на силуэт крейсера.
— Сейчас нас будут убивать, вот, — Коколия заглянул Академику в глаза. — Я вам расскажу, что сейчас произойдёт. Если мы выйдем в эфир, они накроют нас примерно с четвёртого залпа. Если мы сейчас спустим шлюпки, не выйдя в эфир, то выживем все.
А теперь, угадайте, что мы выбираем.
— Мне не надо угадывать, — сказал хмурый Академик. — Довольно глупо у меня вышло — хотел ловить мышей, а поймался сам. Мне не хватило времени, чтобы сделать своё дело, и ничего у меня не получилось.
— Это пока у вас ничего не получилось — сейчас мы спустим шлюпку, и через двадцать минут, когда нас начнут топить, мы поставим дополнительную дымовую завесу. Поэтому лично у вас с вашим Фетиным и частью ваших подчинённых есть шанс размером в двадцать минут. Если повезёт, то вы выброситесь на остров, он в десяти милях.
Но, честно вам скажу мне важнее восемь транспортов и танкер…
Он просмотрел в бинокль на удаляющуюся шлюпку.
— Матвей Абрамович, — спросил Коколия помполита. — Как вы думаете, сколько продержимся?
— Час, я думаю, получится. Но всё зависит от Аршбы и его машины — если попадут в машинное отделение, то всё окончится быстрее.
— Час, конечно, мало. Но это хоть что-то — можно маневрировать, пока нам снесут надстройки. Попляшем на сковородке…
Коколия вдруг развеселился — по крайней мере, больше не будет никакого отвратительного спирта и Полярной ночи. Сейчас мы спляшем в последний раз, но главное, чтобы восемь транспортов и танкер услышали нашу радиограмму.
Это было как на экзамене в мореходке, когда он говорил себе — так или иначе, но вечером он снова выйдет на набережную и будет вдыхать тёплое дыхание тёплого моря.
Коколия вздохнул и сказал:
— Итак, начинаем. Радист, внимание: «Вижу неизвестный вспомогательный крейсер, который запрашивает обстановку. Пожалуйста, наблюдайте за нами». Наушники тут же наполнились шорохом и треском постановщика помех.
Семафор с крейсера тут же включился в разговор — требуя прекратить радиопередачу.
Но радист уже отстучал предупреждение и теперь начал повторять его, перечисляя характеристики крейсера.
«Пожалуй, ничего другого я не смогу уже передать», — печально подумал Коколия.
И точно — через пару минут ударил залп орудий с крейсера. Между кораблями встали столбы воды.
«Лёд», набирая ход, двигался в сторону острова, но было понятно, что никто не даст пароходу уйти.
Радист вёл передачу непрерывно, надеясь прорваться через помехи — стучал ключом, пока не взметнулись вверх доски и железо переборок, и он не сгорел вместе с радиорубкой в стремительном пламени взрыва.
И тут стало жарко и больно в животе, и Коколия повалился на накренившуюся палубу.
Уже из шлюпки он видел, как Аршба вместе с Гельманом стоят у пушки на корме, выцеливая немецкие шлюпки и катер. Коколия понял, что перестал быть капитаном — капитаном стал помполит, а Коколия превратился в обыкновенного старшего лейтенанта, с дыркой в животе и перебитой ногой.
Этот уже обыкновенный старший лейтенант глядел в небо, чтобы не видеть чужих шлюпок и тех, кто сожмёт пальцы плена на его горле.
Напоследок к нему наклонилось лицо матроса:
— Вы теперь — Аршба, запомните, командир, вы — Аршба, старший механик Аршба.
И вот он лежал у стальной переборки на чужом корабле и пытался заснуть — но было так больно, что заснуть не получалось.
Тогда он стал считать все повороты чужого корабля — 290 градусов, и шли два часа минут, потом доворот на десять градусов, три часа… Часы у него никто не забрал, и они горели зелёным фосфорным светом в темноте.
Эту безумную успокоительную считалку повторял он изо дня в день — пока не услышал колокол тревоги.
То капитан Григорьев заходил на боевой разворот — сначала примерившись, а потом, круто развернувшись, почти по полной восьмёрке, он целил прямо в борт крейсеру, прямо туда, где лежал Аршба-Коколия.
Коколия слышал громкий бой тревоги, зенитные пушки стучали слившейся в один топот дробью — так дробно стучат матросские башмаки по металлическим ступеням.
И Коколия звал торпеду, уже отделившуюся от самолёта, к себе — но голос его был тонок и слаб, торпеда, ударившись о воду, тонула, проходя мимо.
В это время в кабине торпедоносца будто лопнула электрическая лампа, сверкнуло ослепительно и быстро, пахнуло жаром и дымом — и самолёт, заваливаясь в бок, ушёл прочь.
Тогда вновь началось время считалочки — один час на двести семьдесят, остановка — тридцать минут….
Потом Коколия потерял сознание — он терял его несколько раз — спасительно долго он плыл по чёрной воде своей боли. И тогда перед глазами мелькали только цифры его счёта: 290, 2, 10, 3…
И вот его несли на носилках по трапу, а тело было в свежих и чистых бинтах — чужих бинтах.
Его допрашивали, и на допросах он называл имя своего механика вместо своего. Мёртвый механик помогал ему, так и не подружившись с ним при жизни.
Мёртвый Коколия (или живой Аршба — он и сам иногда не мог понять, кто мёртв, а кто жив) глядел на жизнь хмуро — он стал весить мало, да и видел плохо. К последней военной весне от его экипажа осталось тринадцать человек — но никто, даже умирая, не выдал своего капитана.
Таким хмурым гражданским пленным он и услышал рёв танка, что снёс ворота лагеря и исчез, так и не остановившись. Коколия заплакал — за себя и за Аршбу, пока никто не видел его слёз, и пошёл выводить экипаж к своим. Он был слаб и беспомощен, но держался прямо. Ветхая тельняшка глядела из-за ворота его бушлата. Бывший старший лейтенант легко прошёл фильтрацию и даже получил орден. Нога срослась плохо, но теперь он знал, что на Севере есть по крайней мере восемь транспортов и танкер.
Коколия уехал на юг и теперь сидел среди бумажных папок в Грузинском пароходстве.
Иногда он вспоминал чёрную Полярную ночь, и холод времени проникал в центр живота. Коколию начинала бить крупная дрожь — и тогда он уходил на набережную, чтобы пить вино с инвалидами. Они, безногие и безрукие, пили лучшее в мире вино, потому что оно было сделано до войны, а пить его приходилось после неё. От этого вина инвалиды забывали звуки взрывов и свист пуль.
Иногда, до того, как поднять стакан, Коколия вспоминал своих матросов — тех, что растворились в холодной воде северного моря, и тех, кто легли в немецкую землю. Сам Север он вспоминал редко — ему не нравились ледяные пустыни и чёрная многомесячная ночь, разбавленная спиртом.
Но однажды он увидел на набережной человека в дорогом мятом плаще. Так не носят дорогие плащи, а уж франтов на набережной Коколия повидал немало.
Человек в дорогом мятом плаще шёл прямо в пароходство, открыл дверь и обернулся, покидая пространство улицы. Приезжий обернулся, будто запоминая прохожих поимённо и составляя специальный список.
В этот момент Коколия узнал приезжего. Это был спутник Академика, почти не изменившийся с тех пор Фетин — только от брови к уху шёл у гостя безобразный белый шрам.
Фетин действительно искал бывшего старлея. Когда тот, прижимая к груди остро и безумно для несытного года, пахнущий лаваш, поднялся по лестнице в свой кабинет, Фетин уже сидел там.
Дело у Коколия, как и прежде, было одно — подчиняться. Оттого он быстро собрался, вернее, не стал собираться вовсе. Он не стал заходить в своё одинокое жилище, а только взял из рундучка в углу смену белья, и сунул её в кирзовый портфель вместе с лавашом.
Вот он уже ехал с Фетиным в аэропорт.
Его спутник нервничал — отчего-то Фетина злило, что бывший старший лейтенант не спрашивает его ни о чём. А Коколия только медленно отламывал кусочки лаваша и совал их за щеку.
Самолёт приземлился на пустом военном аэродроме под Москвой. Там, в домике на отшибе, у самой запретной зоны Коколия вновь увидел Академика.
Тот был бодр, именно бодрым стариком он вкатился в комнату — таких стариков Коколия видел в только горах. Только вот рот у Академика сиял теперь золотом. Но всё же и для него военные годы не прошли даром: Академик совершенно поседел — в тех местах за ушами, где ещё сохранились волосы.
Коколия обратил внимание, что Академик стал по-настоящему главнее Фетина — теперь золотозубый старик только говорил что-то тихо, а Фетин уже бежал куда-то как школьник.
Вот Академик бросил слово, и, откуда ни возьмись, будто из волшебного ларца, появились на бывшем старшем лейтенанте унты и кожаная куртка, вот он уже летел в гулком самолёте, и винты пели нескончаемую песню: «не зарекайся, Серго, ты вернёшься туда, куда должен вернуться, вернёшься, даже если сам этого не захочешь».
На северном аэродроме, рядом с океаном, он увидел странного военного лётчика. Коколия опознал в нём давнего ночного собеседника, с которым пил жестокий спирт накануне последнего рейса. Тогда это был красавец, а теперь он будто поменялся местами с Академиком — форма без погон на нём была явно с чужого плеча, он исхудал и смотрел испуганно.
Коколия спросил лётчика, нашёл ли он жену, которую так искал в сорок втором, но лётчик отшатнулся, испугавшись вопроса, побледнел, будто он с ним заговорил призрак.
Моряка и лётчика расспрашивали вместе и порознь — заставляя чертить маршруты их, давно исчезнувших под водой, самолёта и корабля. Это не было похоже на допросы в фильтрационном лагере — скорее с ними говорили, как с больными, которые должны вспомнить что-то важное.
Но после каждой беседы бывший старший лейтенант подписывал строгую бумагу о неразглашении — хотя это именно он рассказывал, а Академик слушал.
В паузе между расспросами Коколия спросил о судьбе рейдера. Оказалось, его утопили англичане за десять дней до окончания войны. Английское железо попало именно туда, куда звал его раненый Коколия — только с опозданием на три года. Судовой журнал был утрачен, капитан крейсера сидел в плену у американцев.
Какая-то тайна мешала дальнейшим разговорам — все упёрлись в тайну, как останавливается легкий пароход перед лёдяным полем.
Наконец, Академик сознался — он искал точку, куда стремился немецкий рейдер, и точка эта была размыта, непонятна, не определена. Одним желанием уничтожить конвой не объяснялись действия немца — что-то в этой истории было недоговорено и недообъяснено.
Тогда Коколия рассказал Академику свою, полную животной боли, считалочку — 290 градусов — два часа, 10 градусов — три. Считалочка была долгой, столбики цифр налезали один на другой.
На следующий день они ушли в море на сером сторожевике, и Коколия стал вспоминать все движения немецкого рейдера, которые запомнил в давние бессонные дни.
Живот снова начал болеть, будто в нём поселился осколок, но он точно называл градусы и минуты.
— Точно? — Переспрашивал Академик, — и Коколия отвечал, что нет, конечно, не точно.
Но оба знали, что — точно. Точно — и их ведёт какой-то высший штурман, и проводка сделана образцово.
Коколия привел сторожевик точно в то место, где он слышал журчание воды и тишину остановившихся винтов крейсера.
Сторожевик стал на якорь у таймырского берега.
Они высадились вместе со взводом автоматчиков. Фетин не хотел брать хромоногого грузина с собой, но Академик махнул рукой — одной тайной больше, одной меньше.
Если что — всё едино.
От этих слов внутри бывшего старшего лейтенанта поднялся не страх смерти, а обида. Конечно — да, всё едино. Но всё же.
Они шли по камням, и Коколия пьянил нескончаемый белый день, пустой и гудящий в голове. За скалами было видно огромное пустое пространство тундры, смыкающейся с горизонтом.
Группа повернула вдоль крутых скал и сразу увидела расселину — действительно, незаметную с воздуха, видную только вблизи.
Здесь уже начали попадаться обломки ящиков с опознавательными знаками Кригсмарине и прочий военный мусор. Явно, что здесь не просто торопились, а суетились.
Дальше, в глубине расселины, стояло странное сооружение — похожее на небольшой нефтеперегонный завод.
Раньше он было скрыто искусственным куполом, но теперь часть купола обвалилась. Теперь со стороны моря были видны длинные ржавые колонны, криво торчащие из гладкой воды.
Тонко пел свою песню в вышине ветряной двигатель, но от колонн шёл иной звук — мерный, пульсирующий шорох.
— Оно? — выдохнул Фетин.
Академик не отвечал, пытаясь закурить. Белые цилиндры «Казбека» сыпались на скалу, как стреляные патроны.
— Оно… Я бы сказал так — забытый эксперимент.
Фетин стоял рядом, сняв шапку, и Коколия вдруг увидел, каким странно-мальчишеским стало лицо Фетина. Он был похож на деревенского пацана, который, оцарапав лицо, всё-таки пробрался в соседский сад.
— Видите, Фетин, они не сумели включить внешний контур — а внутренний, слышите, работает до сих пор. Им нужно было всего несколько часов, но тут как раз прилетел Григорьев. К тому же, они уже потеряли самолёт-разведчик, и как не дёргались, времени им не хватило.
Академик схватил Коколия за рукав, старик жадно хватал воздух ртом, но грузину не было дела до его путанной истории.
Фетин говорил что-то в чёрную эбонитовую трубку рации, автоматчики заняли высоты поодаль, а на площадке появились два солдата с миноискателями. Все были заняты своим делом, а Коколия стремительно убывал из этой жизни, как мавр, сделавший своё дело, и которому теперь предписано удаление со сцены.
Академик держал бывшего старшего лейтенанта за рукав, будто сумасшедший на берегу Чёрного моря, тот самый сумасшедший, что был озабочен временем:
— Думаете, вы тут ни при чём? Это из-за вас им не хватило двух с половиной часов.
— Я не понимаю, что это всё значит, — упрямо сказал Коколия.
— Это совершенно не важно, понимаете вы или нет. Это из-за вас им не хватило двух с половиной часов! Думаете, вы конвой прикрывали… Да? Нет, это просто фантастика, что вы сделали.
— Я ничего не знаю про фантастику. Мне не интересны ваши тайны. За мной было на востоке восемь транспортов и танкер, — упрямо сказал Коколия. — Мой экипаж тянул время, чтобы предупредить конвой и метеостанции. Мы дали две РД, и мои люди сделали, что могли.
Академик заглянул в глаза бывшему старшему лейтенанту как-то снизу, как на секунду показалось, подобострастно. Лицо Академика скривилось.
— Да, конечно. Не слушайте никого. Был конвой — и были вы. Вы спасли конвой, если не сказать больше, вы предупредили всё это море. У нас встречается много случаев героизма, а вот правильного выполнения своих обязанностей у нас встречается меньше. А как раз исполнение обязанностей приводит к победе… Чёрт! Чёрт! Не об этом — вообще… Вообще, Серго Михайлович, забудьте, что вы видели — это всё не должно вас смущать. Восемь транспортов и танкер — это хорошая цена.
Уже выла вдали, приближаясь с юга, летающая лодка, и Коколия вдруг понял, что всё закончилось для него благополучно. Сейчас он полетит на юг, пересаживаясь с одного самолёта на другой, а потом окажется в своём городе, где ночи теплы и коротки даже зимой. Только надо выбрать какого-нибудь мальчишку и купить ему на набережной воздушный шарик.
Шлюпка качалась на волне, и матрос подавал ему руку.
Коколия повернулся к Фетину с Академиком и сказал:
— Нас было сто четыре человека, а с востока восемь транспортов и танкер. Мы сделали всё, как надо, — и, откозыряв, пошёл, подволакивая ногу, к шлюпке.
Извините, если кого обидел.
31 июля 2011
(обратно)
История про законы
Сегодня с утра меня посетила очень странная мысль.
У всех на слуху три знаменитых закона робототехники. Айзек Азимов придумывал три свои закона робототехники давно, и их относят к 1942 году — времени, когда вычислительные машины занимали целые здания и верхом интеллекта считался ПУАЗО — прибор для управления зенитным огнём, больше похожий на арифмометр.
Итак, Законы, если кто не помнит, следующие:
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому и Второму Законам.
Но потом, много лет спустя — в 1986 году, Азимов сформулировал дополнительный закон (его ещё нумеруют числом "0"): "Робот не может причинить вреда человеку, если только он не докажет, что в конечном счёте это будет полезно для всего человечества" — так вот, это совершенно восхитительно.
Азимов, который сам говорил, что этический кодекс роботов есть, собственно, кодекс "нормального человека" изящно дополнил его ещё одним совершенно человеческим правилом. Согласно именно этому правилу развязывалось большинство войн, начинались революции, земля орошалась кровью, и происходили прочие безумства.
Азимов, крепившийся сорок лет, тем самым уподобляется работнице тульского самоварного завода, которая удивлялась. что из украденныых на службе деталей всё время, как не старайся, получается то автомат, то пулемёт.
В общем, все роботы равны, но одни из них равнее.
Извините, если кого обидел.
02 августа 2011
(обратно)
История про день ВДВ
Ну, про сегодняшний день я написал рассказ тоже довольно давно. Так вот жиж он — вывешу второй раз.
(медаль)
Он начал готовится к этому дню загодя.
Собственно, ему немного надо было — тельняшкас синими полосами у него была, и был даже значок за парашютные прыжки — как ни странно, вполне заслуженный. Такие значки давали за небольшие деньги в коммерческих аэроклубах.
После этого он поехал на рынок и купил медаль. Конечно, это был даже не рынок, а его тайный отдел, особый закуток в котором продавцы и покупатели смотрели друг на друга искоса. Однако покупка прошла успешно. Медаль была большая, на новенькой и чистой колодке. Прежде чем расплатиться — стоила медаль копейки, он перевернул её и посмотрел на номер. Номер был большой — она действительно могла принадлежать его сверстнику, а, может, её выдали перед смертью какому-нибудь ветерану войны, забыв вручить вовремя. Он представил себе этого старика с разбухшими суставами пальцев, которыми старик держал эту медаль, и решил, что в судьбе этого куска серебра случился верный поворот.
И вот он вышел из дома, чтобы окунуться в пузырчатый и радостный праздник избранных. Но больше всего его манили женщины. Он видел, как обмякают девушки с рабочих окраин в руках бывших десантников. Он бредил от этих картин, что складывались в его воображении. Законная добыча победителей были не городские фонтаны, и не ставшие на день бесплатными арбузы у торговцев неясных восточных национальностей. Это были женщины, уже успевшие загореть к августу, покорные как вдовы проигравших битву воинов.
Так и случилось — нырнув в толпу, как в море, он тут же почувствовал, что в его правой руке бьётся, как пойманная рыба, женское тело. Новая подруга была средних лет и, видно, много повидала в жизни.
Но фигура, впрочем, у неё была тонкая, девическая.
Она уже льнула к нему, но он вдруг почувствовал себя в смертельной опасности. Бритый наголо человек только что с уважением смотревший на его медаль, стал расспрашивать нового знакомца об их общей войне, и пришлось отшутиться. Бритый наклонился к другому, видно, его товарищу, и что-то сказал. Что-то неодобрительно, кажется.
Товарищ тоже стал смотреть на его медаль, и медаль горела, будто демаскирующая сигарета дурака, закурившего в дозоре. По медали ехал старинный танк, и летели самолёты, их экипажи хотели с отвагой защитить несуществующую уже страну, название которой было прописано ниже. И вот двое потасканных людей, в таких же, как у него тельняшках смотрели на эту королевскую рать: в ту ли сторону она двинулась.
Верной ли дорогой идут товарищи.
Это была настоящая опасность, и она чуть было не парализовала его.
Страх ударил в лицо, как ветер в тот момент, когда он делал шаг из самолёта.
Это был особый страх, хуже страха смерти.
Но самозванец быстро притворился пьяным, и женщина, цепко взяв за руку, потащила его в сторону. Она привезла его к себе домой, и они тут же повалились на скрипучий диван. Он брал её несколько раз, женщина стонала и билась под ним, не зная, что не желание даёт ему силы, а страх выходит из него в простых механических движениях. Наконец, она забылась во сне, а он, шлёпая босыми ногами, прошёлся по грязному полу. Жильё было убого, оно предъявляло жизнь хозяйки, будто паспорт бедной страны без нашей визы.
Женщина была вычеркнута из его памяти мгновенно, пока он пил тёплую мутную воду из кухонного крана. Теперь он знал, что надо делать.
Выйдя из пахнущего сырым подвалом подъезда, он двинулся к себе — десантники разбредались как разбитая армия. Некоторые из них волочили за собой знамёна, будто собираясь бросить их к неизвестному Мавзолею.
На следующий день он, едва вернувшись с работы, включил компьютер и не отходил от него до глубокой ночи. Страх жил в его душе, и как охранник наблюдал за его действиями.
Для начала он посмотрел в Сети все упоминания о той давней войне и составил список мемуаров. Отдельно он записал солдатские мемуары, отдельно — генеральские. Через несколько дней непрерывного чтения он выбрал себе дивизию и полк.
Нужно было, выбрать не слишком знаменитое подразделение, но реально существующее. Армия стояла в чужой стране давно, и множество людей прошли через одни и те же полки и роты. Некоторые ещё помнили своих командиров, поэтому он постарался запомнить не только своих начальников, но и соседних.
Наконец, он стал читать воспоминания своих потенциальных сослуживцев — из других дивизий, конечно. Выбранная им часть, к счастью для него, не была богата воспоминателями. Он запоминал всё — и подробные перечисления свойств вооружения, и анекдоты про каких-то нерадивых офицеров. Затем он стал читать переведённые на русский язык воспоминания с той стороны. Их за бородатыми немногословными людьми в чалмах записывали англичане и американцы. И вот он уже ощущал под пальцами ворс ковра, и вкус того, что варится в казане на тот или иной праздник. Часто он натыкался на незнакомые слова, и на всякий случай учил их наизусть, выучил наизусть он и несколько чужих пословиц, раскатистых, как падение камней по горным склонам.
Он учил и топографию чужой земли, не только города и дороги, но имена ручьёв и кишлаков — благо карт теперь было предостаточно.
На работе на него смотрели косо, а по весне просто уволили. Он не расстроился — только пожал плечами.
Приходя домой, он вытаскивал из ящика письменного стола свою медаль — танк пыхтел, жужжали самолёты, но теперь это была его армия. Он поимённо знал пилотов и название деревни, откуда призвали механика-водителя.
Это был его мир, и он царил в нём. Страх перестал быть конвойным и стал часовым. Страх преобразил его, и он с удивлением вспоминал своё прошлое, будто чужое. Он уже и был — совсем другим. Тот неудачник с купленной медалью был убит лысым десантником. И никто, даже этот вояка, не заметил этой смерти.
Когда снова пришёл август, он вышел на улицу как хищный зверь. Меняя компании, он добрался до центра, его товарищи пили и ржали как лошади, и опять молодые с уважением глядели на его медаль.
Вдруг началась драка.
Как всегда, было непонятно, кто её начал — но их били и крепко. Несколько восточных людей сначала отлупили задиравшую их пару, а потом открыли пальбу из травматических пистолетов.
Были восточные люди хоть молоды, но организованы, а десантники пьяны и испуганы. И вот они дрогнули.
И вот тогда он встал на дороге бегущих и повернул их вспять. Медаль на его груди сверкнула как сигнальная ракета. Он собрал растерявшихся и стал командовать. Слова звучали так же, как в уставах, и, услышав знакомые отрывистые команды, к ним стали присоединятся другие люди в тельняшках. Они окружили восточных людей и стали мстить им за минутное унижение.
В противники ему достался молодой парень, носивший, несмотря на жару, кожанку. Как только они сблизились, молодой выхватил нож, но человек с медалью перехватил его руку.
Не дав разжать молодому пальцы, самозванец ударил этим сжатым кулаком в чужое горло. На мгновение драка замерла, потому что кровью всегда проверяется серьёзность намерений.
И если пролилась кровь, и это никого не заставило сдаться, то драку не остановить. А если под ноги лёг мёртвый, то значит, серьёзность достигла края.
Восточные, или же южные, а, может, юго-восточные люди бежали прочь, оставив на поле боя раненых.
На следующий день за ним пришли трое в серых милицейских мундирах. Но никого не было в доме — жужжал включённый компьютер с пустым диском, да сквозняк гонял по полу какие-то бумажки.
Десантники прятали его на разных квартирах. Он по большей части спал или глядел в потолок.
Такие случаи бывали, но в этот раз ничего не кончилось.
В городе поднялся бунт. Восточные люди пронесли убитого по улицам, прежде чем похоронить. Торговцы первыми арбузами, вчера ещё мирные, избили нескольких милиционеров, заступившим им дорогу. Ещё через день запылали машины перед мэрией,
В его убежище пришли несколько человек и молча встали в прихожей. Вопрос был задан, но не произнесён.
Он спокойно посмотрел им в глаза и назначил старших групп.
— Это особый период, — сказал он под конец, — Особый период, вы поняли? Именно это и есть — Особый период.
Точно в назначенное время его подчинённые явились на встречу. У них уже было оружие и автомобили. Затем они реквизировали запас формы в армейском магазине. Снежный ком обрастал новыми частицами стремительно, и через две недели против них двинули внутренние войска.
Но оказалось, что Самозванец более прилежно учил учебники по тактике. С минимальными потерями он выиграл несколько боёв. Теперь у него был штаб, и несколько человек рассылало воззвания от лица нового партизанского командира.
Иногда их печатали в формате обычного листа, а в уголке помещалась фотография — человек с размытым лицом, но чётко очерченной медалью на груди.
Страх по-прежнему жил в нём, но теперь он стал преградой, не дающей ему вернуться в прежнее состояние, затаиться и спрятаться.
И вот наступил странный мир, против человека с медалью стояла огромная государственная машина, но свой особый страх разъедал и её. А если не решиться на что-то сразу, то с каждой секундой резкое движение становится всё менее пригодным.
Огромный край принадлежал теперь ему — и, играя на железнодорожной магистрали, как на флейте, он добился перемирия с правительством. Впрочем, страна рушилась, и что не месяц, от неё откалывались куски.
Вокруг него возник уже целый бюрократический аппарат. Два раза человек с медалью провёл чистки, показательно расстреливая проворовавшихся сподвижников. Этим он убивал двух зайцев — уничтожал вероятных соперников и подогревал народную любовь. Жизнь стала проста и понятна — был урожай, и был лес на продажу, был транзит, с которого бралась дань. Экономика упростилась, и оказалось, что жить можно и так.
А о нём самом много спорили, но легенда побеждала все свидетельства. Первым делом он сжёг военкомат, а потом и изъял свои личные дела вплоть до медицинской карты отовсюду. Официальная биография правителя не была написана. Собственно, её и запрещено было писать, и это выходило дополнительным доказательством личной скромности.
Однажды, после выигранной скоротечной войны с южными соседями, человек с медалью объезжал свою армию.
В одном из полков он увидел того самого лысого десантника, лицо которого запомнил навсегда. Лысый постарел, но всё же был бодр. Он не услышал шагов человека с медалью, и, стоя к нему спиной, продолжал вдохновенно рассказывать, как воевал вместе с вождём на далёкой забытой войне.
Только по изменившимся лицам слушателей лысый догадался, что надо обернуться.
Ужас исказил его лицо, ужас точь-в-точь такой же, какой испытал человек с медалью давней августовской ночью. Сомнений не было — лысый не узнал его.
Человек с медалью помедлил и улыбнулся.
— Всё верно. Никто, кроме нас, да, — и он похлопал лысого по плечу.
Извините, если кого обидел.
02 августа 2011
(обратно)
История про лето
Не дрейфь, юнкер Шмидт, лето возвратится!
Вчера проповедовал птицам. 17 псалом.
Жизнь кажется причудливой, но в ней мало ласки.
Ласка на самом деле — хищный зверь из рода куниц. У Джека Лондона в романе "Белый клык" она даже нападает на волчонка. Я пишу чужие биографии, на свои времени не хватает.
Ко мне пришёл человек из болотной столицы и рассказывал, за что убивали людей, когда их убивали задорого.
— Должников никогда не убивали, а вот кредиторов убивали часто. Кредитор мёртв и долг становится как бы погашен.
Я это знал — один мой товарищ, дав много в долг, убежал в Канаду. Так раньше в Америку бежали "наделав долгов".
— Никогда не убивали чиновника, который что-то не разрешил. Другой сядет на его место не сразу, и не факт, что разрешит. А если и разрешит, то тоже не сразу, может он сделает это тогда, когда разрешение будет не нужно.
— Ещё убивали в назидание — так убивают секретаршу, но лучше — заместителя. Это делают для того, чтобы человеке, имевший секретарш и заместителей, осознал, как устроен мир, и какое место он в нём занимает.
А иногда убивают по ошибке. Даже "Моссад" как-то убил какого-то официанта, приняв его за террориста. Убили, кстати, в Норвегии.
— А ты не допускаешь личной неприязни, — сказал я, не оттого, что думал о жёнах богачей. А потому что знавал нескольких провинциальных богачей, с трудом уживающихся вместе в одном субъекте.
— Это только в кино, только в кино.
Извините, если кого обидел.
03 августа 2011
(обратно)
История про поташ
В наше время, то есть, в начале XXI века, Сети давно решена проблема специалистов.
Все специалисты во всём — не только в футболе и литературе.
Тут вопрос о качестве суждения.
Специалистов много, но одни ошибаются чаще, а другие — реже.
Некоторые просто говорят меньше.
Виктор Шкловский работал в Льнотресте.
От Льнотреста он летал по России в маленьком самолёте и однажды, в Воронежской области познакомился с Андреем Платоновым.
Если знать, что это была за работа, то понятнее стр очки, написанные Шкловским в заметке о Горьком, вернее о горьковском "Деле Артамоновых": "Фома Гордеев, герои в «Трое», уже раз перемеченные в «В людях», анекдоты о купцах, съевших ученую свинью, — все это рассказывается в порядке последовательности.
Может быть, это хорошая этнография. Вероятней, это все сведения неточные. Трудно это проверить, не зная быта.
Некоторые технические сведения просто неверны.
«Петр принимал товар, озабоченно следя, как бы эти бородатые, угрюмые мужики не подсунули «потного», смоченного для веса водою, не продали бы простой лен по цене «долгунца».
Это написано неверно. «Простого» льна нет, есть лен-«кудряш» и лен-«долгунец».
Кудряш на волокно не идет, на Оке почти не сеется и поэтому не подсовывается, так как его отличили бы и кошки.
Представление о том, что «долгунец» это лен подлиннее, — неверно".
Это он пишет в 1924 году.
А в заметке «О писателе и производстве» он пишет: «Я знал одного кузнеца; он принес мне стихи; в этих стихах он дробил молотком чугун рельсов. Я ему на это сделал следующие замечания: во-первых, рельсы не куют, а прокатывают; во-вторых, рельсы не чугунные, а стальные; в-третьих, при ковке не дробят, а куют; и, в-четвертых, он сам кузнец и должен сам знать лучше меня. На это он мне ответил: «Великолепно, да ведь это стихи»».
Это, надо сказать, рисковый путь.
Современный Интернет, с его необязательностью слов показал тяжёлую жизнь всезнаек. Стремительно падающие домкраты и стрелки осциллографов наполняют Сеть. Но в двадцатые годы всякий писатель был немного журналист — это диктовалось финансовым потоками. Работали в журналах и газетах, и вот сразу же стало видно, что литература факта — тоже литература.
Потом оказалось, что факты не всегда приятны, но мелкие детали времени, быт и производство остаются не меньше интересны читателю, чем переживания израненной души.
Шкловский, кстати, дальше писал: «Для того, чтобы быть поэтом, нужно в стихи втащить свою профессию, потому что произведение искусства начинается со своеобразного отношения к вещам, не старолитературного отношения к вещам. Создавая литературное произведение, нужно стараться не избежать давления своего времени, а использовать его так, как корабль пользуется парусами. Пока современный писатель будет стараться как можно скорее попасть в писательскую среду, пока он будет уходить от своего производства, до тех пор мы будем заниматься каракулевым овцеводством; а это овцеводство состоит в том, что овцу бьют — она делает выкидыш, и с мертвого ягненка сдирают шкуру».
Сейчас профессиональные описатели нравственности благополучно проваливаются в яму любовного романа.
Что-то спасительное видится в художественной прозе путеводителей, авантюрных кулинарных книгах и героическом описании производства поташа.
Кстати, о поташе…
Нет, в другой раз.
Извините, если кого обидел.
03 августа 2011
(обратно)
История из книги "Пособие по сетевому флейму"
…Теперь имеет смысл поговорить об ошибках. Все мы — невежды. Невежды в той или иной степени. Но, если раньше мы держали невежество при себе, то благодаря Сети оно делается общедоступным.
Мы выносим его на блюде в толпу неизвестных нам людей.
Очень часто мы это делаем с некоторой даже гордостью, думая, что несём в толпу не собственное невежество, а знание. Часто мы просто спутали что-то в голове, а потом начали учить других. В этом ничего страшного, если мы избежали апломба (это первое правило), и во-вторых, (не упорствовали в этом невежестве).
Вот хороший пример из военной истории (мальчики всегда любят военную историю, а на военно-исторических форумах и в той части Сети, которая бряцает значками и нашивками всегда очень много флейма). В середине войны в Красной Армии ввели новые знаки различия — появились погоны (Приказ НКО СССР от 15.01.1943 года № 25 «О введении новых знаков различия и об изменениях в форме одежды Красной Армии»). Изменилась форма, и вообще открыто стала провозглашаться преемственность от русской армии — собственно, в пропаганде это началось с сурового 1941 года, когда уж кого хочешь выкликнешь на помощь — даже постучишь в отеческие гробы).
Однако Красная Армия, вернее Рабоче-Крестьянская Красная Армия стала Советской Армией тремя годами спустя — 25 февраля 1946 года. Тогда же "красноармеец" сменился "рядовым", и всё такое.
Но в народном сознании символ (погоны) уже означает перемену имени ("Красная" — в "Советскую"). Оттого в Сети (я клянусь, что видел это с завидной регулярностью) возникает флейм, где люди схватываются с разной степенью раздражения: "Какая вам РККА в 1944 году? Вы что, тупой?"
Кстати, когда Красная Армия вошла в Прагу в 1945 году, живший там генерал Шиллинг, по слухам даже обрадовался — он увидел офицеров в погонах, сытых солдат, и, говорят, даже воскликнул "Жива Россия, жива русская армия". Видел он именно ту самую РККА, с которой дрался в Новороссии и Крыму. СМЕРШ его прибрал на время, но было генералу семьдесят пять лет, и его отпустили с Богом, и через год он скончался — именно в тот, 1946 год, когда исчезли красноармейцы.
Но сетевые флеймеры немного отличаются от старого генерала, и испытывают иные эмоции.
Какой из этого можно сделать вывод?
А вот какой: не надо торопиться. Твои очевидные знания могут оказаться вовсе не очевидными, просто неверными могут они оказаться. Ты-то думаешь, что они очевидны, ты честен — да только к реальности это не имеет отношения.
Мы все — владельцы ограниченного знания. Стрелки осциллографов показывают "буря", одни и те же слова означают разное, "солдат" и "офицер" у нас не воинские звания, а категории….
От позора спасает стиль — чем меньше апломба, тем более ты, дорогой флеймер, защищён.
Ну и чувство юмора, конечно.
<тут был раздел, посвящённый знаменитой задаче "самолёт на транспортёре">
Извините, если кого обидел.
04 августа 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
***
— Как Вам привычка говорить «мы» от имени широких масс, узких прослоек и прочих собраний?
— Она искупается своей повсеместностью и необязательностью. Вот смотрите: когда товарищ Сталин говорил «Нам стоит присмотреться к…», было понятно, что та группа людей, что сейчас вот присмотрится — о-го-го какая значимая.
А когда сейчас какой-нибудь Синдерюшкин говорит: «Мы, интеллигенты, в беде», то его и жена не услышит.
***
— Народу надоели монархисты, коммунисты тоже себя не оправдали. Когда же в России настанет конец демократии, и что будет после неё?
— Очень много неправды в ваших словах. Монархическая идея будоражит умы, коммунисты крепки в вере, что такое демократия — никто не знает, меж тем у неё множество приверженцев, крепнут ряды анархистов, множатся кадеты и социалисты, процветают экологические партии.
Жизнь непроста.
***
— Вот когда снишься кому-то, это так неприятно и стыдно, правда? Бог знает, что там приснится, и повлиять не можешь.
— Не знаю. Мне не жалко — правда, вряд ли я снюсь широким народным массам в больших количествах.
— Ну, даже если и одному человеку снишься. С безумной логикой сна. Какой-то непорядок, полное нарушение прайвеси. Впрочем, мне приснился Фрейд. Что бы это значило?
— Я полагаю, что Фрейд многим снится. Это ему такое наказание Господне. Но я всё равно бы не стал переживать — мы ведь (если мы не герои Павича) не знаем, как и в каком виде кому-то снимся.
— Про сны добавлю. Так ведь люди рассказывают детали! И не знаешь, правда ли или ещё что-то там со мной происходило. А вопрос совсем о другом: роль случайности в вашей жизни.
— Ну, тут не поймёшь, как они рассказывают. Это ведь как тот врач из анекдота, которому старичок жаловался, что он не может, а вот сосед смог два раза за ночь. Врач сказал: «А вы ему передайте, что смогли три раза — и дело с концом». А случайности нет вовсе.
— Ничего себе — вовсе нет случайностей! Может, и стихийных бедствий нет?
— Нету. Одни Господни наказания.
— О совпадениях и их смысле можете сказать что-то?
— О совпадениях и их смысле могу сказать кое-то. Скажем то, что тема эта туманна и безбрежна.
Извините, если кого обидел.
05 августа 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
***
— Что значат в Вашей жизни женщины? И какой должна быть женщина, чтобы Вы могли ей заинтересоваться? Что должно в ней быть обязательно и чего быть не должно.
— Много значат, но не могу сформулировать, что. С женщинами очень интересно дружить — это совсем не то, что мужская дружба. Я как-то на эту тему говорил с Артемием Троицким, и он сказал, что у него друзей женщин больше, чем друзей-мужчин, потому что с женщинами всегда интереснее, чем с мужчинами: «с женщинами отношения всегда складываются неодномерно. Мужчин я всегда очень хорошо понимаю, довольно быстро их узнаю. Если парень мне нравится, то всё отлично, но эта мужская дружба проста как грабли. Она без подтекстов, без внутреннего драматизма… Да и нафиг мне нужны драматичные, тем более романтичные отношения с каким-нибудь мужиком? А с женщинами отношения очень извилистые, и мне это очень нравится. Я женщин никогда толком не понимал, никогда толком не знал, что от них ждать, и чего они хотят, и меня это очень интриговало. И в плане любовно-романтическом, и в дружеском. Это глубокие и интересные отношения». И я с ним согласен.
Но в вопросе есть понятный подтекст иных отношенй, «не-дружбы» — тема эта бесконечная, но я вот что скажу: я очень опасаюсь сумасшедших. То есть, мы все, конечно, не образец нормы, но есть такой тип сумасшествия, когда человек нервный начинает поступать по принципу «назло бабушке отморожу уши». То есть, из каких-то нервических соображний устраивает мелодраматические сцены, нагнетает напряжение. С корыстными людьми всегда проще — их выгода понятна, а вот бескорыстные сумашедшие могут и жизнь сломать. Ещё криков быть не должно — человек кричит ведь от бессилия, и тогда всем вокруг понятно, что в дом пришла беда. В юности меня это чрезвычайно напрягало, правда, теперь я стал более толстокожим.
— Что значит для Вас поцелуй? Лишь прелюдия к интимности, или выражение любви и нежности к близкому человеку? А может, и вовсе ничего не значит?
— Поцелуй — удивительная вещь. Совершенно волшебная. Иногда он стоит всего остального. В порнофильмах, где иногда показывают совершенно удивительные и даже невероятные вещи, почти нет поцелуев? Они как бы оказываются интимнее секса. А за поцелуй до свадьбы, если суженый умрёт, можно было половину наследства получить. Теперь отношение к деньгам, увы, испортилось.
— Любовь — одна и цельна на всю человеческую жизнь, но к многим, или настоящих любовей действительно много? Не лично у Вас, а как Вы думаете?
— Никто не знает, что такое любовь. То есть, каждый для себя её как-то представляет, но коллективной договорённости нет. Я могу сделать только вывод о том, что русский язык сопротивляется множественному числу этого слова.
Но так у всех всё равно по-разному.
— Если Вам предложат на выбор стройную блондинку или полную брюнетку, что Вы предпочтёте? (Обе — дуры).
— Прекрасный вопрос. Только… только вот… А зачем мне их предложат? Вот я учился вместе с одним знаменитым кулинаром — я представляю, как и что он может предложить. Спросит: «Предложить ли тебе холодной телятины?»… Придёшь, а там и костям применение, и жиру, и сервировка на уровне. Нет, беда с этими предложениями. Для телятины действительно умственные способности не очень важны. А с остальным — Господь приведёт куда надо.
— Часто ль женщины предлагали вам себя?
— Нет. Но иногда по своей природной глупости я понимал это спустя несколько лет — так издалека это происходило.
— А вот к вопросу «о предложениях женщин». Женщины не могут прямо, это великая мука и стыд. А вот как у вас, мужчин? Тоже сердце выпрыгивает?
— Я думаю, что в мегаполисах это деление не на мужчин и женщин, а именно что на тех, у кого это великая мука и стыд, и у кого — стакан воды (Конечно, есть и промежуточные стадии).
У мужчин тоже страх показаться смешным, оказаться ни к месту, быть негодным товаром и всё такое прочее.
Потом со временем понимаешь, что есть нежность и есть страсть — и второе встречается куда чаще первого
— А с возрастом нежность выходит на первое место, потому что её начинает катастрофически не хватать.
— С возрастом начинает не хватать буквально всего.
— Мне девяносто пять лет, я умна, в прошлом красива, отлично готовлю и умею гладить рубашки. Всё остальное тоже теоретически возможно. Возьмё
— Теоретически поздрав
— У вас здесь очень удачная фотография. Собственно, это и не вопрос.
— Да, я тогда был молод и хорош собой. Собственно, это и не ответ.
Извините, если кого обидел.
05 августа 2011
(обратно)
История про вечер
Непрост оказался вечер, совсем не прост.
06 августа 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
— А вот если мы с Вами лет восемь так или иначе общаемся в жж, то мы можем разик посидеть за бутылкой?
— Смотря, что мы под этим понимаем. Во-первых, я сейчас не употребляю алкоголь, и вряд ли ради этого случая изменю старообрядческой привычке. Во-вторых, есть довольно много способов бессмысленного времяпровождения даже среди старых друзей. Я, кстати, очень переживаю по этому поводу.
В разных встречах, даже с незнакомыми людьми, удача улыбается тем людям, которые придумали какое-то дело — пошли в баню, на охоту, принялись вместе варить плов, собрались вместе обсудить книгу (Я был свидетелем, честное слово, как в 2010 году люди собрались обсудить книгу, и тут такое началось, что я понял, отчего не сервировали ножи). Я напрасно, конечно, говорю так много, потому что я вовсе не занятой человек. Просто рассуждение о смысле — сейчас мой пункт.
— Восемь лет — мини-жизнь, я в ней младенец — какие встречи за дринком (даже если бы мне хватило смелости). А у Вас здесь театр стихийно получается.
— Отчего ж младенец? Да и смелости тут не надо. Для встреч нужен смысл — например, я любил жанр интервью — потому что он позволял встретиться и поговорить людям разных социальных, интеллектуальных или каких угодно групп. (Правда, я очень не любил расшифровывать магнитофонную плёнку). Но теперь интервью стали проще — все (и я, и те, кто меня о чём-то спрашивает) просто пишут вопросы по почте, и по почте получают ответы.
Увы, люди охотнее всего встречаются за едой.
Довольно мало людей могут позволить себе позвонить кому-то и сказать: «Давайте встретимся — мы на Пироговском водохранилище будем с друзьями красить нашу яхту и жарить шашлык» — хотя это, по-моему, очень интересно. Я бы поехал.
— Готовы ли вы ответить на семь-девять вопросов интервью по электронной почте для одного из рейтинговых блогов ЖЖ? Если да, то дайте адрес, пожалуйста.
— Это хороший повод для разговора об интервью вообще.
Во-первых, я, конечно, могу ответить на «семь-девять» вопросов, если уж совершенно безвозмездно ответил тут на три сотни, а среди них было много дурацких. Отчего же нет?
Во-вторых, я очень люблю интервью посредством электронной почты (или в комментариях): я сам взял множество интервью и знаю, как отвратительно заниматься расшифровкой звуков человеческого голоса. Да и то, если текст будут читать (а не слушать или смотреть кого-то), логично записать его, поправив, к тому же, опечатки.
В нашей стране деньги за интервью получает человек, что задаёт вопросы, а не тот, кто даёт ответы (Впрочем, со мной бывало по-разному). Для отвечающего это реклама, для корреспондента электронное интервью — лёгкий хлеб, а для издания — способ наполнить страницы.
Налицо некоторый симбиоз — но понятно, что если бы меня спросил что-нибудь из The New York Review of Books — то мне один интерес, а если с портала «Грудное вскармливание» — другой. И тут мы подходим к самому интересному.
В-третьих, это очень смешной образ «один из рейтинговых блогов ЖЖ». Образ могущественного средства массовой информации, очень значительного оттого, что оно «рейтинговое». (Хотя в рейтинге посчитаны абсолютно все блоги). Понятно, что напиши мне совершенно неизвестный вежливый человек, так я и ему ответил бы, но желание что-то от меня узнать «рейтингового блога» меня потрясло, и я возгордился.
В-четвёртых, самое интересное тут — просьба выслать адрес электронной почты. Чем-то это напоминает чукотский вирус, что извинялся и просил сначала сохранить его на диске С, а затем скопировать во все директории. Ясно, что мой адрес (как и все наши адреса и Живые Журналы) находится в три клика.
Так что, отвечу с удовольствием. Спрашивайте-отвечаем.
— Бывало ли так, что Вам надоедал ЖЖ и Вы неделями в него не заглядывали?
— Да нет, наверное. Уезжал, правда, и вполне обходился без него неделями. Но ведь дело в том, что Живой Журнал что-то вроде современного телефона — служит телевизором, кафе, и прогнозом погоды.
Он слишком разный, что просто так надоесть.
Извините, если кого обидел.
06 августа 2011
(обратно)
История про людей
Люди ужасно болтливы, вот что.
Извините, если кого обидел.
06 августа 2011
(обратно)
История про день железнодорожника
Так вышло, что жизнь моя повязана с железной дорогой и людьми железной дороги. Сегодня, в первое воскресенье августа, железнодорожники выходят на пути, и бросив фуражки под ноги, пляшут среди рельс и шпал. В этот день смотрительницы переездов выходят голые на свои балкончики, а промасленные старики бьют в буксы своими молотками как в барабаны. Проводницы кочегарят титаны на можжевеловых веточках и разносят по купе варенье, контролёры в электричках начинают проверять билеты с фразы "извините, что мы к вам обращаемся…" У меня есть на этот день старый рассказ:
Веребьинский разъезд
Тимошин аккуратно положил портфель на верхнюю полку.
Остались только купейные места, и он ещё идя по перрону, с некоторым раздражением представлял себе чужие запахи трёх незнакомцев с несвежими носками, ужас чужих плаксивых детей… Но нет, в купе сидел только маленький старичок с острой бородкой и крутил в руках продолговатый вариант кубика Рубика — чёрно-белый, похожий на милицейский жезл, и такой же непонятно-бессмысленный, как все головоломки исчезнувшего тимошинского детства.
Перед отъездом жена подарила Тимошину чудесную электрическую бритву — но только он решил ещё раз поглядеть на неё, дополнением к компании, под звук отодвигающейся двери внутрь ступил мужчина — мордатый и весёлый.
Как Тимошин и ожидал, первым делом мордатый достал из сумки бутылку коньяка.
«Жара ведь», — устало подумал Тимошин — но было поздно. Пришёл унылый, как пойманный растратчик, проводник, и на столике появились не стаканы, а стопки.
Мордатый разлил. Шея его была в толстых тяжёлых складках, и оттого он напоминал шарпея в свитере.
— Ну, за Бога, — сказал он и как-то удивительно подмигнул обоими глазами, — и за железную дорогу.
— Мы что, с вами виделись? — Тимошин смотрел на попутчика с недоумением. В повадках шарпея действительно было что-то знакомое.
— Так мы же с вами из одного института. Я с вагоностроительного.
— А я математикой занимался, — решил Тимошин не уточнять.
— А теперь?
— Теперь всяким бизнесом, — Тимошин и тут не стал рассказывать подробностей. Но попутчик (миновала третья стопка), ужасно развеселился и стал уверять, что они поменялись местами. И тем, кем был раньше Тимошин, теперь стал он, странный, уже, кажется, совсем нетрезвый пассажир.
— Так вы программист?
— Не совсем, не совсем… Но программирую, программирую… — Мордатый веселился и махал руками так, что старичка с его головоломкой сдуло в коридор. Он действительно сыпал профессиональными шутками, припомнил несколько общих знакомых (Тимошин понятия не имел, кто они), вспомнили также приметы времени и молодость. Мордатый жаловался на то, что высокоскоростного движения теперь вовсе нигде нет, вокзал в Окуловке развалился. Какая Окуловка, о чём это он?
— А скоростник? Это ж семидесятые годы! Это консервная банка с врезанной третьей дверью, а больше ничего у нас нет — асинхронника нет, ЭП1 уже устарел, ЭД8 нету, и «аммендорфа» нет больше… Ты вот (он ткнул пальцем Тимошину в грудь) отличишь ТВЗ от «аммендорфа»?
Тимошин с трудом сообразил, что имеются в виду вагоны немецкого и тверского производства.
— А вот я завсегда отличу! — Мордатый сделал странное движение, став на секунду похож на революционного матроса, рвущего тельняшку на груди. — По стеклопакетам отличу, по гофрам отличу — у нашего пять, у немцев покойных — два…
Какое-то мутное, липкое безумие окружало Тимошина. Он оглянулся и увидел, что они в купе давно вдвоём. Время остановилось, а коньяка в бутылке, казалось, только прибавлялось. Поезд замедлил ход и вдруг совсем остановился.
— Это спрямление, — икнул Мордатый. — Тут царь Николай палец на линейку поставил…
«Ишь ты, — подумал Тимошин, — и он ещё заканчивал наш институт». Всякий железнодорожник знал историю Веребьинского разъезда. Никакого пальца, конечно, не было — как раз при Николае поезда ходили прямо, но паровозы не могли преодолеть Веребьинского подъёма и ещё во времена Анны Карениной построили объездной путь. Лет шесть назад дорогу спрямили, выиграв пять километров пути.
Всё это Тимошин знал давно, но в спор вступать не хотелось. Споры убивало дрожание ложечки в стакане, плеск коньяка в бутылке, что оставлял мутные потёки на стеклянной стенке.
— Да… Хотел бы я вернуться в те времена, да.
Тимошин сказал это из вежливости, и продолжил:
— Помню, мы в стройотряде… Вернуться, да…
Мордатый отчего-то очень обрадовался и поддержал Тимошина:
— Всяк хотел вернуться. Пошли-ка в ресторан.
Это была хорошая идея — она способствовала бегству от этого безумия. Тимошин встал с места и не сразу разогнул ноги. С ним было так однажды — когда партнеры в Гоа подмешали ему опиатов в суп. Мир подернулся рябью — но Тимошин удержал его за край, будто рвущуюся из рук на ветру простыню.
Мордатый уже торопился, быстро шагая по вагону, а Тимошин спешил за ним, на ходу ощупывая в карманах всё ценное и дорогое.
Поезд подошел к какой-то станции и замер. Дверь тамбура была заперта.
Мордатый сердито подергал её и вдруг рванул другую — дверь наружу. Ночная прохлада окатила Тимошина, и он шагнул вслед за своим спутником, чтобы перебежать в соседний вагон.
Движение оказалось неверным, и он, поскользнувшись, покатился по гладкой поверхности.
Под рукой был снег и лёд.
Движение закончилось.
Он ещё несколько мгновений сидел на твёрдом и холодном. Но в стороне стукнула дверца, и поезд стал набирать ход. Тимошин успел ещё прикоснуться к холодной стали последнего вагона и остался, наконец, в черноте и пустоте. Его окружала снежная зимняя ночь середины августа.
Это был бред, можно было назначить всё происходящее бредом, но вот холод, пробиравший Тимошина, был реальностью и никуда не исчезал. И тогда Тимошин побежал на огонёк, к какому-то домику. Холод лез под куртку, и Тимошин припустил быстрее, быстро тасуя в голове планы спасения. Наверное, надо скорее вернуться назад, к Бологому, или вперёд, к Чудово, дать кому-нибудь денег — и хоть на тракторе, но выбраться из проклятого места.
Он попытался вспомнить карту Новгородской области — но дальше бессмысленных названий дело не пошло. Боровёнка… Или Боровёнки? Там был ещё странный посёлок Концы, и студенты в те, давние времена, лет двадцать назад должны были плыть на байдарке мимо этих концов. Нет, ничего не вспоминалось.
И тут Тимошин увидел самое странное — никаких рельсов под ним не было — он бежал по насыпи с давно снятыми шпалами, поднимая фонтанчики лёгкого снега.
Не переставая удивляться, он ввалился в дверь маленького домика с освещённым окном.
Он не вошёл, а упал в сени, вслед ему свалилась какая-то палка, загремело что-то, зашебуршало, и, видимо, поколебавшись, тоже рухнуло.
Из сумрака на него, ничуть не удивляясь пришельцу, смотрел старик в железнодорожной фуражке.
Старик ничего не спрашивал, и вскоре Тимошин сидел у печки, понемногу проваливаясь в сон, не в силах уже куда-то ехать или даже расспрашивать о дороге.
В ушах стучали колёсные пары, щёлкали стрелки, и, наконец, всё слилось в неразличимый гул. Он проснулся на топчане в темноте, а вокруг было всё то же — печка, стол, ходики. Экран телефона вспыхнул белым светом — но сети не было.
Тимошин пошёл к выходу и услышал в спину:
— Возьми ватник, застудишься.
Снег снаружи никуда не пропал, он лежал чистой розоватой пеленой в свете звёзд. Бредовая картина прорастала в реальность, схватывалась как цемент. И этот морок не давал возможности сопротивляться, поэтому, вернувшись в дом, Тимошин долго лежал молча, пока рассвет не брызнул солнцем в окно.
— Я тебе валенки присмотрел, — наклонился к нему старик. — Ты привыкай, привыкай — не ты первый, не ты последний. Сто двадцать лет тут поезда ходили — я и не такое видел. Утром человек в Окуловку поедет и тебя заберёт.
Что-то начинало налаживаться, и это не могло не радовать.
Тимошин думал о пластичности своего сознания — сейчас, отогревшись и наевшись мятой горячей картошки прямо из кастрюли, он уже почти не удивлялся морозному утру посреди лета.
И вот они уже тряслись по зимнику в древней машине, Тимошин не сразу вспомнил её прежнее название — да-да, она звалась «буханка».
Внутри «буханки» гулял ледяной ветер, и Тимошин ерзал на продавленном сиденье. Старик завел беседу с водителем про уголь — вернее, орал ему в ухо, пытаясь перекричать грохот и лязг внутри машины. Уголь должны были привезти, но не привезли, зато привезли песок для локомотивов, который даром не нужен — всё это уже не пугало.
Они остановились рядом с полуразрушенным вокзалом, и он решил отблагодарить старика.
На свет появилась стодолларовая бумажка, старик принял её, посмотрел бумажку на свет, зачем-то понюхал и вернул обратно.
Тимошин с сожалением отстегнул с руки часы и протянул старику, но тот, усмехнувшись, отказался:
— Это нам уж совсем без надобности.
Действительно, с часами вышло неловко — к тому же Тимошин понял, что часы встали, видимо ударившись тогда, когда он катился кубарем по заброшенной платформе.
— Ты не понимаешь, — сказал старик, — у нас время течет совсем по-другому. Твое время — вода, а наше — сметана. Потом поймёшь.
Если бы не благодарность, Тимошин покрутил бы пальцем у виска — эти провинциальные даосы с их вычурным языком были ему всегда смешны.
И вот он остался один. На станции было пусто, только с другой стороны вокзала парил тепловоз, а рядом с ним стояла кучка людей.
Вдруг что-то рявкнуло из морозного тумана, и мимо Тимошина поплыл поезд с разноцветными вагонами. Тимошин не удивился бы, если увидел в окошке даму в чепце — но нет, поезд спал, только на тормозной площадке стоял офицер с папиросой и задумчиво глядел вдаль. Что-то было не то в этом офицере, и Тимошин понял — рука офицера опиралась на эфес шашки, а на груди тускло горел непонятный орден. Вряд ли это были киносъёмки — наверное, кто-то из ряженых казаков дышал свежим воздухом после пьяной ночи.
Сзади хрустко по свежему снегу подошёл кто-то и тронул Тимошина за плечо. Он медленно обернулся.
Этого человека он узнал сразу. Васька действительно был однокурсником — тут уж не было никаких сомнений. После института Васька, кажется, собирался уехать из страны. Потом случилась какая-то неприятная история, они потеряли друг друга, затем сошлись, несколько раз встречались на чужих праздниках и свадьбах — и вот стояли рядом на августовском хрустящем снегу.
— Тебе поесть надо, — сказал Васька хмуро. — А вот туда смотреть не надо.
Тимошин, конечно, сразу же туда посмотрел и увидел в отдалении, у себя за спиной мордатого — того самого, похожего на шарпея человека, из-за которого он оказался здесь. Тимошин сделал шаг вперёд, но Васька цепко поймал его за рукав.
Мордатый командовал какими-то людьми, стоявшими у заснеженного поезда. Наконец, эти пассажиры полезли в прицепной вагон, сам мордатый поднялся последним и помахал рукой кому-то. Больше всего Тимошина удивило, что в снегу осталось несколько сумок и рюкзаков.
Тепловоз медленно прошёл мимо них, обдавая оставшихся запахом тепла и смазки.
— А это-то кто был?
— Это начальник дистанции, — так же хмуро пробормотал Васька.
— Не с нами учился?
— Он со всеми учился. Ну его, к лешему. Пойдём, пойдём. Потом поймёшь, — и эта фраза, повторённая дважды за утро, вызвала внутри тоскливую ломоту.
Они подошли к вокзалу сзади, когда из облупленной двери выглянула баба в пуховой куртке. На Тимошина накатила волна удушающего, сладкого запаха духов. Баба улыбнулась и подмигнула, отчего на душе у Тимошина стало совсем уныло и кисло.
Да и внутри пахло кислым — тушеной коричневой капустой и паром. Они прошли по коридору мимо стеллажей, на которых ждали своего часа огромные кастрюли, с неразличимыми уже красными буквами на боках. Буфетный зал был пуст, только за дальним столиком сидел солдат встранной форме — не той, что он застал, а в гимнастерке без петлиц, с воротничком вокруг горла.
Васька по пояс нырнул в окошко и кого-то позвал. «А талончик у него есть?» — спросили оттуда глухо. «Вот его талончик» — ответил Васька и передал что-то внутрь, а потом вынырнул с двумя мисками, хлебом и пакетом молока, похожим на египетскую пирамиду.
Затем он сходил за жирными вилками и стаканами, и они уселись под плакатом с изображением фигуры, рушащейся на рельсы. «Что тебе дороже — жизнь или сэкономленные секунды?»
«Действительно, что? — задумался Тимошин. — Тут и с секундами непонятно, и с жизнью».
Васька заложил за щеку кусок белого хлеба и сурово спросил:
— Ты говорил недавно что-то типа «Хотел бы я повернуть время вспять»?
— Ну, говорил, — припомнил Тимошин. — И что?
— А очень хорошо. Это как раз очень хорошо. Потому что с тобой всё пока нормально.
Он вдруг вскочил, снова залез в окошко раздачи и забубнил там, на этот раз тихо, но долго — и вернулся с бутылкой водки.
— Слушай, мужик, — Тимошин начал раздражаться. — А ты-то тут что делаешь?
— Я-то? Я программирую.
— Вы тут все, что ли, программируете? Просто страна программистов!
— Не кипятись. Тут вычислительный центр за лесом, ничего здесь смешного нет, всё правда. Тут программирование совсем другое.
— А это что — особая зона? Инопланетяне прилетели? Военные? — спросил Тимошин с нехорошей ухмылкой.
— Не знаю. Ты потом поймёшь, а не поймёшь — тебе же лучше. Тут ведь главное — успокоиться. Успокойся и начни жить нормально.
— Мне домой надо, — сказал Тимошин и удивился, как неестественно это прозвучало. В глубине души он не знал точно, куда ему надо. Прошлое стремительно забывалось — он хорошо помнил институтские годы, но вот потом воспоминать было труднее. Он только что ехал, торопился…
— Зона? — продолжал Васька. — Да, может, и зона. Но, скорее всего, какой-то забытый эксперимент. Вот ты знаешь, я как-то пошёл в лес, думал дойти до края нашей зоны. Сначала увидел ряды колючей проволоки, какие-то грузовики старые — но нет, это я всё знал, тут давным-давно стояли ракетные части. Потом вышел на опушку и смотрю — там кострище брошенное. А рядом на берёзе приёмник висит. Музыка играет, только немного странно — будто магнитофон плёнку тянет… Помнишь наши катушечные магнитофоны?
— Как не помнить! У меня как-то была приставка «Нота», так… — начал было Тимошин, но тут же понял, что друг его не слушает.
— Висит на берёзе приёмник, «Спидола» старая, и играет. А я-то знаю, что в эти места никто из чужих за четыре года, пока я здесь, не ходил. Что, спрашивается, там за батарейки?
— Да, страшилка — как из кино.
— Да дело не в батарейках, тут всякое бывает. Что за музыка в замедленных ритмах? Это значит, что волна запаздывает, и уже довольно сильно. Ну и газеты ещё старые, не то борьба за здоровую выпивку, не то борьба с пьянством. И так меня разобрало от этого приёмника, что я понял, что дальше ходу нет — там время совсем по другому течёт. Ты в него, как в реку ступаешь, как в кисель — ноги не поднять.
А вот обходчик, что тебя встретил, рассказывал, что у него рядом с полотном вообще время другое, будто кто разбрызгал прошлое по лесу: стоят две берёзки, которые он давно помнил — одна вообще не растёт, тоненькая, а вторая уже толстая, трухлявая, скоро рухнет.
— А мертвецы истлевшие лежат? Или там — с косами, вдоль дороги?..
— Ничего, Тимошин, я тут смешного не вижу. Разгуливающих мертвецов не видел, а вот ты сходи на кладбище — там после восемьдесят пятого ни одной могилы нет. Я только потом понял, в чём дело.
— И в чём?
— И в том. Не скажу — не надо тебе этого.
Доев и допив, они пошли внутрь вокзала, причём шли необыкновенно долго, пока не оказались в диспетчерской. На стене висела странная схема движения — с множеством лампочек, означавших линии путей. Только шли они не горизонтально, а вертикально — путаясь, переплетаясь между собой и образуя нечто вроде соединённых двух треугольников, похожих вместе на песочные часы.
— Иван Петрович, — произнёс Васька, и голос его изобразил деловое подобострастие, — я его привёл.
Дежурный посмотрел на Тимошина, сделал странное движение пальцем сверху вниз, и оказалось, что всё это время он слушал телефонную трубку. Прикрыв её ладонью, он устало сказал:
— До завтра ничего не будет.
— А, может, его к нам, в Центр? — спросил Васька.
— Можно и в Центр, но до завтра, — и палец, поднимаясь по дуге снизу, указал им на дверь, — ничего не будет.
— Так я его в Дом Рыбака отведу, да?
Дежурный повернулся спиной и ничего не ответил.
Васька выглядел несколько обескураженным, и повёл Тимошина дальше, пытаясь продолжить прежний разговор:
— С тобой это всё из-за ностальгии, я думаю. Ностальгия похожа на уксус, вот что. Добавил уксуса чуть в салат — хорошо, выпил стакан — отравился. Всё нутро разъест. Я читал, как барышни уксус для интересной бледности пьют.
— Вася, барышни уже лет сто как такого не делают.
— А, всё равно.
Они пришли в домик на краю станции — совершено пустой, и на удивление чистый, только некоторой затхлостью тянуло из комнат.
— Вечером в столовую сходишь, я там уже договорился. Я попробую уговорить, чтобы тебя оставили. Я завтра за тобой зайду, ладно?
Спорить не приходилось — Тимошин, оставшись один, придвинул валенки к батарее и снова заснул. Снова ему в ухо грохотали колёса, и сигнальные огни мигали красным, зелёным и синим.
Он просыпался несколько раз и видел, как мимо проходили составы — чёрные, в потёках нефтяные цистерны, зелёные бока пассажирских вагонов из братской ГДР и побитые в щепу старинные теплушки.
На следующий день он опять опоздал в диспетчерскую, и это, видимо, было к лучшему. Дежурный выдал ему под роспись талоны на питание, а через неделю ему выдали форму. Брюки и рубашка были новые, а вот шинель — траченная, с прожжённым карманом.
Понемногу он прижился, влип в это безвременье, как мушка в янтарь.
Тимошин так и не попал в загадочный вычислительный центр, а стал бригадиром ремонтников, и кажется, его опять должны были повысить — бригада работала чётко, и сигнализация была всегда исправна. Семафоры махали крыльями, светофоры перемигивались и будто бормотали над головой Тимошина — «путь свободен, и можно следовать без остановки, нет-нет, тише, можно следовать по главному пути»…
Или под красной звездой выходного светофора в черноте ночи брызгал синим дополнительный огонь, условно разрешая товарняку следовать, но с готовностью остановиться в любой момент. А вот уже подмигивал жёлтый, сообщая, что впереди свободен один блок-участок.
К Тимошину вернулись прежние знания, и линзовые приборы подчинялись ему так же, как и прожекторные, электричество послушно превращалось в свет — хотя по-прежнему на станции в одну сторону, ту, откуда он появился здесь, горел вечный красный: «Стой, не проезжая светофора».
Прошлое, что давно перестало быть будущим, приходило только во снах — и тогда он просыпался, кусая тяжёлый сонный воздух как собака — свой хвост.
Он как-то ещё раз встретил своего друга. Тот чувствовал себя немного неловко, устроить товарища на непыльную работу за лесом он не сумел, и оттого о своей службе рассказывал мало. Они снова сидели в столовой, и старый товарищ привычным движением разлил водку под столом:
— Я тебе расскажу в двух словах. Есть у меня одна теория — началось, как я понимаю, всё с того, что один сумасшедший профессор собрал в шахте темпоральный охладитель. Я ведь тебе рассказывал, что у нас тут ракетных шахт полно. По договору с американцами мы их должны были залить бетоном, но потом все это замедлилось, а бетон, разумеется, весь украли.
Профессор собрал установку в брошенной шахте, охладитель несколько лет выходил на свой режим, так что заметили его действие не сразу. До сих пор непонятно — истлел ли профессор в своей шахте, или до сих пор жуёт стратегический запас в бункере. Так или иначе, день ото дня холодает, и время густеет на морозе. Поэтому у нас зима, зато скоро Мересьева увидим. Знаешь, что у нас тут Мересьев полз? Полз да выполз к своим. Кстати, Маресьев или Мересьев — ты не помнишь, как правильно?
— Не помню.
— Так вот, это у нас он ёжика съел.
Обоим стало жалко ёжика. Мересьева, впрочем, тоже.
— …Сначала никто ничего и не заметил — отклонение было маленьким — пассажиры и вовсе ничего не замечали: в поезде время всегда идёт долго, ну, а если ночью из Москвы в Питер едешь, так всё и проспишь. А потом отставание стало заметным, стало нарушаться расписание — тут как не заметить?
И от греха подальше в конце девяностых стремительно построили новый Мстинский мост и убрали движение отсюда. Чужие в зону не суются, да и сунутся — против времени не устоишь, с ним не поспоришь. Найти генератор сложно — это ведь тайная шахта, там поверх капониров и шахт ещё тридцать лет назад фальшивый лес высадили, а теперь этот лес и вовсе от рук отбился…
Вот у нас посреди дороги ёлка выросла. Что выросла — непонятно. Зачем? Мы об неё «пазик» наш разбили: вчера ёлки не было, а сегодня есть.
— Через асфальт, что ли, проросла?
— Почему через асфальт? У нас тут асфальту никогда не было. Ты ешь, ешь. Видишь ещё — тут время течёт для всего по-разному, но ты привыкнешь. Я тебя к нам пристрою, у нас хорошие ставки, программисты нам нужны… — и Васька улыбнулся чему-то, не заметив, что в точности повторяет своё обещание.
— А обратно мне нельзя?
— Обратно? Обратно никому нельзя. Помнишь про анизотропную дорогу? Мы, начитавшись книжек, думали, что анизотропия штука фантастическая, а потом на третьем курсе нам объяснили по Больцману, что в зависимости от энтропии время во Вселенной может течь в разные стороны. Но это только первое приближение, всё дело в том, что мы живём на дороге.
— Анизотропное шоссе?
— Шоссе? При чём тут шоссе? Я про железную дорогу говорю. Впрочем, шоссе, дорога — это все равно. У нас тут пути — тут видишь, у нас пути разные — первый путь это обычный ход, а второй — обратный. По второму пути у нас никто не ездит — там даже за Окуловкой рельсы сняты. А по основному пути тебе рано.
— Почему рано?
— А не знаю почему. Даже мне рано, а тебе и подавно. Но ты всё равно на основной путь не суйся, если ты перепутаешь, то даже сюда не вернёшься. Это только начальник дистанции туда-сюда ездит. Как Харон.
Зима тянулась бесконечно — только морозы сменялись оттепелью.
Иногда, вечером заваривая крутым кипятком горький грузинский чай, Тимошин чувствовал своё счастье. Оно было осязаемо, округло и упруго — счастье идущего вспять времени.
Они встречались с Васькой, когда он приходил поговорить.
Каждый раз он звал его на работу и каждый раз рассказывал новую версию того, отчего образовалась Веребьинская зона. Но итог был один — ничего страшного, просто нужно делать своё дело. Помнишь, Тимошин, мы особо много вопросов в институте не задавали, и всё как-то образовалось, все на своих местах, даже здесь встретились. Железнодорожник нигде не пропадёт, если он настоящий железнодорожник, ты понимаешь, Тимошин? Да?
Потом они встретились ещё, и Тимошин услышал новую, ещё более невероятную историю. Она прошелестела мимо его ушей, потому что Тимошин прижился, и не было ему уже не нужно ничего — никаких объяснений.
Он находился в странной зоне довольства своей жизнью и думал, что вот, отработает ещё месяц и подастся в Вычислительный центр. Или, скажем, он сделает это через два месяца — так будет ещё лучше.
Проснувшись как-то ночью, Тимошин накинул ватник на плечи и вышел перекурить. Как-то сам собой он начал курить — чего раньше он в жизни не делал. К этому, новому времени хорошо пришёлся «Дымок» в мятой белой пачке, что обнаружился в кармане ватника.
Тимошин стоял рядом с домиком и думал, что вполне смирился с новым-старым временем. Единственной памятью о прошлом-будущем остался телефон, который в столовой справедливо приняли за иностранный калькулятор.
Он подкинул телефон на ладони и приготовился запустить им в сугроб, но вдруг понял, что схалтурил — тот светофор, что он сам чинил днём, подмигивал ему, зажигался и гас, разрешая движения с неположенной стороны. Сегодня Тимошин, засыпая на ходу, что-то намудрил в реле, и, не проверив, ушёл спать.
Это было больше чем позор, это была потенциальная авария, а, значит, преступление. А Тимошин знал с институтских времён фразу наркома путей сообщения о том, что всякая авария имеет имя, фамилию и отчество.
Он подхватил сумку с инструментами и побежал к светофору. Но только приготовившись к работе, он вдруг увидел, как к станции, повинуясь огням, медленно подходит поезд.
Что-то в нём было не то — и тут он понял: вагоны были Тверского завода. Вагоны были не аммендорфские, а ТВЗ, вот в чём дело. Пять гофров, а, иначе говоря — рёбер жёсткости, указывали на то, что это поезд из другого времени. И он шёл по второму пути — совсем с другой стороны.
Это был его поезд, тот давнишний, из тамбура которого вечность назад он скатился кубарем на промёрзшую асфальтированную платформу.
Поезд постоял несколько секунд в тишине, потом внутри что-то заскрипело, ухнуло, и он стал уходить обратно — в сторону морозного тумана, в своё уже забытое Тимошиным время.
И Тимошин сорвался с места. Из последних сил он припустил по обледенелой платформе. Ватник соскочил с плеч, но Тимошин не чувствовал холода.
Дверь призывно болталась, и Тимошин мысленно пожелал долгих лет жизни забывчивому проводнику. И вот, кося взглядом на приближающийся заборчик платформы, он прыгнул и, больно стукнувшись плечом, влетел в тамбур.
Он прошёл не один, а четыре вагона, пока не увидел старичка, что по-прежнему игрался со своим цилиндром Рубика, стоя в коридоре. Тимошин посмотрел на него выпученными глазами безумца, а старичок развёл руками и забормотал про то, что вот они только что чуть на боковую ветку не уехали, а всё потому, что впереди на переезде товарняк въехал в экскаватор.
Наконец, Тимошин открыл было рот:
— А где этот? Мордатый такой, а?
— А сошёл приятель твой, да и ладно. Нелюбезный он человек. Неинтеллигентный.
Тимошин проверил портфель и бумаги. Телефон, по-прежнему зажатый в руке, вдруг мигнул и запищал, докладывая, что поймана сеть.
Тимошин подложил его на подушку и взял в руки бритву, тупо нажав на кнопочку. Бритва зажужжала, забилась в его руках как пойманный зверёк — и это вконец отрезвило Тимошина.
Но что-то было не так. И тут он поймал на себе удивлённый взгляд старичка, последовал ему и тоже опустил глаза вниз. Тимошин стоял посреди купе, ещё хранившего остаток августовской жары, и тупо глядел на свои большие чёрные валенки, вокруг которых растекалась лужа натаявшего снега.
Извините, если кого обидел.
07 августа 2011
(обратно)
История к 12 августа
Знаменитая книга начинается так: "12 августа 18…, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра — Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так
неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча". (По этому поводу в самом начале другой знаменитой книги есть ехидное замечание: "Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192… года (иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы — в силу оригинальной честности нашей литературы — не договаривают единиц), у дома номер семь по Танненбергской улице, в западной части Берлина, остановился мебельный фургон, очень длинный и очень желтый, запряженный желтым-же трактором с гипертрофией задних колес и более чем откровенной анатомией".
Толстой, как мы видим, не договаривал десятков.
Тургенев, впрочем, любил полные даты, но не договаривал координат: "Что, Петр, не видать еще? — спрашивал 20-го мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками", и не договаривал названий: "Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О… (дело происходило в 1842 году), сидели две женщины — одна лет пятидесяти, другая уже старушка, семидесяти лет."
Впрочем, как когда: "10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известною "Сопvеrsаtion" толпилось множество народа. Погода стояла прелестная; все кругом — зеленые деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы, — все празднично, полною чашей раскинулось под лучами благосклонного солнца; все улыбалось как-то слепо, доверчиво и мило, и та же неопределенная, но хорошая улыбка бродила на человечьих лицах, старых и молодых, безобразных и красивых".
Достоевский опускал как годы, так и названия (впрочем, легко восстанавливаемые: "В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С — м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К — ну мосту".
Извините, если кого обидел.
11 августа 2011
(обратно)
История про табло
Все отчего-то стали постить фотографии рекламных плакатов партии Прохорова. Их снимали по всей России, и Прохоров в них то был на фоне сантехники, то реклама менялась на социальную, и вслед Прозхорову появлялсь надпись вроде "И тебя вылечат" с адресом какого-то хосписа, то выглядывал из гигантской тумбы, что делало его похожим на голую бабу в старинной авторучке. В, общем, всё было удивительно.
Да только я вляпался в это дело — действительно, это какие-то мистические изображения.
Но это и нормально — мистика это почти харизма.
Если бы эти табло ночью закорачивало, и из них сыпались яркие звёзды искр, то это и вовсе бы привлекло на выборы лишних пять процентов.
И вот, в одном немалом городе Прохоровское табло и вовсе заклинило — и я в недоумении смотрел на три буквы, которые знает весь мир и всё такое.
Нет, что-то в этом определённо есть.
Извините, если кого обидел.
11 августа 2011
(обратно)
История про одну рецензию на Шкловского
А вот рецензия Н. Замошкина на книгу Виктора Шкловского "Встречи". Благодаря любезности нынешнего главного редактора журнала Андрея Василевского, я могу показать, что там, собственно, было написано.
«НЕВЕРНАЯ ПОЛУПРАВДА»
Н. ЗАМОШКИН
«Новый мир» № 11–12, 1944, с. 132–137
Извините, если кого обидел.
13 августа 2011
(обратно)
История про субботу
Прошёл удивительно пустой день, прямо минус-день, я бы сказал.
Ничего не сделал полезного для человечества, даже для себя, а уж как я люблю себя, так и вовсе не пересказать.
Даже не купил средства от комаров.
Работа моя делается с некоторым запозданием. В сходных условиях боярин Морозов написал приказчику своих сел Кузьмин Усад и Замятнино К. Суровцеву 28 сентября 1659 г. (Тот сообщил ему, что на Знаменском майдане производство поташа не начато вовремя, зола не изготовлена в срок и дело встало).
Боярин написал в ответ: «И ты дурак… ни та ни ся, пьяница, ненадобной бражник, все ходишь за брагою, а не за моим делом, и мне не радеешь, и прибыли не ищешь, своим ты пьянством и нераденьем многую у меня ты казну пропил. Во всех моих вотчинах на мойданех огни запалили в опреле месяце, а у тебя в ыюне. Для чево так у тебя поздно с половины лета стали огни палить? Да и тут у тебя, пьяницы, и золы не стало, не токмо чтоб и в новой год запасть золы и дров. Нихто так ни в которой моей вотчине такой порухи казне моей не учинил, как ты, дурак, пьяница, здуровал, и довелся ты за то жестокова наказанья и правежу большова, да и так тебе, дураку, не велю спустить даром. И тебе б однолишно зола и дрова велеть готовить, чтоб мойданное дело бес простою шло, и к новому б году золы и дров запасти гораздо с лишком. Во всех моих вотчинах на мойданех золы и дров запасено с лишком, а у тебя нет, и тебе б однолишно радеть и поташ велеть делать самой доброй».
Я считаю, что это образец делового стиля.
Извините, если кого обидел.
14 августа 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— А вот да, когда пишете, где ваши читатели, кто они, много ли места занимают, насколько рассчитываете, на что ради них готовы и все такое?
— А это когда как — я ведь ни одним жанром не брезгую, а там везде у читателей ожидания разные. Мне о моих читателях известно мало. Но они есть, я проверял.
— Есть, есть читатели. По крайней мере я точно есть. После Шкловского, Тынянова не собиратетесь ли рассмотреть случай Олеши?
— Ну Шкловского мне надолго хватит. Да и на Тынянова много специалистов помимо меня. И, кажется, Олеша сам себя рассмотрел.
— Бабель это Ваш писатель?
— Бабель — всехний.
— Здравствуйте! Скажите пожалуйста верите ли Вы в теорию что Шолохов не писал "Тихий Дон" и прочие произведения.
— Нет, я думаю, что ни одного убедительного доказательства в пользу того, что автором "Тихого Дона" является кто-то другой не предоставлено. (Авторство других произведений, скажем "Поднятой целины" и "Они сражались за Родину" не оспаривается). Другое дело — мотивы тех людей, которым было бы приятно, что это не Шолохов написал "Тихий Дон".
— Как именно вы прятали граненый стакан в электричке "Москва-Петушки"? Не отшучивайтесь!
— Да что там отшучиваться. Стакан легко — особенно при моей фигуре — зажимается подмышкой, причем даже наполовину полный.
— Есть такие книги, которые читаете и думаете, эх, вот это хотел бы написать?
— Да, конечно. Но с поправкой на то, что иногда эти восхитительные книги нужно было написать именно в XX веке, а написать их сейчас было бы глупо.
— "Какой я к черту писатель, я местный мельник или ворон, а в лучшем случае — свидетель". "Писатель" — кто он?
— "Писатель" — это очень широкое понятие. Писатель старого образца — это человек структуры, что заключила гласный контракт с обществом на поставку книжной продукции. Писатель старого типа — часть этой структуры, принятый на работу, и живущий с этой работы. Писатель нового типа — это либо сценарист широкого профиля, либо клоун, сам пишущий себе репризы. Есть ещё писатели прошлого, писатели-самодеятельные-графоманы, писатели-учителя-жизни.
Много всяких странных объектов заключает в себя определение "Писатель".
— Если честно, рассчитывала на более философский ответ.
— Это философский невопрос.
— Ваш любимый герой в Южном парке?
— Тут как в жизни — нет одного любимого. Самый важный там, тот, без кого мир неполон — Эрик Теодор Картман.
Однако любить этого подонка невозможно, как они сами про него говорят: "Да ты, чё, мы и не считали тебя никогда крутым". Ну а сам ты всё время оказываешься поместью Брофловски и Марша, хотя многие, я уверен, считают, что моё поведение в точности повторяет Лео Баттерса.
— А почему Вы так боитесь что-то потерять или забыть, все записываете и записываете? Неужели потом все перечитываете?
— Перечитываю и иногда пускаю в дело. Тут КПД как у паровоза — процентов девять. Но для этого стоит содержать специальный шкаф в мастерской, где стоят коробочки с разными винтиками, болтиками, гвоздиками, ушками, петельками, проводочками и лампочками.
— Вот Вы умный, как думаете зачем люди лытдыбрят на всю Сеть, мониторя читателей и прохожих, а после кричат "Эй Вы там в Мухосранске, прекратите меня читать!"?
— Это вопрос альтернативных свойств. Это то же самое, что спросить: "Эй, отчего люди роняют на ногу утюг?". То есть, я должен сначала сказать, что не все люди так делают, потом сказать, что ошибки свойственны людям, затем сказать что людям вообще свойственно много того, что другие люди не понимают, а потом заметить что-нибудь об автокомпенсации желаний. Но это ужасно скучно, поэтому я скажу, что вопрос дурацкий.
Извините, если кого обидел.
14 августа 2011
(обратно)
История про facebook
Сон в руку — смотрю сейчас серию "Южного парка", в которой Кайла затянуло в фэйсбук ("You Have 0 Friends"), и профиль Стэна Марша, там зажил собственной жизнью. Картман там говорит: "Чтобы найти здесь новых друзей, нужно разгрести кучу членов" (потому что они всё время нарываются на педофилов-эксгибиционистов). При этом мне пришёл порноспам (в нём заголовки порнороликов и как-то я о них уже рассказывал). Когда я прочитал сегодняшний, то восхитился: "Электрик жарит яичницу" Я прямо порадовался за этих людей, но что-то меня остановило, и я прочитал строчку снова. Там всё же было написано "Электрик жарит посетительницу". (Бред, потому что, скорее электрик — сам посетитель, но это уже не так важно).
Извините, если кого обидел.
14 августа 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Вы когда видите красивую женщину, то раздеваете её в мыслях?
— Не задумывался… Сейчас… Нет, пожалуй нет. Это какой-то гибельный путь: он мысленно познакомился с ней, мысленно раздел её, их роман мысленно длился, и вот уже у них родились мысленные дети. Потом они мысленно развелись — мысленный разрыв был мычительным и спустя три года они мысленно сошлись снова. Так они мысленно прожили до своей мысленной смерти.
Извините, если кого обидел.
15 августа 2011
(обратно)
История про актрису с кораблём
Читаю в журеалистском сообществе очередной призыв пиарщика како-то актрисы в стиле "Налетай! Подешевело!". У актрисы есть корабль и она может его показать… Очень хорошо.
Но дальше там идёт: "Она не только самостоятельно написала рассказ о приключениях молодых ребят, которые попали в Меловой период географической эры Мезозой, но и поставила его и сыграла в нём главную роль".
Географическая эра — это к-к-руто, Бивис.
Извините, если кого обидел.
15 августа 2011
(обратно)
История про урок князя Болконского
Мне интересен как раз разговор в школьном классе, где красавец князь Болконский, мечта всех женщин СССР, предлагает ученикам схему познания мира.
Извините, если кого обидел.
15 августа 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Чем пахнут ваши руки?
— Заговорённым ведьминским мылом.
— Какой у вас рост?
— 176 см.
— Какое у вас было самое запоминающееся эротическое приключение?
— Давно, кажется, ещё в прошлой жизни, когда на спор с самим собой выучил наизусть «Евгения Онегина». Некоторое время спустя после этого эпохального события я возвращался из Пскова и ехал в одном купе с девушками-рижанками. Дело в том, что это были именно девушки-рижанки, что значило тогда — «заграничные девушки». В том, что на самом деле существуют какие-нибудь парижанки можно было усомниться, а вот существование рижанок определённо проверялось. Это придавало особый смысл акценту и внешности.
Была уже ночь, часа два ночи, я думаю.
Мы давно болтали о каких-то пустяках, а одна из моих попутчиц, худенькая девочка с длинными прямыми волосами, уже привалилась к моему плечу.
Чтобы закрепить свой успех, я начал читать стихи. Надо сказать, что в ту пору я самозабвенно, как тетерев на току, читал стихи по поводу и без повода. Но тут повод, определённо, был.
Итак, я прочитал строфу из «Онегина», и моя очаровательная попутчица медленно подняла голову:
— А что, ты это наизусть знаешь?
— Ну да, — с плохо скрываемой гордостью… какое там — с нескрываемой гордостью произнёс я.
— А нахуй (тут невозможно вставить какой-нибудь эвфемизм, сказано было именно известное короткое слово), спросила моя собеседница — зачем тебе это надо?
И это навсегда вылечило меня от суетливого чтения стихов незнакомым барышням.
Извините, если кого обидел.
16 августа 2011
(обратно)
История про наблюдения за жизнью
У меня перестал выдавать сигнал декодер. То есть, я ещё не разбирался, но это такой старый декодер АКАДО, причём такой старый, что сама компания признавала, что он работает плохо (но хотела поэтому впарить мне новый за $150). Я как-то по этому поводу особенно не испугался, и наплевав на половодье кабельных каналов, воткнул кабель в телевизор напрямую.
И что же? Совершил массу открытий — теперь все каналы в непривычном порядке, и в этом сказочном лесу я и совершил открытия.
Кто вот смотрел "Дом-2"? Вот, типа, прямо сейчас, а? А я видел! Ё, думаете там томные девки в леопардовых штанах?! (Я их видел, когда смотрел "Дом-2" в прошлый раз).
Нет! Там бродят четыре мужика в чорных майках, похожие на дальнобойщиков Правду вам говорю — на дальнобойщиков! Руки перекачаны, предплечья в татуировках, наличествует брюшко — страсть!
Прикинь, братан?
Извините, если кого обидел.
18 августа 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
— Вы ревнивы?
— Нет, не очень. Ревность вообще бывает разного цвета — мало что есть хуже подсматривающей и подслушивающей жёлтой ревности, кто в неё вступил, тому не жить. А есть ревность иная — к другой жизни женщин, что ты любил, к жизни, которую они прожили без тебя. У неё голубой цвет отчаяния. Цветов много, а ревности у меня мало.
— Нравится ли вам групповой секс?
— "Свальный грех — высшая точка русской соборности".
Но, если правду сказать, я больше теоретик, и теории мои говорят о том, что подобные предприятия (если заботится об эстетике), требуют большей ответственности участников. Ответственность во всех её смыслах возрастает, вообще сексуальная жизнь требует осмысленности, то тут она требует её вдвойне. Или втройне.
Если, повторяю, заботиться об этике и эстетике.
— Вы скупой? Любите, что прямо — ух, и кутеж, цыгане, бокалы об пол? До конца что бы.
— Бокалы об пол — точно не люблю. Это чужая и довольно глупая эстетика. К цыганам отношусь с некоторой настороженностью, а вот правильно построенный кутёж — довольно сложное искусство.
И дело тут не только в деньгах, но и в правильном осознании целей и средств.
А так-то — да, скуповат.
Лёгких денег в моей жизни никогда не было, а чужих безумств я видел столько, что на свои желаний не осталось.
— А жизнь изреченная есть ложь?
— "А уж как споёшь!" — как говорили разные звери мышонку-певцу в одном мультфильме.
— А вот не нужно ли менять страну (или город) время от времени?
Это зависит от того, чем вы занимаетесь. Если вы — путешественник, то, наверное, нужно. Или если вас грозятся убить какие-то тёмные силы — это необходимо.
— А вот никакой санитарно-гигиенической пользы я в этом не наблюдаю.
Да и санитарно-гигиенические меры сами по себе счастья не несут, его надо иначе выращивать.
— Вы переезжаете? Для вас это болезненно? Вообще, что значит смена квартиры?
— Переезжаю, да. Наверное, болезненно. Но мой дом собираются снести уже две жены назад. Тут поневоле привыкнешь.
С другой стороны, уже не реагируешь на друзей, которым хочется что-то сказать (вернее, они думают, что надо что-то сказать, и вот говорят тебе: "Наверное, ты переживаешь? Ведь столько лет тут жил? Тут, в таком прекрасном районе… Не жалко тебе?"
Я очень живо представляю, как человек умирает, и у смертного одра толпятся друзья и родственники. И стоит над головой умирающего шелест: "Ах, как тебя жаль… Такой ведь ещё не старый, а помираешь. А ведь только ещё был молодой, и мы так веселились! Не жаль тебе умирать-то!? Тут-то ведь — трава зелёная и небо голубое, а там — ещё хуй знает что…"
И, представив себе эту картину, я как-то веселею и преображаюсь.
— Какая самая страшная болезнь?
— Безумие. Мне кажется — да, безумие. С другими болезнями, даже самыми страшными выходит так, что человеку оставляют то, что отличает его от зверей. Он мыслит, с ним можно говорить…
Впрочем, наверное, безумие идёт за большой болью, и когда страшные болезни убивают человека, за ними, перед концом приходит безумие.
— Что вы думаете об арабских революциях? Нужно ли нам вмешиваться? А Западу?
— Хорошо у вас получилось — почти "арапских".
Я про них довольно мало думаю. Вот мой приятель Лодочник года три поработал в Ливии и по этому поводу много что думает — особенно после того, как его с одним чемоданом погрузили на самолёт Министерства по чрезвычайным ситуациям, да и вывезли из страны. А я думаю мало — у меня и знаний мало. Вмешиваться, чтобы вывезти соотечественников, я думаю, надо. А вот все остальные вмешательства напоминают мне то, как дети ловят в лесу ежа или крота и начинают их кормить булками и молоком, делать домики зверушкам — и в итоге кроты и ежи жутко мучаются (более, чем на природе), а потом подыхают. Нет, иногда лесных жителей увозят в город, и тогда, прежде чем сдохнуть, они загаживают квартиры, в которых живут дети. Но, по-моему, и так многие знают, что мир несправедлив, и попытки его быстро улучшить приводят к странным результатам.
— В вас есть еврейская кровь?
— Нет.
— Какой последний город, в котором вы были?
— Саранск.
— Можно ли влюбиться не в женщину, а в часть ее тела?
— Ну, вопрос-то очевидный. Он даже описан в классике: «Я говорю тебе: изгиб. У Грушеньки, шельмы, есть такой один изгиб тела, он и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался. Видел и целовал, но и только — клянусь!» — ну и всё такое. Жизнь хитрая штука — люди могут влюбиться в резиновую женщину из специального магазина, сажать её за стол и говорить с ней. Да что там — люди могут влюбиться в буквы на экране и всю жизнь прожить с этими буквами, не зная, генерирует ли их женщина, или вовсе создаёт какая-то машина Тьюринга.
Да, можно влюбиться в деталь — и эта деталь будет стоять перед глазами, несмотря на то, что годы меняют человека.
Не говоря уж о том, что разные части тела стареют по-разному. Я как-то жил в ленинградской коммунальной квартире, и рядом со мной жила профессиональная натурщица — её лицу было за пятьдесят, а телу — лет тридцать. Вот простор для философии по поводу деталей.
Хитрая штука жизнь, вот что.
— Вы лысый или бреетесь?
— И то, и другое.
— Что любите?
— Всё.
— Как вы думаете, почему имя Дуня созвучно с английским сленговым выражением "dunno"?
— Скажу вам честно: я на эту тему совершенно не думаю, и думать не собираюсь.
— У вас есть собака?
— У меня нет даже собаки.
— Владимир, а Вам нравятся анекдоты, которые пишут про вас в ЖЖ? Подозреваю даже иной раз, что вы сами… Мне про Вас и сантехника очень понравился.
— Про сантехника? Анекдоты? Я не видел. Где это?
Извините, если кого обидел.
19 августа 2011
(обратно)
История про гоблинов
С подачи нашего эстонского друга перечитал «Заповедник гоблинов» Саймака.
Я должен заметить, что этот текст был и тогда совершенно прекрасен, и сейчас вышел не хуже — буквы за тридцать лет не испортились, несмотря на то, что я читал «Заповедник гоблинов» даже не в книге, а журнальной публикации. Это были вырванные из «Смены» страницы, причём порядок нескольких частей был перепутан, а половина первой главы отсутствовала.
На задней странице самодельной подшивки были изображены обнажённые женщины — в той мере обнажения, которая была позволена в СССР. На самом деле, это был снимок из того же журнала изображавший какое-то цирковое представление и девушек в перьях.
Ну как было не полюбить этот роман?
Впрочем, есть несколько обстоятельств.
Во-первых, сейчас понимаешь, что по нынешним меркам этот роман неформатный — в нём листов семь, и с этим объёмом издатели, как правило, разворачивают автора. Маловато. Удивительно другое — отчего он до сих пор не экранизирован.
Во-вторых, это, конечно, постмодернистский роман — в самом правильном понимании этого слова (Нет, я знаю, что никто этого слова не понимает, и все употребляют его неверно). Это текст, в котором есть Шекспир и его дух, неандерталец, инопланетяне, дракон и гоблины (Кстати, я был вполне дремуч и думал, что ударение в этом слове ставится на «и» — так, ей Богу, лучше звучало). Саймак очень интересный писатель (я, правда, не читал оригинал), но сюжетная конструкция «Заповедника гоблинов» мне кажется образцом.
Смотрите: профессор университета из «недалёкого будущего»[69] (это важно, потому что массовая культура тогда, в 1968 году, когда писался роман, осознала, что «профессор» может быть не только старичком в очках, но и вполне активным персонажем с развитой потенцией — с ним читатель не прочь себя отождествить, не всё же ориентироваться на мускулистого космического десантника), вернувшись на Землю из командировки на другую планету, обнаруживал, что транспортная система его сдублировала, и, более того, двойник погиб при странных обстоятельствах. Он исключен изо всех списков, а в его квартире живёт красивая женщина с биомеханическим тигром (это непреложный закон массовой культуры — красивая женщина на третьей странице обречена на любовь героя, а они оба — на хеппи энд).
Профессор приводит женщину к своим друзьям в кабак, и после обычной в таких случаях драки (в романах кабаки для этого и существуют), перемещаются в хижину неандертальца. (Как ни странно, неандерталец — фигура комическая. Он гонит чистый как слеза самогон, отпускает саркастические замечания по любому поводу, и то и дело пускает в ход кулаки). Среди друзей профессора есть ещё и просто Дух (как потом выясняется — дух Шекспира). Там происходит разговор об Артефакте — предмете, который не берёт никакой инструмент, и непонятно вообще что он такое.
Теперь этот Артефакт хотят продать. При этом профессор знает, что на той планете, куда он случайно попал, готовы обменять целую библиотеку вечных знаний на этот предмет. Дальше происходит цепочка детективных событий, перемежающихся визитами в заповедник рядом с институтом, где живут сказочные существа — гоблины, феи и эльфы — профессор обнаруживает, что на Артефакт претендует представитель космической расы колесников — то есть, ульевых конгломератов на колёсах.[70] (Читателю становится понятно, что именно колесники убили дубль профессора и стараются убрать его со сцены, чтобы самим купить библиотеку).
В итоге профессор с друзьями проникает в музей, в котором лежит Артефакт и выпускает содержавшегося, как оказалось, внутри него дракона. Колесники ловят дракона, профессор зовёт на подмогу сказочных существ, которые и побеждают инопланетян. Владельцы космической библиотеки дарят саму библиотеку людям, а дракона оставляют в заповеднике гоблинов, потому что хотели пристроить существо, служившее им домашним питомцем, в хорошие руки.
Профессор кроме новой работы библиотекаря получает и красивую женщину вкупе с биомеханическим тигром.
В чём тут удача Саймака? А в том, что он удержался на очень тонкой грани между «юмористическим фентэзи» и «героической фантастикой».[71] То есть, это победа вкуса.
Пожалуй, я не могу назвать в русской фантастике книги, что могла бы хоть как-то соперничать с Саймаком в этом плане.
Да что там, известно, как я к этой самой фантастике отношусь.
Извините, если кого обидел.
20 августа 2011
(обратно)
История текущих событий
Как там в Ливии, мой Постум? Или где там? Неужели до сих пор ещё воюем?
Извините, если кого обидел.
22 августа 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Вам когда-нибудь женщины первые признавались в любви?
— Бывало.
— Почему на этом сервисе так много идиотов задают вопросы?
— Вот уж не знаю. Мне вообще-то кажется, что идиоты распределены по нашей жизни довольно равномерно. Более того, самые вменяемые люди внезапно совершают какие-то странные поступки, да такие, что сами потом руками разводят. А так-то этот сайт мало отличается от обыденной жизни. Так мне кажется.
— Ебаться в жопу любите?
— О, наконец-то мне задали этот вопрос! Обычно его задают красивым женщинам, чьи ответы я тут в большом количестве видел. Кажется, они (красивые женщины) оттачивают на этом вопросе остроумие, и так в этом преуспели, что мне не угнаться. Но вам спасибо — теперь и на меня упал отсвет чужой красоты и общественного интереса.
— Разве "Город" Саймака это хорошая книга? Вы как считаете — хорошая? Вам эти меланхолические рассуждения о людях, роботах, псах и муравьях нравятся? Ни одного запоминающегося героя, ни одной стоящей философской идеи, и это — классика?
Да, хорошая. (Ну, то что там нет ни одного запоминающегося героя, ни одной идеи" — я оставлю за скобками. Вдруг вы прочитаете "Войну и мир", и там не обнаружите идей и героев, а потом прочитаете "Красную шапочку", и скажете, что наконец-то обрели запоминающегося героя, и тот — бабушка. Или вдруг вам нравится Конон-варвар, а про остальное читать скучно). Собственно в обсуждении "Заповедника гоблинов" у меня в журнале запоминающиеся герои перечисляются, но более того, там Саймак в 1968 году создал мир, который в 2011 не кажется архаичным ни стилистически, ни идеологически — например мысль о том, что иррациональная любовь к домашним животным может быть главной мотивацией поступков мне кажется очень интересной. "Заповедник", к примеру, книга изящная. То есть, в ней соблюдена та мера изящества, которая отличает "книги на своём месте". А так-то да, обе — не "Преступление и наказание", нет. Но глупо такоценивать книги.
— Преступление и наказание нравится. Война и мир нравится. Красная шапочка нравится и Алиса в зазеркалье. Конан даже (но лучше уж тогда Дюна или Левая рука тьмы). А Город Саймака не нравится ну совсем. Домашнего животного у меня нет, завести? У Вас есть?
— Тут у нас с вами произошло смешение тем — мы как бы говорим одновременно о двух книгах — о "Заповеднике", который мне нравится больше и "Городе". Я, скорее, объясняю то, что Саймак — классик на примере "Заповедника" (тут у нас и вышла некоторая путаница. А животное лучше не заводить, пока не припёрло так, что и вопроса такого не зададите.
Само собой решится.
— Какого цвета женское белье предпочитаете?
— Стесняюсь сказать, но я и мужского-то не ношу.
— У вас есть дома комары?
— О, да! Причём как-то недавно, пару недель назад, появились, и ничто их не берёт. Приходится их сдувать вентилятором, но от этого сон беспокойный — как у альпиниста в палатке во время сильного ветра.
— Чего вам хочется прямо вот сейчас, в эту самую секунду?
— Чтобы за мной приехала машина и я не вёз мешок с яблоками в троллейбусе. Но она не приедет, да и мешок небольшой.
— Что с яблоками будете делать?
— Подарю красивой женщине.
— Что, весь мешок одной? Лучше бы шли по улице и дарили яблоки красивым женщинам со словами "От нового Адама — Еве", а назавтра об этом в блогах написали бы.
— Красивые женщины осторожны и ходят по улицам с опаской. Акция не удастся. Но более того, слова эти пошлы, а устраивать хоть что-то, чтобы попасть в блоги — беспросветная глупость.
— Странно вы мыслите. Выходит, если завтра кто-нибудь акцию совершит или чтондь изобретет и об этом в блогах напишут, то по-вашему цель только одна — попасть в блоги. Тоска.
— Я?! Странно? Да вы не в уме! Предлагаете мне приставать к женщинам на улице, нести какую-то пошлятину, за которую мне нормальный человек зонтиком по голове треснет, да ещё в качестве бонуса говорите, что про это в блогах напишут. Нет-нет, лучше попейте сейчас чаю с булками и идите спать. Завтра у вас унылый рабочий день.
Извините, если кого обидел.
23 августа 2011
(обратно)
История про эпопеи
Думал с утра о романах-эпопеях, и вдруг заметил, что что-то мне мешает произнести слова о русских традициях этого дела. В XX век я могу назвать множество эпопей, написанных по-русски. А вот в XIX веке одна «Война и мир» стоит, окутанная пороховым дымом.
И правда, неужели нет второго толстого романа, пусть бездарного или скучного, но чтоб героев было как тараканов и все на фоне исторических катаклизмов?
Непонятно.
А с двадцатым веком всё ясно — эпопея на эпопее, начиная с «Хождения по мукам», про которую Георгий Адамович писал: «Попадётся роман, вроде «Хождения по мукам», книги столь же отвратительной, сколь и талантливой, книги, о которой хотелось сказать, что она слишком легковесно занятна для своей темы, слишком ярка и картинна, шаблонно увлекательна, что в ней «хождений» много, а «мук» мало, что тему свою она погребла под всяческими беллетрестическими завитушками и виньетками, правда, прекрасно сработанными…»[72]
Адамович совершенно прав, однако беллетристика «Хождения по мукам» до сих пор востребована, а вот угрюмо-серьёзное «Красное колесо» вне зоны чтения.
У Симонова в одной из пьес есть упоминание сочинений Элизе Реклю. Это был довольно знаменитый географ-француз, причём переиздающийся и по сию пору.
Так вот герои одной из пьес Симонова постоянно прячут коньяк за толстым томом, приговаривая: «Может, когда я вошел, ты спрятал эту бутылку за популярное сочинение Элизе Реклю «Человек и земля», которое все покупают и никто не читает? (Роется на книжной полке.) Постой, постой. (Достает бутылку, смотрит на свет, нюхает)».[73]
У некоторых эпопей сложился такой же особый статус. К примеру, безотносительно от занимательности самого текста «Красное колесо» для хранения коньяка весьма удобно.
Довольно долго ходил анекдот про то, что один критик Немзер прочитал «Красное колесо» с начала до конца.
Надо сказать, что я прочитал «Красное колесо» именно из-за этого анекдота. Споря с ним, так сказать.
Извините, если кого обидел.
24 августа 2011
(обратно)
История про репу
Сейчас, в разговоре с могущественным организатором всего Пегасовым об эпопеях, я довольно хамски заявил, что легко, под заказ сделаю изо всего эпопею.
— И из "Репки"? — спросил Пегасов.
— И из «Репки». Ведь эпопея — это что? Это история нескольких людей или семей на фоне исторических катаклизмов.
Итак роман-эпопея:
РЕПА
Узел первый: 1914 год, август. Дед, впрочем, тогда он не был дедом, а вполне ещё молодым человеком и собирался на войну. Ремни хрустели и казачья шашка болталась на боку как дополнительный символ мужественности. Водка лилась рекой и молодой парень даже забыл о своём главном просчёте в жизни — как-то он послал свою коллекционную репу премьеру Столыпину, но не уследил, и с почты посылку украл местный хулиган и вор по прозванью "Репа". А теперь он уходит бить германца, а перед уходом в армию велел завести своей суженой собаку и посадить репу. Так она и поступила. На фронте он сдружился со своим командиром, хорунжим Мелиховым — несколько раз они спасают друг другу жизнь, азартно споря, чья на этот раз очередь.
Узел второй: год 1919, май. Второй год шла Гражданская война. Жучка с тоской вспоминала своё довоенное житьё, а особенно — кормёжку. Теперь же приходят то белые, то красные, и некуда крестьянину податься. А уж крестьянской собаке — и говорить нечего. Еды мало, приходится грызть кости красноармейцев. Вернулся с каторги большевик по прозванию "Репа", приговаривая: "Посадил Дед Репу, а Репа вышел и посадил Деда на перо". Пришлось деду бежать в лес. На следующий день в селе появился ободранный и окровавленный Мелихов и долгое время скрывается от чекистов. Когда он исчезает, молодая женщина понимает, что беременна.
Узел третий: 1924 год, январь.
Бабка ещё не была бабкой, она стала просто матерью краснощёкого младенца. Бутуз носился взад-вперёд по двору, по клети и подклеткам, по полатям и охлупеням, и ничто не могло его удержать. Правда, голова у её мужа была похожа на репку хвостиком вверх, а головка сына — на репку хвостиком вниз, но на это в тот год обращали мало внимания. Она смотрела на него и сердце выпрыгивало из груди. И ничто — ни фильдеперсовые чулки, ни новый самовар, ни прочие предметы, что привозил из города её муж, не могли затмить радости материнства. Она нежно зовёт сына "репкой"
Узел четвёртый: 1930, октябрь. Застучалась в ворота осенним холодным ветром коллективизация. Раскулачили дедушку, не дождавшегося ещё внуков. Из деревенской церкви сделали амбар колхоза "Красный реповод". Объявили Деда врагом-мироедом, да и поехал он в вагоне с маленькими окошками на север. Долго он скитался я по подворотням ГУЛаг, долго валил лес, добывал руду, вёл караваны горными тропами и варил сталь… Однажды он встретил там бывшего секретаря Столыпина, и узнал, что если бы вовремя послал бы премьер-министру свою репу, если бы Столыпин имел в руках этот исконно русский метательный снаряд, то убийца Богров и на двадцать шагов не подобрался бы к великому человеку.
Узел пятый: 1952, июнь. Про Деда в деревне-то не вспоминали. Сын его вырос, да и сгинул на фронте, расстреляли его в спину заградотряды, и упал он под рекою Сурою, обхватившись с землёю, только ветер обрывки письма разметал. Но осталась от него дочка, что жила вместе с бабкой. Звали её просто Внучка и была она музыкальной — разжившись балалайкой на базаре. И вот как-то Внучка приехала в Москву на сельскохозяйственную выставку, чтобы хвастаться продукцией колхоза «Красный Реповод», а вечером пошла гулять по Москве. Вот она идёт по улице и её приглашают в машину — красивую и блестящую, откуда призывно сверкает чьё-то пенсне. Человек в пенсне вспоминал становление большевистских организаций в Закавказье. Он давно не был там и забыл вкус чурчхелы и лаваша, вкус лобио и шашлыков. Теперь, готовясь к новому будущему, он думал о том, как стать русским более, чем сами русские. Вот репа… Он смотрел на милую девчушку на сиденье рядом с собой — та и вправду была похожа на репку.
Узел шестой: 1963, январь. Деда, чьё честное имя полностью восстановлено и ему даже были вставлены железные зубы за счёт государства, выбирают председателем колхоза. Однако тут же его заставляют сажать кукурузу. Кукуруза не вырастает, а вырастает странный гибрид — «Репуза», который может перемещаться по полям самостоятельно и до смерти жалит зазевавшихся колхозников. Местный участковый в сером кителе выходит на борьбу со страшным растением и лишается обоих рук, так его и зовут с тех пор — Безруков. Многое приходится предпринять героям, пока не задуют новые ветры, наново не выпрямится партийная линия, волюнтаризм не будет осуждён, а репузу не пожрёт борщевик.
Узел седьмой: 1980, февраль. В колхоз приезжает Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР товарищ Леонид Ильич Брежнев. Когда Брежнев посещает передовой колхоз и к нему выходит беззубый дед, то смутное воспоминание тревожит Генерального секретаря: где-то он видел эту голову, похожую на репу, только хвостом вниз. И точно: он вспоминает о том, как сын этого дедушки погиб рядом с ним на "Малой земле", и вот Генеральный секретарь уже забыл, зачем он здесь, забыл про удои и надои, и просто плачет, вспомнив войну. «Надо попросить кого-нибудь написать об этом книгу», — думает он.
Узел восьмой: без даты. Случилась Перестройка, колхоз «Красный Реповод» сперва обанкротился, потом обнищал, а вскоре просто разорился. Заявившийся из города крестный отец международной мафии и кооператор по кличке "Репа" продал приватизированный амбар на сторону и уехал в Израиль. Новые владельцы церкви-амбара Мансур и Джохар открыли фабрику по производству гексогена. Посреди пустых изб доживает бабка дедка. Автолавка уже не приезжает из райцентра, голодно. И тут престарелая внучка-инвалид вспоминает давний рассказ бабушки про 1914 год. Они вспоминают, что много лет назад она посадила за амбаром Репку. И точно, с тех пор она выросла такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Тяжело тащить репку, но им помогает местный милиционер, а теперь околоточный полицейский Безруков, одетый, впрочем, в ту же мышиную форму. Он обещал внучке "любить её по-русски", и обхватил, чем у него осталось, её тонкий стан — та схватилась за бабку, дед вцепился в репку, и началась мала. Все вместе они выдернули репку, которая перетерпев Советскую власть, стала величиной в дом. А в образовавшуюся яму упали Мансур и Джохар со своим заводом.
Радостно залаяла Жучка VI, и все поняли, что спасены, и жизнь теперь пойдёт на лад.
Извините, если кого обидел.
24 августа 2011
(обратно)
История про глюкозу
Разбирая буфет, обнаружил пожелтевший листок. Ничего необычного, обычная аптекарская бирка — интересна лишь дата. Можно лишь строить предположения вокруг остального.
Извините, если кого обидел.
25 августа 2011
(обратно)
История про Фарадея
Провел целый час в размышлениях что будет, если рыбу завернуть в алюминиевую фольгу для запекания, положить в стальную кастрюлю и поставить на конфорку индукционной плиты.
Извините, если кого обидел.
27 августа 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
— Может, Саймак это такой специально ностальгический писатель? Камин затоплю, буду пить, хорошо бы собаку купить и все такое. Вы журнал Смена вспомнили, и Немиров — 1982 год, к чему бы это?
— Уж небо осенью дышало — вот к чему.
— А вы тут читаете, то, что другие отвечают? И вообще, что это за жанр такой — недоделанного интервью.
— Да, читаю. Это ведь давняя традиция школьных альбомов: "Твой любимый цвет", "С кем ты дружишь?". Только тут нет цветочков и приклеенных конвертиков с записочками. А так всё то же — потому что жанр ровно тот же, и, главное, интерес такой же — лёгкое дуновение пробуждающейся сексуальности.
Ну, а интереснее всего как ведут себя неглупые молодые женщины. Дело в том, что есть такое особое чувство юмора, с которым интересная женщина отстраняет ненравящегося ей мужчину. Это очень интересный критерий — с одной стороны будет пошлость, с другой — грубость, но если женщина умеет пройти по узкой грани между ними, то она возвращает мне веру в то, что мир осмысленен и справедлив. Ну, и вообще мне интересны подробности чужой жизни.
— Да какая тут может быть сексуальность, когда ничего не видно и не слышно. Или Вы думаете иначе?
— Ну, немножко-то видно, и чуть-чуть слышно. И у многих это подстёгивает воображение — да к тому же отвечающие это люди, известные за пределами этого сайта.
— Воображение рисует, рисует, а там может вообще человек другого пола. Вот Вы можете отличить женские комментарии в Сети от мужских или создать женский виртуальный образ? — Тут вопрос "Зачем?" — это вообще главный вопрос. То есть, можно довольно долго вводить собеседника в заблуждение. И не только в Сети, но и наяву: история Ши Пэйпу[74] подтверждение. Но вопрос мотива — это ведь всё мы проходили "Мадам Бовари — это я". Так и мужчина, что пишет комментарии от лица женщины на этот краткий миг становится женщиной настолько, насколько он в этом талантлив. Мы все состоим из наших комментариев, кстати.
— Создать женский виртуальный образ в смысле вести блог в жж как бы от имени женщины или на этом сайте отвечать.
— Так и вопрос — "Зачем?" История помнит довольно много женщин, притворявшихся мужчинами, и мужчин, притворявшихся женщинами. Всегда вопрос цели — ну, удалось. И что дальше?
Извините, если кого обидел.
27 августа 2011
(обратно)
История про телевизор
Смотрел в том самом телевизоре, где видел «Дом-2», кокой-то советский фильм об испытателях автомобилей.
Все они ужасно благородные, а жена главного героя погибла, спасая предназначенные на экспорт, автомобили.
— А они что, не были застрахованы?
— Были, конечно. Как и американские и французские машины, но наши машины спасали только мы.
В фильме тот расклад персонажей, глянув на которых ты сразу понимаешь, что и как произойдёт.
Молодой испытатель, влюблённый в красивую дипломницу, дипломница, влюблённая в красивого вдовца.
Все они влюблены в автомобилестроение и гоняют по полигону НИЦИАМТ (он узнаваем) на «Москвичах-412».
Да, чтобы ещё раз не вставать: сегодня был классический день "на пригреве тепло". (Представляю как через два дня взорвутся социальные сети цитированием "Вот и лето прошло, только этого мало"). Между прочим, я как-то написал рассказ, где герой, бежав из города и уйдя от погони, дремал и ощущал "на пригреве тепло". Его напечатали в журнале фантастики "Если", и один человек оттуда говорил мне — всё, дескать, у тебя хорошо, но корректор на тебя ругалась — много ошибок. Я стал смотреть уже никому не интересную правку, и увидел, что корректор исправила "на пригреве тепло" на "на припёке тепло".
Поздняк метаться.
Извините, если кого обидел.
29 августа 2011
(обратно)
История про планы
Надо написать историю про мобильные телефоны — в современном городе человек меняет мобильники реже чем женщин. Впрочем, это возрастное, конечно.
Или вот надо написать историю про дом Брюса.
Потом надо вывесить историю про оперный розыгрыш.
Или вот ещё — надо было написать доклад о двух путешествиях Толстого в Европу. То есть, там я думал собрать заметки про мотив путешествия для писателя вообще, и эти мотивы в XIX и XX веке соответственно. Отчего-то я это не написал.
Боже, чем я занимался всё лето?
Извините, если кого обидел.
30 августа 2011
(обратно)
История про газеты
Назначение Мостовщикова главным редактором прохоровской газеты "Правое дело" представляется мне верхом изящества.
Извините, если кого обидел.
31 августа 2011
(обратно)
История про термины и состояния
Прочитал тут: "карго-культ Пиночёта". Помилуй Бог, как хорошо описывает состояния многих умов.
Извините, если кого обидел.
31 августа 2011
(обратно)
История про спаммеров
А, кстати, что это это за атака взбесившихся любителей фиалок?
Извините, если кого обидел.
31 августа 2011
(обратно)
История текущих вопросов
Сегодня все цитируют Тарковского о том, что вот и лето прошло — и ага. Некоторые замшелые люди бормочут, что и кончился месяц за № 8 — но это уже Plusquamperfekt. Известно, что 01.02 вспоминают Пастернака, а 01.10 — Пушкина, потому что он наступил, а роща отряхает.
Впрочем, полно и школьных причитаний.
Но я не об этом.
Придумал два сюжета для мистических рассказов, да только некуда и некогда.
И, чтобы два раза не вставать, я ещё хотел сказать о заметке Гридасова в OhenSpace. Это очень примечательные наблюдения (то есть, конечно, аналогичные наблюдения сделали в разные люди ещё раньше).
То есть, давно сложился такой феномен переходного периода: как грибы плодятся сайты (и блоги), которые нужно наполнять содержимым. Содержимое берётся из той же Сети.
Писатели давно вопят о бесконтрольном тиражировании их текстов — но их уже устали слушать, тем более, что писателей у нас перепроизводство.
Теперь пришла пора вопить журналистам.
С журналистикой всё куда интереснее, чем с литературой.
Во-первых, она стремительно демократизировалась — и в области потребителей, и в области производителей.
То есть, когда Альбац кричала "Вон из профессии!" — это, на самом деле был крик ностальгический, крик утраты правил. Это зеркало одного судебного разбирательства, где обвиняемого спрашивали: "А какие доказательства того, что вы — поэт?"
Раньше для того, чтобы быть журналистом, нужно было иметь санкцию, а теперь санкция не нужна — только-то и всего.
Но за последние четверть века произошли радикальные изменения, как и с писателями — поставщиков контента стало больше, чем производителей. То же перепроизводство (Тут должна быть одна важная мысль о том, что когда поставщиков много, им нужно много контента, а уникального контента нет, и вот приходится копипейстить, или производить типовой контент — кстати, писатели с этим давно справились: впрямую они друг у друга не пиздят, но тексты производят совершенно типовые, как гамбургеры). Эту мысль, впрочем, я не додумал).
Есть ещё одна мысль — это неотвратимость перемен.
Заимствования типового контента, и вообще гибель авторского права — вещь неотвратимая. Это, как пишут в договорах — обстоятельства непреодолимой силы.
Бороться с воровством контента невозможно — глупее только борьба с порнографией. (Это, кстати, не значит, что я одобряю воровство — просто разница в том, что украсть три рубля 25 октября 1916 года — это одно, а украсть их 25 октября 1917 — другое. Дело не в инфляции: очень эстетично соблюдать закон в эпоху перемен, не пиздить кресла из барских имений, но удивляться тому, что в тяжкую годину воруют в массовом порядке как-то не приходится. Это, как ни крути, свойство всех эпох перемен.
Извините, если кого обидел.
01 сентября 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Хотели быть начальником?
— Не очень. Самое тяжёлое быть начальником, когда у тебя есть подчинённые, и, одновременно, ты и сам подчиняешься вышестоящим начальникам — и вот когда ты между ними, то и верхние и нижние жить тебе не дают. Сверху спускают дурацкие указания, снизу не выполняют твои, вполне разумные. Только ты приструнил нижних, тебе уже надавали по шее сверху. В общем, быть средним звеном — занятие незавидное. Верьте мне, я пробовал.
Куда лучше быть командиром партизанского отряда, сотни анархистов или главой тоталитарной секты. Но тут у меня опыта нет. Да и желания, признаться, тоже.
***
— Вы хотели бы записаться на какой-нибудь курс похудения?
— Ну, это было бы забавно. Да только такие вещи — как с кулинарными курсами и обучением танцам. Тут-то и и простор юмору и комическим рассказам. Но я-то знаю, что с похудением всё очень просто — нужно меньше есть и больше двигаться. Всё остальное — танцы вприсядку вокруг этого правила.
— У вас что-нибудь болит?
— Ну, разумеется.
***
— Вы говорили про ревность, и я подумала вот что: вам не кажется, что это просто физиологическое чувство?
— Тут я чуть-чуть прогну определение, чтобы сформулировать важную для меня мысль. Физиологическая ревность — это для меня ревность к физиологии, все эти смешные поиски мужчин в шкафах и шифрование телефонной книжки. Есть куда более острая ревность — в той любви, которая ещё длится, но ты знаешь, что она живёт своей жизнью, где давно нет тебя: она смеётся, плачет, вырастают дети, меняет работу, украли деньги на курорте, разбила машину, сын выиграл олимпиаду, на даче пожар… И во всём этом тебя нет.
***
— Вам не кажется, что бытовая забота (это когда вам всё гладят, подогревают и за столом повязывают салфетку), так вот, что такая забота — унижает?
— Я думаю, что тут беда, если начинается счёт: мы вам брюки погладили, а вы нам за это туфли купите. И этот счёт идёт днём и ночью — тут, конечно, беда. А если есть какая-то спокойная договорённость — так совет да любовь. Унизительно другое: я видел отношения людей, где кто-то испытывает рабскую покорность другому, такое, пожалуй, рабское наслаждение в бытовой заботе — вот это человеку может быть унизительно. Ответить сильным чувством он, к примеру, не может и всё глубже погружается в состояние неоплатного должника. Иногда за это дети ненавидят родителей — вот за эту заботу, за то единственное, что родители умеют воспроизводить. Тут вы правы — это унижает.
Но потом и вовсе становится опасным.
— Отчего вы так не любите людей? Или вы притворяетесь? Многие ведь притворяются хуже, чем они есть — из кокетства, суеверия или для того, чтобы неожиданно кого-нибудь поразить своей положительностью.
— Ну, я как раз некоторых людей люблю. Я просто к большим массам двуногих существ без перьев отношусь насторожённо. Сдаётся мне, что они форменные идиоты. Причём нет ничего опаснее и утомительнее, чем вести диалог с человеческой массой, а то и пытаться её улучшить. Да и окружающий мир — штука непростая. Умирающий писатель Астафьев написал: "От Виктора Петровича Астафьева. Жене. Детям. Внукам. Прочесть после моей смерти. Эпитафия. Я пришел в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощанье". Имел, надо сказать, причины. Но про кокетство — наблюдение правильное, правда отчасти его сделал покойный филолог Михаил Бахтин, когда писал о карнавальной культуре. Культура эта сложная, не об ней речь, но желания богачей притвориться на время бедняками, желания знатных дам переодеться ветреницами (впрочем, тут нет особого превращения) — известны.
Тут, правда, игра, и всегда возможность вернуться обратно. Я видел в юности мальчиков из интеллигентных семей, что старательно учились ругаться матом (многие в этом преуспели), и пили какие-то чудовищные напитки, что брали не крепостью, а токсичностью. Потом маятник качнулся в сторону капиталистических ценностей и стало можно притворяться циничным и алчным.
Вот тут и было кокетство — я, дескать, умею вести дела, знаю счёт копейке, но если вы вглядитесь в мою душу, израненную тем злом, что я творю, отнимая эту копеечку у старух, то вы увидите там стихи Пастернака и Мандельштама. Если вы всмотритесь в то, что стоит за рейдерскими захватами, которыми я занимаюсь с печалью и неохотно, то обнаружите там музыку Шнитке и Губайдуллиной. В итоге выходила какая-то дрянь — ни Шнитке, ни Пастернака, ни трудовых миллионов. Срамота одна.
Стратегия "полюбите нас чёрненькими, а потом вы увидите, что мы вообще-то беленькие, и это открытие окрылит вас" — стратегия проигрышная. Так что у меня всё по-честному: восторга по поводу человеческого естества я не испытываю — божественного в нём мало, а звериного много.
Что не отменяет того, что божественное в нём есть.
Мало, но есть.
Извините, если кого обидел.
01 сентября 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
"Атлант МХМ 268"
Постановлением комиссии до чистке техникума исключён как «чуждый» Константин Розанов. По этому поводу считаю необходимым сообщить следующее: по происхождению он «чуждый». Отец его был чиновником, преподавал физику и математику в военном училище. Он умер в 1918 г., будучи уже на советской службе, членом профсоюза. Константину Розанову тогда было девять лет, отца своего он помнит смутно, После смерти отца он жил в Ленинграде на иждивении сестры Евгении, служившей в ряде советских органов, в частности в Административном отделе Петросовета, в нашем посольстве в Варшаве (куда выехала в составе всего посольства из Ленинграда)… и т. д. В 192I году семья её, в том числе и Костя Розанов, переехала к брату в Одессу и жила там до 1923 года, на средства сестры, переводившей деньги семье по почте. С 1920 года, эти деньги переводил уже я, и таким образом, с января 1925 года Костя Розанов жил на моем иждивении. В конце 1923 года мать Кости Розанова умерла, и Костя в возрасте 12 лет, оставшись круглым сиротой, оказался не только моим иждивенцем, но и переехал ко мне в семью в Баку, где я служил в Красной Армии.
По поводу брата: от семьи оторвался в начале империалистической войны, когда был взят в качестве моториста (офицером не был). В годы революции демобилизовался и в ст. армии в Одессе. Когда Одесса стала красной, он связался с семьей и в 1925 год; эта семья (мать и двое детей) переехала из Ленинграда туда, в Одессу. Здесь брат работал в Р.К.И., в Губ. Профсовете и проч. организациях, пользовался довернем. Семья жила в Одессе отдельно от брата, причём отношение у него к семье было самое скверное.
Мать во всех письмах жаловалась на голод и на отсутствие элементарной заботы со стороны сына. Под конец у них наступил почти полный разрыв, и эта семья жила материально почти полностью на средства мои. Кроме того, мать прирабатывала гроши случайной работой.
Через 5 лет после смерти матери, и перевода Кости ко мне в семью в 1927 году, выяснилось, что старший брат, при котором Костя жил в составе семьи в течение 1½ лет (11–12 летним ребёнком), арестован за службу в белой армии в 1919 году и сослан в Соловки.
Спрашивается: можно ли ставить в вину ребёнку 11 лет, что его мать переехала к старшему брату, в то время активному советскому работнику. Если даже мать знала (чего я не думаю) о скрывании сыном своего прошлого, виноват ли в этом ребёнок?
Наконец, служба в белой армии выявилась через пять лет после отъезда ребёнка из Одессы, где оставался этот брат, до 27 г. являвшийся Советским работником.
Во всяком случае, на ребёнке это полуторогодичное пребывание в Одессе никакого влияния в смысле политическом не имело.
Перед мною в 1923 году стояла дилемма: либо — 1) я должен был отказаться от помощи круглому сироте, бросить его на путь безпризорника, ханжески мотивируя это тем, что 12 лет назад его сделал «чуждый человек», либо — 2)я должен был неповинного в своём происхождении 12-ти летнего ребенка, лишившегося «чуждого» отца в возрасте 9-ти лет, вырастить и сделать его полезным членом Советского Общества.
Я принял второе решение и ни одной минуты в этом не раскаивался. Из сырого материала, в результате 9 лет непосредственной работы и 10-ти лет материальной заботы, мне удалось вырастить хорошего комсомольца, добросовестного в общественном, деловом (учебном) и бытовом отношении.
Решение об исключении его из Техникума считаю ошибкой, вызванной недостаточно серьезным подходом к данному конкретному случаю, подходом формальным, а не диалектическим.
В самом деле, что должно было бы лечь в основу определения социально-политической физиономии данного человека: то ли, что он до 9-ти лет рос в семье отца-чиновника, или, даже, до 12-ти лет — в семье старшей сестры — рядовой Советской сотрудницы (машинистки), или что последние, наиболее сознательные годы, когда физически, идеологически и всячески, формируете я человек, — в возрасте от 12-ти до 21 года, — этот индивидуум растёт под руководством и самым тщательном наблюдении партийца (с февраля 1917-го года), бывшего красногвардейца, ныне Командира и Комиссар РККА, человека, который сам является не случайный элементом в Партии, а который проверен в условиях боев, партийного подполья, тюрьмы и т. д?
Я не вижу необходимости говорить о себе подробно, желающие получить обо мне сведения всегда могут сделать это без всякого труда. Но я хочу указать, что для меня вопрос о Косте РОЗАНОВЕ является не вопросом «родственной» заинтересованности, а вопросом партийного и общественного долга. Ибо я растил и воспитывал его так, как должен бы делать каждый, уважающий себя партиец, растил его на средства, которые получал за службу в Красной Армии, за службу Пролетарской Революции. Согласится с исключением Кости РОЗАНОВА из Техникума и ВЛКСМ — значит признать, что я свои энергию и средства, предназначенные службе рабочему делу, выбросил зря на белое дело.
Это, конечно вздор. И потому, не могу согласиться с серьезностью постановки вопроса об исключении.
Не могу признать себя, партийца и всю нашу общественность настолько импотентными политически, что тень бывшего чиновника, смутно сохранившаяся в памяти тогда 9-ти летнего ребенка, а теперь 21-го летнего юноши, окажется сильнее, чем 11-ти летняя работа в условиях пребывания в семье партийца, командира Красной Армии, его среде, юношеских Советских организаций и т. д.
Костя РОЗАНОВ для меня не «родственник»|, а продукт моей долголетней работы. Поэтому не могу согласиться на уничтожении одним росчерком пера результатов этой работы.
ЧЛЕН ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) — (ЦЧО),
ЧЛЕН ПАРТИИ С ФЕВРАЛЯ 1917-ГО ГОДА,
ВОЕННЫЙ КОМИССАР ТАНКОВОЙ ШКОЛЫ
(ШАУМЯН)
2 Марта 1931 г. Гор. Москва.
01 сентября 2011
(обратно)
История про удивительное письмо
Получил удивительное письмо:
Привет, дорогой!
Чтобы не было телефона, который испорчен.
На мой мэйл, скинь, пожалуйста,
любое резюме,
что в ВАШУ компанию приходит.
И что на правду похоже.
С уважением,
любовью,
и вообще,
Наташа Лозина
Что это было, Берримор?!
Извините, если кого обидел.
02 сентября 2011
(обратно)
История про фиалки
Сумасшедшая Элиза Дулитл продолжает забрасывать меня своими фиалками. Всё это давно описано:
— Ух ты! Купите цветочек, кэптен, купите! Полкроны я еще разменяю. Возьмите вот этот — всего два пенса.
…Цветочница (испуганно вскакивая). Что я худого сделала? Ну, заговорила с джентльменом — так я имею право продавать цветы, если на тротуар не лезу. (Истерически.) Я девушка порядочная! Я ничего такого ему не сказала — просто попросила купить цветочек…
Но всё-таки Элиза пока не может вытеснить Наташу Лозину из моего сердца.
Извините, если кого обидел.
02 сентября 2011
(обратно)
История про жизнь и смерть
Сидел вчера со своими алкоголиками и, на удивление, говорил о жизни и смерти.
Вслед давнему своему замечанию, я скажу, что Пастернак был прав, и ничего важнее разговора о жизни и смерти нет. Между тем, я рассказал алкоголикам, о том странном состоянии, в котором оставляют тебя книги юности.
Ты помнишь не книгу целиком, а какие-то сцены, но эти сцены ярки и постоянно к тебе возвращаются. К примеру, я очень любил роман Ильи Сельвинского «О, юность моя!». Роман этот очень странный, но не в целом его тексте дело. Там есть одно место, из которого я время от времени вспоминаю интонацию — не речи, а самой сцены, как вспоминают кадр из фильма.
Итак Сельвинский пишет про Гражданскую войну в Крыму и то, как герой по делу приходит на мельницу, где кости перемалываются в костяную муку — фосфат. По ленте транспортёра ползут коровьи кости, «и вдруг из чана выпрыгнул человеческий череп и медленно поехал вниз вслед за мослаками. Был он очень величав и философичен. Судя по его коричневому тону, он принадлежал какому-нибудь скифу или гунну.
Мастер дотронулся до Леськиного плеча:
— Вас требуют наверх.
— Смотрите, — сказал Леська. — Человеческий череп!
— Ну и что? — ухмыльнулся мастер. — Перемелется — мука будет.
Леська побрел на второй этаж. Еремушкин и Шулькин стояли у раскрытого окна и напряженно вглядывались в даль».[75]
Извините, если кого обидел.
03 сентября 2011
(обратно)
История про ночные разговоры
Удимительное дело — полночи проговорил про леммингов. Про их мифологию, и, к своему удивлению, узнал много нового. (Нет, про то, что никаких самоубийств у них нет, я знал раньше). Вот что значит, поговорить со специалистом.
Впрочем, когда пришёл фотограф, и разговор перешёл на настоящее и будущее фотографии, вышло не хуже — мы начали с обсуждения чьей-то истории (кажется, максимишинской) про передел американского свадебного рынка стрингерами.
Извините, если кого обидел.
04 сентября 2011
(обратно)
История про бетонную плитку
Как справедливо нам замечают наблюдательные граждане, неспроста монолитный асфальт меняется на фрагментарную бетонную плитку (которая на самом деле не плитка, а довольно увесистые кирпичи).
Неспроста.
Вот если бы в 1905 году Пресня была бы покрыта асфальтом, то чёрт его знает, чем бы это дело кончилось, а, скорее всего — вовсе не началось.
И вот наш новый мэр сделал всё наоборот.
Причём инструкция по применению собянинской плиткой общедоступна.
Она чрезвычайно проста в обращении, потому что исполнена не на бумаге, а отлита Иваном Дмитриевичем Шадром и давно стоит рядом с метро "Улица 1905 года".
Всякий может увидеть её там среди кустов.
Скоро её окружат бетонными брусками.
Извините, если кого обидел.
04 сентября 2011
(обратно)
История про цветы (продолжая рассуждать о сумасшедших фиалочниках)
 Кстати, а вот никто не занимался ли цветочной литературных персонажей-цветочниц(ков) — в том смысле, что продаёт карамзинская Лиза ("Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами") Элиза Дулитл продаёт фиалки.
Какова была семантика? Почему фиалки? Они не вяли? И откуда в центре Лондона фиалки?
(Лиза жила на станции метро Автозаводская, там, понятно дело, ландышей пруд пруди было, но это ведь узкосезонный цветок, да?
Понятно, что она" весною рвала цветы, а летом брала ягоды — и продавала их в Москве". Но вот вопрос — что летних цветов не продавали? А если проодавали, то какие? Не оранжерейные, в смысле).
А кто, кстати, ещё цветами торговал?
Кстати, а вот никто не занимался ли цветочной литературных персонажей-цветочниц(ков) — в том смысле, что продаёт карамзинская Лиза ("Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами") Элиза Дулитл продаёт фиалки.
Какова была семантика? Почему фиалки? Они не вяли? И откуда в центре Лондона фиалки?
(Лиза жила на станции метро Автозаводская, там, понятно дело, ландышей пруд пруди было, но это ведь узкосезонный цветок, да?
Понятно, что она" весною рвала цветы, а летом брала ягоды — и продавала их в Москве". Но вот вопрос — что летних цветов не продавали? А если проодавали, то какие? Не оранжерейные, в смысле).
А кто, кстати, ещё цветами торговал?
Я помню только лихой текст Строганова к музыке Табачникова с закономерным кровожадным финалом — он фиалки купил, а унёс моё сердце в корзине:
И зимой и весной —
Аромат полевой
И цветочная пыль в магазине.
Ни танкист, ни пилот
От меня не уйдет
Без фиалок в цветочной корзине.
Седоусый чекист
и безусый танкист:
Все приходят ко мне за цветами.
Потому что цветы —
И любовь, и мечты, —
это чувства, рожденные нами.
Извините, если кого обидел.
05 сентября 2011
(обратно)
История про вечерний телевизор
О, я думал, что шедевром хуйни на военную тему является фильм "Главный калибр", но нет — я наблюдаю фильм "Контригра", который переиграл всё. Графиня! Майор Пореченков! Берия! Нюренберг! Зашибись! Зашибись!
Извините, если кого обидел.
05 сентября 2011
(обратно)
История про контригры
Продолжаю, впрочем, смотреть чудовищный сериал по телевизору (мне он служит пищей для очень странных размышлений). Но вот сама конечная продукция мне совершенно удивительна — мне понятно, когда дешёвый сериал выходит плохим, но вот отчего дорогой сериал выходит таким, будто он сделан на коленке — непонятно.
Отчего оператор снимает так, будто нигде не учился?
Отчего актёры играют, как школьники в спектакле?
Отчего там удивительное пространство безмотивных поступков?
Однако ж, не приложил ли там кто руку из проекта "Этногенез"? А то там уже вовсю передают друг другу артефакты в виде оловянных солдатиков.
Извините, если кого обидел.
06 сентября 2011
(обратно)
История про зачистку архивов
Был такой директор Литературного музея, старый большевик Бонч-Бруевич, который был в Ленинграде во время массовой высылки оттуда дворян после убийства Кирова. На дворе стоял апрель 1935 года и он сообщали наркому просвещения Бубнову «…совершенно точно удостоверился, что во время передвижения населения в Ленинграде действительно был ряд случаев сожжения в высшей степени ценных архивов оглупевшими или антисоветски сагитированными людьми. Мною совершенно установлен факт, что какие-то явно вредительские элементы, пользуясь некоторой суматохой, бывшей в это время в Ленинграде распространяли самые чудовищные и отвратительные слухи, что если у кого найдутся какие-либо документы, доказывающие дворянское происхождение данного лица или хотя бы отдаленную связь со старорежимным бюрократическим миром, то такой человек будет обязательно выслан. Эта наглая ложь, распускаемая повсюду неизвестными антисоветскими агитаторами, возымела свое действие на политически безграмотных и трусливых людей, они подались панике и жгли документы. Так, мне известно, что были сожжены 36 писем боярина Кикина, казненного еще при Петре I. В одном доме был сварен суп на документах Пугачева из Оренбургского края. Обезумевший старик, более 80-ти лет, сжег более ста писем Петра I и целую корзину документов XVIII века. Вдова (или родственница) известного нотного издателя Юргенсона, плача и почти рыдая, заявила мне, что она имела глупость, поддавшись панике, сжечь более 500 писем, среди которых было 78 больших писем П.И. Чайковского".[76]
У писателя Каверина есть история про то, в том же городе, но спустя несколько лет он зашёл к Юрию Тынянову: «…Он был озлобленно спокоен.
— Смотри, — сказал он, подведя меня к окну, из которого открывался обыкновенный вид на стену соседнего двора. — Видишь?
Тесный старопетербургский двор был пуст…
— Ничего не вижу.
— Присмотрись.
И я увидел — не двор, а воздух двора, рассеянную, незримо-мелкую пепельную пыль, неподвижно стоявшую в каменном узком колодце.
— Что это?
Он усмехнулся.
— Память жгут, — сказал он. — Давно, каждую ночь.
И он заговорил о гибели писем, фотографий, документов, об осколках времени — драгоценных, потому что из них складывается история народа.
— Я схожу с ума, — сказал он, — когда думаю, что каждую ночь тысячи людей бросают в огонь свои дневники. Казалось, давно забылись, померкли в памяти эти дни, пустой двор, запах гари, улетевшие голуби, легкий пепел в лучах осеннего солнца".
Извините, если кого обидел.
07 сентября 2011
(обратно)
История про униформистов
Ещё вот что непонятно — на протяжении многих веков в России был культ военной и гражданской формы (сдаётся мне, от того, что одежда вообще была в дефиците). И вот в этой стране, где знаки различия умел читать каждый мальчишка, где забытый в городском саду маленький часовой мог сдать свой пост только человеку в форме, в сериалах даже родная форма и награды всё время показываются криво. Нет, я далёк от требований отличать чёрного Хьюго Босс от фельдграу — это уж ладно. Но отчего со своими-то такая неразбеhиха? Отчего погоны в сорок втором, отчего путают форму железнодорожников и Чрезвычайный и Полномочный посол рассекает в фуражке капитана дальнего плавания, а пилот ходит в дипломатическом мундире с пальмами?
Нет, я вовсе не волнуюсь, но может, это знамение?
Может, это такой знак просвещённого либерализма?
В общем, цирк и превращение человека в форме в униформиста на арене.
И вот скоро в каком-нибудь трёхмерном историческом сериале политрук Клочков будет вставать из окопа в наряде женщины, более известной как Джуна (если кто ещё помнит такую)?
Нет, надо всё-таки вставить картинку, потому что не все помнят.
Извините, если кого обидел.
07 сентября 2011
(обратно)
История про телефон
Мой телефон полюбил знаменитого китаиста Алимова. И стал ему звонить.
Не то меня напрягает, что это междугородние звонки, а то, что телефон выбалтывает ему мою жизнь. Одна надежда — он, наконец, позвонит ему в пять утра и они поссорятся.
Ещё сегодня приходил Синдерюшкин.
— Знаешь, — говорю я ему, — я познакомился с красивой девушкой. Она говорила, что у неё от Рахманинова — "бабочки в животе". Ты не знаешь, что это за бочки, откуда мем?
— Хуем! — сурово сказал Синдерюшкин (это была рифма, оттого ударение приходилось на "е"). — С такими знаниями о жизни тебе ещё за девушками ухлёстывать. Чудило! Это сразу два знаменитых фильма — один — "Секс в большом городе". Смотрел-то, про секс?
Я уклончиво отвечал, что много что смотрел просекс.
— так вот, там эта главная чувиха говорит, что хочет ощущений, будто "бабочки в животе". Это у неё, правда, не от Рахманинова было, а от любимого мужчины. У наших женщин, правда, никаких бабочек там не бывает, слава санитарному врачу Онищенко. У них бывает тепло внизу живота. Слышал про тепло внизу живота?
Я тупо смотрел в угол, будто мальчик с портфелем на картине "Опять двойка".
— Так вот, ещё в кинокартине "Дневник Бриджит Джонс" у героини тоже бабочки в животе. Если ты не смотрел про этот дневник, то тебе опять двойка, — закончил Синдерюшкин читать мои убогие мысли.
— Ваня, а скажи, что там эти бабочки делают? Хорошо это или плохо? Вдруг они ещё не бабочки, а ещё гусеницы, зелёные такие и ползают, и ещё…
Синдерюшкин посмотрел на меня презрительно.
— Это ты своей девушке скажешь, когда вам придётся расставаться. Я полагаю, что у вас и до встреч с твоей образованностью не дойдёт, но вопросы о гусеницах сделают вашу разлуку быстрой и болезненной.
Потом Синдерюшкин напился и стал дирижировать таджиками, которые пели у меня у подъезда свои таджикские песни.
Им было можно, они взяли город, как их предки лет пятьсот назад.
Но Синдерюшкин был бесстрашен. Дирижировал он большой гипсовой статуэткой Венеры Милосской. Выглядело это страшно. Он был похож на сумасшедшего Бибигона, вышедшего на бой с дюжиной ветренных Брундуляков.
Ночью я ворочался и не мог уснуть.
Я был похож на Ёжика, вышедшего из тумана, как месячный финский нож. Ёжик покинул туманный сумрак, но продолжал думать о лошади. Я же думал о бабочках. Интересно, каково им там ночью? Как им там, в темноте и сырости? Наверное они висят вниз головой, сложив пока что крылья, будто летучие мыши.
Причудлив мир, вот что я скажу.
Извините, если кого обидел.
08 сентября 2011
(обратно)
История про Козлову засеку
Стою сейчас на станции Козлова засека и наблюдаю забавный культурологический феномен. С одной стороны от меня стоял паровоз, пуская антикварный дым. С другой стороны стоит железнодорожное начальство и бывший министр со Стародубцевым произносят речи. К ним все прислушиваются, но когда паровоз пускает пар, все отворачиваются от начальства и смотрят на паровоз. Потом начальство отвоевыает внимание — и так до бесконечности.
Извините, если кого обидел.
09 сентября 2011
(обратно)
История ко второму воскресенью сентября
ДЕНЬ ТАНКИСТА
(победитель дракона)
Der aber ritt schön weit von der Stadt,
und es war ein Himmel voll Lerchen über ihm.
Rainer Maria Rilke. Der Drachentöter
Староста, не веря своим глазам, смотрел на горизонт — там приближался тонкий в начале, дальше размазанный вширь, треугольник поднявшейся пыли.
А так всё хорошо складывалось, всё, казалось, предусмотрено и рассчитано — никакого соревнования. Но правила нерушимы, и нужно было трижды позвать всех, кто хотел биться с Драконом. Один раз надо было крикнуть вверх, в небо. Один раз прошептать приглашение на бой воде. И, наконец, произнести его, глядя в степь — туда, откуда приближался Победитель Драконов.
А у старосты был давно продуманный верный план — и этот план сидел сейчас на скамье, глядя себе под ноги. План сплёвывал семечки, и ему было шестнадцать лет.
Староста давно хотел выдать дочь за сына мельника. И мельников сын должен был завтра идти биться с Драконом.
Того, кто пришёл вчера, он не считал за конкурента — второй был нищим, человеком воздуха. Воздух гулял по его карманам и звенел в его голове. Он добрался сюда на чихающем бензином дребезжащем драндулете о двух колёсах, к которому был привязан воздушный змей. Всего имущества, что увидел у него староста, была зелёная труба с пороховой ракетой внутри, да очки на раскосых китайских глазах.
А дочь старосты была предназначена мельнику уже тогда, когда завопила в первый раз от шлепка повивальной бабки, уже тогда, когда произнесла первое слово, когда задумчиво глядела на вращающееся колесо и бездумно слушала журчание реки.
Теперь всё рушилось — но староста ещё не хотел верить. Была ещё одна примета, и вот он услышал хриплый металлический звук — сначала тонкий, как писк комара, но нарастающий с каждой минутой.
I got on the phone and called the girls, said
Meet me down at Curly Pearls, for a…
И сердце его упало, а рот наполнился кислой слюной.
«Ney, Nah Neh Nah» — жестью гремел динамик, и староста в раздражении дёрнул себя за бороду.
Механическое чудовище, пыля по гладкой как стол равнине, приближалось. Деревня высыпала на край оврага, глядя как, поводя башней, танк поднимается на бугор. Сначала он исчез на секунду, а потом выпрыгнул и в облаке пыли двинулся вдоль деревенского забора.
Боевой слон остановился на площади — рядом с бронированным трактором мельника. Трактор был похож на ежа — из каждой дырки в броне торчал ствол. Но рядом с пришельцем он казался детской игрушкой. Однако как раз пришелец был весело раскрашен, пятнист разным цветом — от ржавого до грязно-белого, украшен оранжевой бахромой по бортам, и всё ещё хрипел на нём репродуктор-колокольчик:
In my high-heeled shoes and fancy fads
I ran down the stairs hailed me a cab, going
Ney, Nah Neh Nah
When I pushed the door, I saw Eleanor
And Mary-Lou swinging on the floor, going
Ney, Nah Neh Nah
Sue came in, in a silk sarong
She walzed across as they played that song,
Going…
Но тут что-то щёлкнуло, и музыка кончилась.
Сухая земля на секунду замерла в воздухе, будто думая осесть ли на лица крестьян, решила наконец, и вот облако пыли начало редеть. Из башни вылез Командир — высокий и длинный парень, в выцветшем до белизны комбинезоне, сладко потянулся и спрыгнул вниз.
Староста ждал его, не двигаясь.
— Когда? — только и спросил танкист.
— Завтра, после рассвета, как в правилах сказано — ударим в рельсу и начнём…
— Ну и хорошо. — И, к удивлению старосты, высокий, не дослушав, вернулся к машине, стукнул в броню железякой:
— Ганс, Мотя, вылезайте.
Из машины выползли, будто нехотя, щурясь на солнце как кроты, ещё двое.
Экипаж пошёл на базар мимо селян, что тупо смотрели на эти чудеса. Последним шёл горбоносый радист в шлеме с наушниками. Он вдруг обернулся и показал замешкавшейся селянке козу двумя пальцами.
Та отшатнулась, подавшись назад, наступила на спящую в пыли собаку, разом поднялся лай, крики — но танкисты уже шли к торговым рядам, горбоносый раскрывал мешок, показывал издали разные диковины — батарейки да ножики, блестящую кастрюлю с крышкой и странное — большой шар, весь разрисованный непонятными кляксами, покрытый загадочными письменами и ровными линиями.
Они вернулись, нагруженные и повеселевшие, отогнали танк к ржавой, но действующей заправке — по давнему правилу бесплатной для них.
— Что удивительно, — бормотал Мотя, — это то, что у меня глобус купили. Два месяца с собой глобус возил, а только сегодня купили. Красота!
Мехвод сосредоточенно грыз морковку — это был угрюмый немец, знавший толк в ожидании.
— Глобус это хорошо. А вот масло у них дрянь. Так всегда перед выходом — масло дрянь и солярки недолив.
— Это потому что они привыкли к правилам — раз в год придут халявщики. А Дракон придёт — не придёт, то никому не известно. Про Драконов никому никогда не известно.
— Мы не халяффщики, — сказал немец упрямо. — Мы исполняем праффило. А по праффилам нас должны заправить и дать оружие.
Механик кривил душой — они с радистом знали, что в правилах ничего не говорилось про качество оружия и топлива. Дадут тазик для варенья и столовый нож — и возразить нечего. Правила есть правила.
А разоряться крестьянам нечего — победитель тот, кто первым достигнет границы, убедится, что Дракона нет, и вернётся в деревню с радостной вестью.
Из домика торговца горючим вышел Командир:
— Всё, переговорили — теперь поедем — я вам кое-что покажу.
Танк харкнул сиреневым выхлопом и медленно поехал по улицам. На него хмуро смотрели мужики — дети, против обычного, не бежали за машиной.
Командир ткнул пальцем в склон.
— Что там, видите?
— Ничего не вижу, — отозвался честный механик.
— Стоп, приехали. Туши свет — сейчас увидишь.
Перед ними были руины странного здания, гигантские колёса, через которые проросла трава. Жестяной непонятный кузов, подломленная мачта, висевшая на тросе.
— Это канатная дорога, — сказал Командир дрогнувшим голосом. — Я тут родился — налево дома наши были. А теперь что-то нет ничего… Я, конечно, знал, что ничего не осталось… Но уж, не так чтобы совсем ничего…
Экипаж принялся обустраиваться. Ганс вытащил самодельный мангал, а Мотя нашёл в развалинах почти целый стол и стал приделывать к нему недостающую ножку. Командир курил и глядел на склон вверх, туда, куда уходили рваные тросы.
Староста в этот момент лихорадочно соображал, что делать — за столом у него сидел озабоченный мельник. Плескался в кружках самогон, табачный чад лежал на полу белым одеялом, покрывая сапоги, копошился под низким потолком. Солярки старосте уже было не жалко — он представлял то, как его дочь подсаживают на гусеницу, она карабкается на стальную круглую башню, и чернявый танкист, задерживая руку на девичьем заду, толкает её вверх. Он даже помотал головой, отгоняя видение.
— Сосед, — вдруг сказал мельник — а пошли им свою дочку поздно вечером. С припасом.
— Ты думай, что говоришь — у нас ведь слажено всё, — с тревогой глянул на него староста.
— Слажено — не разладится. Девка всё равно в цене, одним разом больше, другим меньше — а мы в рельс стукнем тихо — на рассвете стукнем, пока остальные спят. Мой сынок и двинется пораньше, и вернётся первым. А дочку твою он всё равно возьмёт. Хорошая ведь, дочка, крепкая.
Это был выход — и староста понял это сразу, но для виду ещё долго охал, сомневался и говорил невнятное, запивая каждое слово самогоном, будто чередуя питьё и закуску.
Дочь старосты долго наблюдала за танкистами из-за кустов — пока не вскрикнула от неожиданности. Кто-то схватил её в охапку и вытащил на открытое место. За спиной пахло машинным маслом, металлом и потом — чужие руки держали крепко, а их хозяин захохотал у неё над ухом.
Она сказала, что принесла обед, чтобы всё было по правилам.
— По правилам, у нас всё по правилам, — шептала она.
Руки разжались, и она чуть не упала. Человек, пахнувший машиной, исчез в кустах и снова вернулся с корзиной, что она выронила.
Танкисты, не обращая на неё внимания, склонились над корзиной и присвистнули.
Еды было вдосталь — и это было необычно. Необычным были и две бутыли, лежавшие на самом дне.
Дочь старосты усадили за стол, но она жевала, не чувствуя вкуса — только думала, возьмут ли они её все сразу, или по очереди. Командир ей нравился, и она решила, что лучше по очереди, и Командир будет первым.
Она хлебнула самогона, и тут же почувствовала его странный вкус. Дремота начала наваливаться на неё, она заваливалась на плечо механика и вскоре начала падать в чёрный колодец забытья.
Тогда механик аккуратно положил её на деревянную скамью.
— Я сразу понял, — сказал Мотя, — что дело нечисто. Да только зачем?
— Я догадываюсь — зачем, — мрачно сказал Командир. — Но дело не в этом — у меня нехорошие предчувствия. Дракон появился. Я чувствую Дракона, а это чутьё меня никогда не обманывало. Так что завтра будет очень трудный день. Все спим тихо и без фокусов.
Мотя с сожалением хлопнул бесчувственное тело девушки по какой-то округлости (сам не понял, по какой) и ушёл спать в танк, где уже ворочался мехвод. Командир расстелил спальник на земле и принялся смотреть в зорёвое небо.
Предчувствия его не обманывали, и времени до рассвета оставалось немного. Нужно было спать, но он не мог закрыть глаза. Это были звёзды его детства, и много лет назад он лежал так же, только дрожа от холода в своей мальчишечьей курточке, и смотрел в такое же небо, усыпанное жемчугом. Здесь, чуть совсем недалеко, был сделан его танк, и танк был немногим моложе его. Теперь они вернулись в то место, где оба родились, и где не было никаких следов прежней жизни.
Экипаж храпел, девушка спала беззвучно — он подумал, не пойти ли к ней. Но в этот же момент Командир услышал, как девушка мычит, просыпаясь. Пауза… Треснула ветка, другая — но уже тише, дальше — девушка, запинаясь, бежала прочь.
И он, перевернувшись на бок, сразу заснул.
Во сне он летел, будто вернувшись в детство, над городом — над зеленью парков, над садами и узкими улицами, заросшими каштанами, над рекой с полуобнажившимся дном. Он искал свой дом и не мог найти, но всё равно сон был сладким, как бывает сладок леденец в детстве и светел как летнее утро.
Он проснулся от того, что мехвод тряс его за плечо.
— Кажется, пора.
— Не торопись Ганс, — ответил он. — Не торопись. Тут вот какая штука, сегодня не надо быть первым, нужно быть вторым, а лучше — третьим. Третьим быть лучше всего. А староста уже подал знак, я чувствую, что подал — всё давно началось.
Они молча доели снедь, оставшуюся с вечера, мехвод выбулькал самогон в бак, а хозяйственный Мотя прибрал бутыли.
Так они и двинулись — в розовых лучах рассвета, мимо тихих домов, пустынной площади и дома старосты. Староста злорадно смотрел на них, сплющив нос об оконное стекло. Дочь жалась к стене, не рассказав ничего, но старосте хватило того, что платье её не порвано, а на теле нет синяков.
Староста смотрел в окно и смеялся над тем, что Победитель Драконов едет в другую сторону, а значит, длинным путём.
И танк, действительно, урча, лез в гору, поднимался по кривой, петляющей по склону и, наконец, оказался на самой вершине. Командир велел ждать, а сам стал глядеть в холодные глазки стационарного бинокля. Раз за разом он обшаривал оптикой горизонт — и вот, наконец, увидел то, что искал.
На горизонте поднимался тонкой струйкой дымок.
«Упокой Бог душу сына мельника», подумал он, и забыл и о мельнике, и о его сыне навсегда.
— Всё! Работаем! — крикнул он и не узнал своего голоса. Командир никогда не мог понять, как звучит его голос в этот момент, но именно теперь, как ему показалось, голос дрогнул.
— Штурман! Курс на дым, триста десять, десять! Держать курс, пошли.
Заревел двигатель, и они пошли вниз, набирая ход.
Но на равнине, миновав обгорелый остов трактора, они увидели ещё несколько воронок, в одной из которых лежал искорёженный мотоцикл.
Мотя восхитился:
— От ить, косоглазый — всех обставил. Жалко его…
Но косоглазый обнаружился живым и невредимым, и Мотя выдернул его из окопа-недомерка прямо на ходу, как морковку из грядки.
— Звать-то тебя как?
— Меня зовут Ляо. Я умею чинить электрические цепи, слаботочную ап…
— Молчи, парень, — прервал его Командир. — Сиди сзади, ничего не трогай, в телевизор гляди.
Ляо немного обиделся, но не подал виду. Он воевал с Драконами всю свою жизнь, и всю жизнь перед боем раскрывал потрёпанный томик Книги Перемен — сегодня был день перемен именно для него, и переменам нужно было подчиняться безропотно.
Он только сказал Командиру, что видел, как Дракон ушёл на север, но он, Ляо, знает, что Дракон всегда возвращается к месту победы после того, как сделает круг.
Его снова похлопали по плечу, и Ляо уже стоило труда не обидеться.
Внутри танка звучала песня, и Ляо вслушивался в неизвестные слова.
— А про что ваша песня-то, — спросил он у штурмана-радиста.
Мотя в первый раз замялся и ответил невнятно, оглянувшись на широкую спину Командира.
— Ну, знаешь… Это хорошая довоенная песня. Народная. Там девчонки пляшут, суженых зовут. Хорошая песня — казачья ещё.
It was already half past three
But the night was young and so were we,
dancing
Ney, Nah Neh Nah
Oh Lord, did we have a ball
Still singing, walking down that hall, that
Ney, Nah Neh Nah
О, лорд! — это Ляо понял. Это значило что-то про Бога. Раньше он воевал вместе с ирландским батальоном, пока ирландцы не прорвались на север, через минные поля. Ирландцы говорили похоже, часто восклицали «Лорд!», хотя может это и были настоящие казаки.
Но песня быстро кончилась.
Старый радар работал плохо, и прошло ещё много времени, пока они выделили из облака помех Дракона. Главнее было то, что Дракон заметил их.
Теперь всё стало простым, всё встало на свои места, как снаряды в автомате заряжания.
Дракон, завершая круг, шёл прямо на них. Его видели все — в перископах и телевизорах.
Ляо заворожённо смотрел, как Дракон, в сиянии ослепительного круга пропеллера над тушей и боевой подвеской под ней, прерывает разворот и выходит точно по их курсу. Маленький китаец не боялся ничего — он знал, что Перемена свершилась, и больше никто сегодня не умрёт.
Он, Ляо, не должен сегодня умереть, а значит, все те, кто подобрал его, будут жить. Ведь Дракон убьёт всех, если победит. Всех или никого. Так говорит книга, а книге Ляо верил.
— Ганс, готовься! На счёт два… — Командир начинал какой-то давно отработанный манёвр.
— Два! — и танк резко остановился. Ляо в последний момент уцепился за скобу, его бросило вперёд, но привязной ремень не дал ему разбить лицо.
Прямо перед танком встал столб огня и дыма. Дракон плюнул первый раз.
Мелькнуло наверху его жестяное брюхо и радужный гигантский круг над ним, но Командир уже орал:
— Мотя! Давай, давай, давай!
Танк вздрогнул от отдачи, с шорохом что-то слетело с башни, потом мгновенно повернулась сама башня, прижав Ляо к броне, и ухнула уже пушка.
— Ещё! Ещё вдогон!
Снова ухнуло. Ляо посмотрел в телевизор, но на экране был только дым. Танк стронулся с места и медленно начал выходить из облака дыма и пыли.
— Мотя, видишь засветку, видишь засветку, не спи, Мотя…
Ляо перестал понимать, что происходит. Ревел мотор, они мчались по степи, и время от времени клёкот Дракона наполнял воздух над ними. Ляо был спокоен и беспокоился только о том, как бы не разбить себе нос.
Вдруг танк тряхнуло, и над ухом у Ляо закричали тревожно. Было понятно, что что-то идёт не так, и вот Дракон снова вышел им навстречу, снова приближалась его туша, но экран перед Ляо был серым, полным мигающих точек и дрожащих линий.
— Мотя, я буду сам наводить, с пульта навожу…
Ляо увидел, как плывёт по ленте снаряд с прозрачной головкой, как переворачивается, исчезает в жерле, как вдруг воцаряется внутри тишина. Он слышит, как пощёлкивает какой-то прибор над головой.
И через секунду бронированный слон присел на задние лапы, дёрнув хоботом. Снаряд, вылетев из ствола, раскрыл крылышки, закрутил стеклянной головой — всего этого не слышит Ляо, только видит, как вдруг появился Дракон в телевизоре и прыгнул на Ляо.
Прыгнул и тут же снова пропал, превратившись в жар и грохот.
Даже под бронёй Ляо втянул голову в плечи. А танкисты заревели как кабаны, кричат, разворачиваться нужно. Только не видно ничего, и вот Командир откидывает люк и лезет наверх.
Сзади лежит туша Дракона, пробегают по ней язычки пламени, а лопасти-крылья — тонкие, длинные — лежат куда дальше.
Командир внимательно посмотрел на ворочающегося врага, врага в последних судорогах, но для верности крикнул вниз:
— Ганс, Ганс, надо переехать ему хвост. Сдавай назад, я буду командовать. Левая стоп, правая полный, разворот, малый, ещё тише — вперёд.
Тяжело переваливается раненый боевой слон, и вот уже хрустит у него под ногами тонкая Драконья кожа, хоть и железная, да кто поборет слона на земле.
Это в воздухе Дракон силён, а тут он вышел весь, понемногу растворяется в огненном озере своей крови.
Командир почувствовал, как набухает внутри него счастье — здесь был его дом, и здесь он убил Дракона, круги замкнулись, образовывая важную геометрическую фигуру.
Если бы эти горизонтальные чёрточки и круги, что представил себе Командир, показать Ляо, то всё спокойствие слетело бы с китайца.
Но в этот момент что-то лопнуло в чёрной, объятой пламенем туше и вылетел оттуда тонкий острый осколок. Этот осколок влетел Командиру точно в горло, и он почувствовал, как воздух его родины проникает в него сразу с двух сторон, мешаясь с кровью. Он ещё успел сжать воротник рукой, прежде, чем начал сползать вниз.
Танк тронулся с места и уполз подальше от места сражения — в овраги.
В деревне уже стоял шум. Старый священник лупил в рельс и приплясывал между ударами как юноша, визжали свиньи под ножами, щебетали девушки, а мужики тормошили тех, кто видел, как умирал Дракон.
Только мельник выл, катаясь по полу, как собака, которой отрубили лапу.
Дочери старосты мать вплетала в волосы ленты, с тем же усердием, с каким хорошая хозяйка вставляет в рот жареному поросёнку метёлку укропа. Девушка сидела смирно, но вдруг поняла, что никто к ней не придёт. Она пыталась представить, как механическое чудовище остановится у ворот и на пороге появится Он — и не могла.
Она чувствовала, что теперь должна принадлежать ему как вещь, но одновременно понимала, что оказалась бесполезной — как ножны без меча. Но всё равно, она не прерывала свою мать, что хлопотала и суетилась над её телом, как над блюдом.
Экипаж отправился в путь только к вечеру.
Мёртвого Командира привязали тросом к моторному отсеку. Он лежал на спине и смотрел остановившимися глазами в небо. Ляо протянул руку, чтобы закрыть эти страшные глаза, но наводчик перехватил его за запястье:
— Не надо. Это его небо — пусть досмотрит.
Ляо ничего не ответил и полез внутрь. Мотя спустил ноги в люк, крикнул что-то вниз и перекинул тумблер на проигрывателе.
Танк двинулся прочь от деревни к ровной линии между степью и исчезающей солнечной долькой.
Командир, изредка качая головой, плыл под родным небом, в котором не было ни облачка, только полыхало красным в одном краю и накатывало фиолетовым с другого края.
Боевой слон пылил степью, держа на закат, и только угасала песня вдали:
It was already half past three
But the night was young and so were we,
dancing
Ney, Nah Neh Nah
Oh Lord, did we have a ball
Still singing, walking down that hall, that
Ney, Nah Neh Nah…
Извините, если кого обидел.
11 сентября 2011
(обратно)
История про День танкиста
История про День танкиста двумя постами ниже.
Извините, если кого обидел.
Posted via m.livejournal.com.
11 сентября 2011
(обратно)
История про Лихачёва и Панченко
Прогуливаясь с В. среди кущ Прекрасной поляны, я думал, что он, как ученик академика Лихачёва, был чем-то похож на него. Я же был чем-то похож на Панченко — и вот я думал о различии этих персонажей.
Лихачёв не то, что несколько сторонился Панченко, но я думаю, что в дистанции, которую он держал, многое было от того, что сам Лихачёв делал ставку на русского интеллигента. То есть, он надеялся на то, что русский интеллигент, как бы сидящий внутри советского интеллигента, спасёт мир. Надо сказать, что я сам помню года два-три, когда такие иллюзии были похожи на реальность и овладели многими.
Панченко же был не то что не интеллигентом, а написал статью (кажется, в "Московских новостях", что были тогда больше чем газетой) статью под названием "Почему я не интеллигент". Да что там, вовсе он был не похож на человека субординации.
При этом они оба знали цену друг другу, разумеется.
Извините, если кого обидел.
14 сентября 2011
(обратно)
История про московские дела
Тут у вас, в Москве, оказывается, идут бои между клоунами и пидорасами. Всё по Пелевину, которого я, впрочем, ругал сегодня доброй Маргарите Александровне, а она знатно огрызалась.
Извините, если кого обидел.
14 сентября 2011
(обратно)
История про разговоры
Диалог CXC
— Я люблю это короткое ёмкое слово «упс». Очень часто оно — единственное, что можно сказать. Вот придёшь, бывалочи, к кому-нибудь в гости, а хозяева, к примеру, увлекутся да и начнут ебаться прямо в комнате у накрытого стола. Вот ты тогда и говоришь «упс». Вроде как напоминаешь, дескать, я ещё здесь, отношусь с пониманием, можете располагать, если что.
— Интересно какими звуками тебе хозяева отвечают?
— Так по-разному выходит. Я ведь не Макакий Макакиевич, чтобы на такой вопрос мне одинаково отвечали.
— Не переживай, лысый. Мне по-разному отвечают. Но суть, суть одна..
— Молчи! Не надо разрушать иллюзии! Сломать образ — всё равно что шаблон сломать. Или ребёнка ударить.
Извините, если кого обидел.
14 сентября 2011
(обратно)
История про наблюдения за эстрадой (VI)
Тут я увидел документальный фильм про эстрадного артиста Винокура, что, оказывается, лет двадцать назад попал в тяжёлую автокатастрофу и ему чуть было не отняли ногу. Мне ситуация эта отчасти знакомая, прочувствованная на себе — но дело не в этом. В этом сюжете меня поразило другое ощущение — к лежащему в палате Винокуру, как рассказывает диктор, потянулись друзья и начали устраивать импровизированные концерты. И вот я вижу всех этих эстрадных звёзд "Аншлага" и прочих персонажей у одра больного и думаю: ни хуя ж себе — возвращённый ад.
Тут я вспоминаю один рассказ Нагибина (его нет в Сети, и поэтому я не могу проверить свои ощущения). Нагибин рассказывает про сталинские выборы с какой-то галиматьёй и их приписками, но вернувшись домой, герой слышит и от жены что-то патриотическое и тут вдруг осознаёт, что все окружающие говорят именно то, что думают.
То есть, он-то циник и презирает этот пафос и думает, что и остальные тоже держат шиш в кармане. Ан нет.
Я это рассказываю вот к чему — мне как-то интуитивно кажется, что эстрадная звезда, вернувшись со службы, слушает Баха и раскрывает томик Монтеня. Ну потому что невозможно жить всеми этими эстрадными шутками. Петросян, загримировавшись, идёт в Пушинский музей, Задорнов отправляется на заседание Общества любителей аориста, Басков — в шахматный клуб. Ну, как иначе поддержать форму человека — не растечься, как растекается вода из рваного полиэтиленового поэта.
И вот в этой картине мирозданья, когда человек лежит на вытяжке, а к нему приходят эти все отчасти позабытые теперь скоморохи и поют всё то же, что они исполняли со сцены, кажется мне адом, возвращённым адом.
Извините, если кого обидел.
15 сентября 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
— Вы влюбляетесь в людей платонически? То есть, не в женщин, а просто как в человека? И что вас заводит?
— Конечно, да. Я то и дело встречаю прекрасных людей — прекрасных в своей гармоничности или прекрасных в каком-то своём умении. Людей с высокими нравственными качествами — я, к примеру, знаю такого стрингера и такого филолога. Мой приятель-психоаналитик, слушая меня так и сказал: "Да ты влюбился!".
А подкупает чаще всего в таких случаях красота мысли, красота мышления и остроумие, что не связано с каламбурами и анекдотами, а связано именно с остротой ума.
— че но-найн идеал? ржако
— Кто Ржако? Вы — Ржако?
— тп нонайн как идеал — оборжаться поэтому ржако. хотя кому и кобыла невеста. на хуевый вкус и цвет товарища нет
— Вы, по-моему, чем-то взволнованы.
— кстате про хуевый вкус она там просет руки показать ну тоже ржако. сфоткайте елду вобход интилигентных мудаков сразу задком повернется. или передком как попросете
— Нет, вы точно чем-то взволнованы.
— вотена думал на дуэль вызовут защитить честь и достоинства идеала — на нетбуках там или смартфонах а тут такой стандартный слив — от песателя. ясно нахуй идеал нет там никаких достоинств но чеж так сразу сдулся?
— Нет, точно — вы взволнованы. Я сначала думал, что нет, не взволнованы, а теперь вижу — точно взволнованы.
— Ой, какой же грубый был ответ про русскоязычных авторов! Или извинение заранее испрошено в каждом посте?
— Это вы сейчас с кем говорили? И о чём?
— Каким людям вы по умолчанию не доверяете?
— Смотря что вы понимаете под доверием. Если близкий друг или девушка давних времён вдруг возникнет в телефонной трубке и скажет, что у них уже почти подписан контракт на поставку сушёных грибов на миллион долларов и не хватает только десяти тысяч, которые мне (если я их дам) вернутся втрое, то я по умолчанию не доверяю и близкому другу и девушке прежних времён. А объясняю дорогу на улице я всем — не вдаваясь в мысль о том, вражеский ли шпион спрашивает меня, как пройти в институт Бурденко или передо мной честный гражданин. Всё зависит от предмета доверия. Не доверять в мелочах сейчас — как спрашивать сдачу в тридцать копеек.
— То есть 10 тысяч долларов или евро это для Вас не мелочь?
Для меня и один рубль не мелочь — всякая сумма в определённый момент важна. Иногда жизнь зависит от копеек, а иногда её не купишь и за миллион.
А $10000 — сумма, за которую можно хороший сарай на даче построить.
Извините, если кого обидел.
15 сентября 2011
(обратно)
История про русский лес
Завтра, (у кого-то уже суббота) в воскресенье — особый праздник. И на этот случай у меня есть праздничный рассказ:
ДЕНЬ РАБОТНИКА ЛЕСА
Третье воскресенье сентября
В пятницу я получил новую форму. Мама подглядывала в щёлочку двери, как я по-мальчишески кривляюсь перед зеркалом, примеряя зелёную фуражку с дубовыми листьями на околыше.
А в понедельник я уже ехал на место своего нового назначения. Колёса весело стучали, солнце всё катилось и катилось в вагонном окне, никак не в силах коснуться горизонта. Поезд забирался всё севернее и севернее, в таёжный край, как жучок-древоточец лезет ближе к центру ствола. Лесной институт стал прошлым, а зелёная форма — настоящим и будущим.
Перед тем как пойти спать, я пел на тормозной площадке (вагон оказался последним) гимн Лесной службы — ты сам по себе — никто. Ты всего лишь лист в могучей кроне. Но все вместе мы — корни и сучья, вместе мы составляем дерево… Гимн был неофициальным, но отцы-командиры обычно закрывали глаза на его хоровое исполнение. Предчувствие будущего счастья переполняло меня — я ещё не знал, что это за счастье, но уже верил в него. Ведь такую войну пережили… А теперь перед нами только сияние возвышенной жизни.
Меня встретили на станции, и резвый «виллис», кутаясь в облако пыли, повёз меня сквозь тайгу к лесхозу. У меня дважды проверили документы, мы пересекли две контрольно-следовые полосы, и наконец я ступил на землю Лесного хозяйства с пятизначным номером.
По этому номеру, просто на почтовый ящик, п/я 49058, будут теперь идти письма от матери и сестры. Больше не напишет никто.
Бросив чемодан, я пошёл представляться к директору. Меня уже ждали, и вот я ступил на ковровую дорожку в огромном светлом кабинете.
Всё тут было как во всяком кабинете — стол с зелёным сукном для совещаний, бюст товарища Сталина в углу, красное знамя на стене. Но было и несколько странных предметов: я посмотрел на гигантскую деревянную скульптуру — это была носовая корабельная фигура, изображавшая человека в костюме, с саженцем в руке.
— Министр Леонов, — перехватил мой взгляд директор. — Собираются построить лесовоз его имени, а пока вот передали нам на ответственное хранение.
Леонов был великий человек — у нас в актовом зале института даже висел транспарант с его словами: «Весь живой зелёный инвентарь есть громадный озонатор, гигиенический фильтр-уловитель из воздуха — газов, копоти и прочих примесей, вредных для общественного здоровья; следовательно, это и есть дополнительный источник сил и задора». На первом курсе мы учили это как мантру.
Ещё в кабинете у директора стоял бонсаи. Впрочем, это было одно название — в маленьком горшке на подоконнике росла простая русская берёза. Только очень маленькая.
— Знаете, зачем нужны малорослые деревья? — директор не ждал моего ответа. — Малорослые деревья нужны для того, чтобы насладиться и общим видом дерева, и его мелкими деталями. Вы ещё молодой человек, но скоро поймёте, что в созерцание большого дерева невозможно включить одновременно и рассматривание отдельных листьев, и ствола и корней, уходящих в землю, и вид дерева целиком. Поэтому, мы взяли в качестве трофея у немецких фашистов их ракеты, а у японских милитаристов — практику выращивания бонсаи, только, конечно, деревья у нас наши, родные.
В кабинет вошёл подтянутый офицер-лесник, и я понял, что это мой будущий наставник.
Савелий Суетин был красив, как человек с плаката, его лицо не портил даже тонкий шрам от уха к подбородку. Китель украшали два ряда орденских планок — я сразу понял, что он воевал и что рядом со мной настоящий герой. Мы пожали друг другу руки, и Суетин повёл меня устраиваться на новом месте.
Меня поселили в новом, пахнущем сосновой смолой общежитии, и даже выделили отдельную комнату. Суетин сводил меня в музей, где лежали, поднятые с глубины огромные окаменевшие деревья. Агатово светились их неровные обломанные стволы. На одной из фотографий я опознал нашего директора, стоящего рядом с гигантским мамонтовым деревом — он был в чужой военной форме, и я сразу понял, что это свидетельство тайной секретной командировки.
Над портретами лучших работников висел лозунг, составленный из кривоватых, но заботливо вырезанных фанерных букв: «Товарищ! Растекайся мыслию по древу! По мысленному древу — вперёд!» Справа значилось «Боян», но цифры идущей далее даты отвалились. Судя по шрифту, стенд висел ещё с довоенных времён.
Тут же, изображённое каким-то народным умельцем, висело Мировое древо, больше похожее на баобаб, который выращивал Маленький Принц. Ночью мне приснилось другое Мировое Древо, такое же маленькое, как бонсаи, то есть кустик-малорослик в кабинете директора.
Я изучил настенный план лесхоза. Там были запретные даже для меня зоны — например, яблоневый сад, на посещение которого требовался специальный допуск, а были и места общего отдыха — такие, как Берендеева роща. Был и Лес памяти Павших Героев, со статуей серебряного солдата в шинели и каске, куда мы потом приходили возлагать венки и жертвенные еловые лапы. На территории было много и других памятников — пионер со скворечником, пионерка с лейкой и молодая комсомолка с лопатой, которую она держала, как весло. Был и комсомолец верхом на лесном плуге, а также — Мичурин с секатором.
Больше всего мне понравился памятник дятлу, что стоял неподалёку от здания музея. Электрифицированного дятла можно было включить специальной кнопкой на столбе, и тогда он начинал стучать, как настоящий.
Наставник указал на него пальцем:
— Помни, если стучит дятел, то он стучит по тебе. Это ведь значит, что дерево заселено короедом-вредителем. А если увидал под ногами опилки или буровую муку, значит, потерял дерево. Одним боевым другом у тебя меньше. Если опала кора, то погиб твой друг, плачь о нём…
О чём — о чём, а о вредителях знал мой наставник всё.
Два дня на меня оформляли документы, а на третий Суетин повёл меня получать личное оружие и представил новым товарищам.
Коллектив был крепкий, давно сложившийся, и я понял, что я понравился этим суровым борцам за чистоту русского леса.
Зарядили дожди. Я всегда любил эту погоду — эти дожди скоро кончатся, а за ними настанет пора сухой и прохладной осени, времени спокойствия и рассудительности.
А пока потекли быстрые, наполненные трудной, но приятной работой дни. Я ездил на дальние кордоны, маркировал деревья для санитарных порубок и составлял планы подкормки лесного народа — от белок до огромных добродушных лосей. Но я понимал, что не для этого меня специально отбирали, проверяли, и, наконец, назначили мне это место службы.
Но я стал маленьким винтиком, листиком, веточкой, частью огромного организма и не должен был спрашивать лишнего. Я солдат эволюции, маленькая деталь биоценоза, и в этом я находил своё предназначение.
И вот, хорошенько приглядевшись ко мне, старшие товарищи решили, что я годен для настоящего дела.
Как-то утром на разводе Суетин забрал меня с собой, и мы поехали к зданию лесной шахты. Я давно понял, что этот день настанет — и вот он пришёл. Пока клеть опускалась вниз, я глядел на Суетина с восторгом.
Это мой день свидания с Мировым Древом — именно ради него и был организован сколь знаменитый, столь и секретный лесхоз. Великие сельскохозяйственные академики, лишённые фамилий, годами пестовали Мировое Древо — и сотни неизвестных стране лесников подкармливали почву, рыхлили землю, снабжали Древо удобрениями, холили и лелеяли этот святой для всякого гражданина символ нашей мощи. Через шахту, знал я, они имели доступ к каждому корешку Мирового Древа, заботливо поили их водой, вентилировали и удаляли вредителей.
Но свидания с корнями Мирового Древа в первый день, как и в последующие, не вышло.
Пару месяцев я работал на рыхлении и подводе кислорода, но настал и тот день, когда Суетин повёл меня на нижний горизонт. Мы шли по широкому тоннелю, облицованному кафелем, и вдруг резко повернули. От неожиданности я схватился за стену и понял, что под рукой не кафель, а тёплая, похожая на кожу поверхность. Суетин с улыбкой смотрел на меня, а я смотрел на Корень, что образовывал одну из стен тоннеля. Гладкий и приятный на ощупь, он уходил в бесконечность параллельно цепочке электрических ламп на потолке. Невозможно было даже оценить его толщину — корень не выгибался внутрь, а просто был неровен, бугрист и похож на бок гигантской картофелины. Савелий благоговейно погладил этот бок, и я тоже — за компанию.
Вечером, после смены, Суетин пришёл ко мне с большой растрёпанной книгой. Он эффектно хлопнул по корешку, и книга раскрылась на нужном месте: «А рядом лес густой, где древний ствол
был с головы до ног окутан хмурым хмелем…».
— Это товарищ Хлебников, — пояснил Савелий. — Он был лесником всего два года, в самых тяжёлых местах — на юге, у Каспия. Не выдержал, ушёл в бега, а потом погиб. Хмеля нужно в меру, вот что я тебе скажу, потому что в нашем деле важна трезвость и точность. Мы ничто — но Дерево… Дерево — всё. Мы, работники службы леса, похожи на жучков, что ухаживают за корнями. Есть жуки полезные, а есть… Но мы будем их давить, пока не додавим всех.
Я представил, как Суетин, угрюмо сопя, давит их — и Елового Лубоеда, и Сибирского Шелкопряда вкупе с Шелкопрядом непарным, и даже Чёрного Усача, — и мне стало не по себе.
Действительно, больше всего неприятностей нам доставляли жучки-древоточцы. Я сам не видел ни одного жучка, но Суетин утверждал, что спецотдел обнаруживает минимум полдюжины за месяц. Говорили, что американские самолёты-суперкрепости, пройдя на огромной высоте над Северным полюсом, открыли свои бомболюки над Лесхозом и специально сбросили тонны древоточцев над нами. Впрочем, я никогда не специализировался на древоточцах — разве как-то стоял в оцеплении, когда ловили Ясеневого Пильщика.
Я работал с техникой на глубоких горизонтах и даже не каждый день видел корни Древа.
Как-то у нас произошёл обвал — осели тяжёлые грунты, и отрезанным лесникам пришлось выбираться через вентиляционные штреки.
Мы с Суетиным блуждали до ночи и вылезли из шахты прямо в саду у запретной зоны. Сад был яблочный, небольшой и очень уютный, но Суетин отчего-то ужасно испугался. Мы выбрались за оградку, и Суетин настоял, чтобы я говорил, что мы вылезли из восьмого штрека, а с отчётами он как-нибудь сам разберётся.
Из дома писали ободряющие письма, сестра говорила, что все мои однокашники завидуют, а соседка по коммуналке так вообще сдохла от зависти, узнав, что я перевёл половину своего денежного аттестата матери. Я догадывался, что таких денег женщина не видела сроду. Но иногда странный жучок неуставного интереса заползал в мою душу — мне просто было интересно, каково оно, само Мировое Древо, которому я посвятил свою жизнь.
Старый профессор Грацианский и вовсе сказал нам как-то после лекций, в курилке, где он дымил на равных вместе с нами, что мы вообще не можем угадать, как выглядит Древо. Я часто думал о случайно обронённых словах профессора. Мысль, что Мировое Древо растёт как хочет, я встречал и у классиков — тут не было никаких открытий.
В десятках учебников мы, курсанты, видели размытые фотографии корней Древа, но я понимал, что корни корнями — но дерево может оказаться совсем обычным. От размера ничего не зависит.
Ну, будет это просто большое дерево, хотя я знал, что больше ста тридцати метров в высоту дерево вырасти не может — соки не дойдут по капиллярам до кроны. Но и в сто метров высотой дерева на горизонте не обнаруживалось.
Да, это мог быть бонса… то есть, малорослик, стоящий в специальной сторожке, но только малорослик могучий, раскинувший свои корни на сотни километров, как диковинную грибницу. Но именно для того была придумана присяга студентов Лесного института, чтобы они понимали: есть такие вопросы, на которые не отвечают. Потому что, собственно, их никто не задаёт.
Неважно, как выглядит Мировое Древо. Важно только то, что ты маленький солдат его армии, боец, помогающий Древу бороться с вредителями, случайными отклонениями погоды и опасным движением грунтовых вод. «Ты знаешь только свой участок и счастлив выполнить любую работу», — повторял я снова и снова.
Настал День работников леса.
Мы расселись в кинозале, надев парадную форму. Звенели медали, и сияли золотом погоны.
Вышел директор и без бумажки, от сердца, сказал приветственное слово.
— Мы, товарищи, здесь как на войне. На войне за наше будущее, — он сделал паузу. — А грозен наш народ, красив и грозен, когда война становится у него единственным делом жизни. Лестно принадлежать к такой семье. Хорошо, если Родина обопрется о твое плечо, и оно не сломится от исполинской тяжести доверия, как тонкая берёзка…
Я чувствовал, что праздник сравнял директора и его армию — от лесничих до простых лесников.
После праздничного концерта самодеятельности (жёны лесников разыграли спектакль, и даже сам директор спел пару песен, аккомпанируя себе на баяне) началось застолье. Мы сильно пили, и, притворившись пьяным, я пошёл вздремнуть в кусты. Однако из этих кустов я достаточно быстро вылез с другой стороны и припустил внаправлении яблоневого садика. Я давно догадался, что именно там растёт Симиренко-50, яблоня познания.
Сигнализации у калитки не было, и часовых рядом — тоже.
Не дав себе подумать о будущем и испугаться, я сорвал нужное яблоко — большое и круглое. Оно легло в ладонь, как пушечное ядро. Оглянувшись, я проверил, не следит ли кто, и откусил. Удивительная горечь наполнила рот.
Я побрёл домой на заплетающихся ногах, хотя стремительно трезвел. Вся моя жизнь представлялась мне теперь ошибкой, а окружающая действительность — адом.
Никто ничего не заметил — так мне показалось. И мой дурной вид списали на похмелье.
Но теперь несколько мыслей не оставляли меня — и все они были связаны с Мировым Древом. Каково оно? Куда растёт? Какова его форма?
С одной стороны, каждый из нас знал, как оно может выглядеть, но только избранные видели его. А, может, и они только догадывались?
Давным-давно, в институтской библиотеке, я читал старую книгу, где говорилось, что Мировое Древо растёт не вверх, а вниз. Я давно забыл и автора, и название книги, но слова о том, что дерево может расти не вверх, а вниз, мне запомнились навсегда. Как это могло быть, у меня не укладывалось в голове — но как-то могло.
Я разглядывал в музее лесхоза нанайские свадебные халаты и видел на них деревья плодородия. Эти деревья росли в облаках, в царстве женского духа, причём у каждого рода было своё дерево, на ветвях которого сидели души нерождённых людей, больше похожие на птичек. Деревья в облаках переплетались, птички порхали, чтобы потом обрасти настоящими перьями и спуститься голубями прямо к ждущим потомства матерям.
Но всё же воздушные деревья меня не занимали. Куда больше будоражили душу слова «Атхарва веды»: «С неба корень тянется вниз, с земли он тянется вверх» или: «Наверху корень, внизу ветви, это — вечная смоковница».
На одном из столов в институтской библиотеке были вырезаны слова старого русского заговора, которые я запомнил: «На море на Океяне, на острове, на Кургане стоит белая берёза, вниз ветвями, вверх кореньями». Теперь всё шло в дело, я попробовал и это, но пока это были только намёки.
С нами вместе учились два плосколицых парня с Крайнего Севера, где деревьев, как я думал, не было вообще. Но оказалось, что у них по разные стороны шаманского чума ставили два дерева — одно из них символизировало древо Нижнего мира и росло ветвями вверх, а другое, ветвями вниз — древо Верхнего мира.
Я принялся их расспрашивать, но плосколицые мало рассказывали об этой конструкции мира. Она не вписывалась в официальное представление о Мировом Древе, да и весь Нижний мир был перевёрнут и крив, зеркален относительно дома Верхнего, но удивительно похож на наше бытиё. А кому понравится жить не то в Нижнем мире, не то в отражённом.
С тех пор я начал прикидывать трехмерную конструкцию и пытаться в уме построить карту Корней Древа.
Каждый день, путешествуя по шахте, я мог примерно угадать направление и расстояния перемещения. Корни Древа залегали очень глубоко, но это, повторяю, ничего не значило.
В институте я читал не только Докучаева с Морозовым и по памяти нарисовал как-то прутиком на песке стандартную двухкоординатную мандалу с вписанным квадратом, только для простоты расположил по краям ацтекские символы — красного бога востока, синего бога севера, зелёного бога юга и коричневого западного божества. Всё время выходило, как в «Гильгамеше», что надо выйти на четыре стороны, то есть непонятно куда.
Морочье русское заклинание помогло не больше: «На море на Океяне, на острове Буяне стоит дуб… под тем рунцом змея скоропея… И мы вам помолимся, на все на четыре стороны поклонимся»; «… стоит кипарис-дерево…; заезжай и залучай со всех четырёх сторон со востока и запада, и с лета и сивера: идите со всех четырёх сторон… как идёт солнце и месяц, и частые мелкие звёзды. У этого океана-моря стоит дерево-карколист; на этом дереве-карколисте висят: Козьма да Демьян, Лука да Павел».
Я как-то застал Суетина в печали (кажется, он получил какую-то дурную весть из дома). На столе в его комнате стояла бутылка водки и неровно вспоротая банка свиной тушёнки. Мы выпили, и он, разговорившись, случайно приблизил меня к разгадке:
— Ты не понимаешь, дело не только в том, что Древо держит корнями землю, не давая ей распасться. Дерево — это такой генетический код Земли — тут, гляди, если взять, например «три» — три части дерева — корни, ствол и крона. Поэтому всегда в сказках три героя, три попытки, три брата едут за красавицей… Мировое Древо — это и Мировая Энциклопедия, и Мировая Счётная машина. Вот если взять четвёрку, то есть четыре стороны света, четыре времени года и четыре начала мира — то ты увидишь, что она неравноценна, на северной стороне Древа по другому располагаются годовые кольца (впрочем, сейчас это смотровое дупло заделали, но поверь мне на слово), на южной стороне можно попасть в страну мхов, «Семь» — это «три» плюс «четыре» — семь ветвей семисвечника. У каждой ветви двенадцать сучьев… Это и живой арифмометр, и живой Информаторий…
Тут его повело, голова свесилась на грудь, и он, как был, завалился на койку. Я снял с него китель, сапоги и тихо ушёл.
Благодаря невольной подсказке, с помощью счёта по три и по четыре, я усовершенствовал мандалу, которую каждый раз рисовал на песке в роще, а потом затирал ногой, чтобы не осталось следов. Стройная геометрия Мирового Древа и направление его роста становились мне понятнее. Но невероятный вывод, к которому я пришёл, нужно было проверить.
Несколько месяцев я ждал, чтобы на меня выпало дежурство на северном горизонте, где подземные ходы были самыми глубокими.
Они уходили настолько далеко от поверхности, что там приходилось пользоваться дыхательными аппаратами. Но когда появился этот шанс отправиться в самостоятельное путешествие, оказалось, что со мной контролёром навязался Суетин.
Мы спускались в шахту, балагуря, хотя на душе у меня скребли кошки. Суетин смотрел на меня строго, но позволил вести вагонетку. Она весело стучала колёсами на стыках, точь-в-точь как поезд, что привёз меня сюда три года назад.
Я повернул рычаг, и вагонетка ушла в сторону от маршрута. Казалось, что Суетин ничего не заметил, но когда мы отъехали достаточно далеко, железные пальцы вцепились в моё плечо. Я почувствовал, как он выдирает из кобуры табельный пистолет.
Завязалась скорая и неравная борьба, но, на моё счастье, вагонетка в этот момент перевернулась. Её тяжёлый край придавил Суетину ногу. Черный пистолет отлетел далеко, и Суетин не смог до него дотянуться.
Лицо моего наставника побелело. Суетин явно боялся за свою жизнь, и было видно, что он пытается просчитать варианты — запугивать меня или льстить, подманивать или обещать что-нибудь.
— Не уходи.
— Не могу остаться, товарищ Суетин. Жаль, конечно, что так обернулось, но радиомаяк у вас работает, а это значит, что через три часа придут за вами и спасут. А вот у меня времени в обрез.
Я кривил душой, зная, что никто по моему следу не пойдет.
— Опомнись, сынок. До беды недалеко, — он снял фуражку и утёр вспотевший лоб.
— Вы, товарищ Суетин, ещё бы про Особый отдел вспомнили.
— Что тут вспоминать. Я и есть — Особый отдел, я. Не понял, что ли? Я, я! Я целый год за тобой следил, на карандаш брал, дурака пьяного изображал, да вот не знал, что жизнь так обернётся. А пока нам надо сидеть, да ждать, как за нами придут. Слышишь? О матери подумай! Я на тебя рапорт подам! — сорвался он в крик.
Но мне уже было всё равно. Я оставил Суетину флягу с водой и пошел, согнувшись, по штреку. Воздух в тоннеле изменился, он перестал быть спёртым, казалось, его стало больше. И это подсказывало, что я близок к цели. Я сорвал дыхательный аппарат и бросил его под ноги.
Вскоре идти стало невозможно, и я пополз, извиваясь, как червяк, подсвечивая себе фонариком. Наконец я начал двигаться головой вниз, и вот я очутился перед земляной стеной. Сразу было видно, как она непрочна. Я остановился, чтобы передохнуть — осталось последнее усилие. Я шёл к этому мгновению так долго, что последние несколько минут можно было растянуть, как последнюю сигарету. Что там, в ином мире? Откуда мне знать.
Мосты сожжены. Если даже я свалюсь в пропасть между трёх китов, то не буду жалеть, что сделал этот свой главный поступок в жизни.
Древо растёт вниз, но это низ только для нас, а на самом деле его ствол поднимается вверх в другом, зеркальном мире.
И я ударил кулаком в тонкую земляную перемычку.
Странный белый свет залил лаз.
Я вздохнул, набрался храбрости и высунул голову наружу.
Извините, если кого обидел.
16 сентября 2011
(обратно)
История про битву титанов
Нет, ну как не крути — битвы клоунов и пидорасов продолжаются. Однако ж вот что я скажу — тут мои симпатии на стороне КГБ, а не ВДВ.
И, чтобы два раза не вставать, скажу ещё: что-то это, наверное, означает, если политическая жизнь сводится к простому физическому действию.
Кстати, в копилку моему доброму товарищу, что час за часом в своём дневнике цитирует одного автора:
"Кстати, — сказал я. — Уточним детали. Вы с детства росли на высокооплачиваемых кормах. Я не так одарен физически, поэтому прибегаю к тяжелым предметам.
— Это все?.. — спросил он и медленно встал. — Уберите женщин.
Его команда, наконец, загалдела.
— Не все, — сказал я. — Я презираю салонный мордобой.
Он двинулся ко мне. Панфилов взял две пустые бутылки и о край стола отбил донышки.
— Дуэли не будет, — сказал Панфилов. — Уцелевших арестуют.
К Мите, наконец, кинулась Вика, стала хватать его за руки, а он делал вид, что сопротивляется ей.
— …Митя, идемте… Митя, сейчас же идем… Я думала, вы интеллигентный человек, — сказала она Панфилову.
— Он не интеллигентный человек, — сказал я. — Это Митя интеллигентный человек, а он простой советский десантник".
Кстати, в этом же произведении есть абзац, который может (конспирологическим образом) объяснить происхождение знаменитой фразы одной журналистки — импринтинг в детстве, то-сё: "Все было как вчера утром. Так же, словно лифт, загудел трансформатор. Так же начали тлеть контрольные лампы, и заметался зеленый шнур в трехшлейфовом осциллографе. Все было так же. Только стрелка на выходе, большая фосфоресцирующая стрелка спокойно, без дрожи прошла заветную черту и остановилась только тогда, когда уперлась в самый конец шкалы, показывая немыслимую, невероятную точность".
Извините, если кого обидел.
17 сентября 2011
(обратно)
История про сюжеты и сплетни
По следам одного ночного разговора начал думать об отличии сплетни от литературного сюжета.
Вот есть старая история об адмирале и царице. Это история старая, к примеру, её рассказывают так: в царствование Екатерины II Россия воевала со Швецией. Русские моряки разбили шведскую эскадру, и даже взяли абордаж шведский флагман. Героического моряка принимает Екатерина, и тот, выпив по случаю, раскрасневшись от напитков и воспоминаний, начинает рассказывать, всё более увлекаясь: «И вот захожу я шведу с кормы, ё…! И тут …! Ну думаю, …! А потом всем бортом как ё…!». И тут, опамятовавшись, падает на колени.
— Ничего, — отвечает Екатерина, — продолжай, голубчик, я ведь ваших морских терминов всё равно не понимаю…
Так вот, эту историю и про Чичагова рассказывают, и про Апраксина, и про Сипягина. Да и государыню можно другую в его поместить, а сюжет всё равно работает.
Так вот, иногда и с частной жизнью людей такие пердимонокли выходят, что становятся сюжетами. Если их рассказать складно.
А иногда — срамота одна. Как не бейся, не сюжет, а сплетня.
Ну, не совсем сказки — настоящая сказка должна быть наполовину создана из реальности.
Сюжет таков, что если вычеркнуть имена, он продолжает оставаться интересным.
А вот сплетня без имён тускнеет.
Извините, если кого обидел.
18 сентября 2011
(обратно)
История про жюльверновские описи
Испытывая очередной приступ прокрастинации, переделал массу дел, но при этом перечитал «Таинственный остров». То есть, я понимаю, что нормальный человек Жюль Верна читать сейчас не может — и всё же. Это совершенно безумная книга, при том, что я только что намекнул, что это общий стиль автора.
Так вот, герои «Таинственного острова» как-то чудовищно деятельны. Они хлопотливы, как муравьи, и действуют будто кто-то пустил плёнку с увеличенной скоростью. Но за последние годы привыкаешь к тому, что заброшенные на необитаемые острова стремятся выжить, но тут они и создают цивилизацию.
Чем чаще я вспоминаю своё детское чтение первофантаста, тем большую оторопь он у меня вызывает — то есть, меня удивляет феномен нехудожественности его прозы. Понятно, что она как бы проза образовательная, вслед за блесной сюжета тянущая острый крючок образовательного процесса, но всё же, всё же, всё же…
Только золотым веком доверия к прогрессу можно объяснить любовное чтение жюльверновских описей: «Вот точный перечень его содержимого, записанный в блокноте Гедеона Спилета: «Инструменты 3 ножа с несколькими лезвиями, 2 топора для рубки дров, 2 топора плотничьих, 3 рубанка, 2 тесла, 1 топор обоюдоострый, 6 стамесок, 2 подпилка, 3 молотка, 3 бурава, 2 сверла, 10 мешков винтов и гвоздей, 3 ручные пилы, 2 коробки иголок. Приборы: 1 секстант, 1 бинокль, 1 подзорная труба, 1 готовальня карманный, 1 компас, 1 термометр Фаренгейта, 1 барометр металлический, 1 коробка с фотографическим аппаратом и набором принадлежностей — пластинок, химикалий и т. д. Одежда: 2 дюжины рубашек из особой ткани, похожей на шерсть, но, видимо, растительного происхождения, 3 дюжины чулок из такой же ткани. Оружие: 2 ружья кремневых, 2 пистонных ружья, 2 карабина центрального боя, 2 капсюльных ружья, 4 ножей охотничьих, 2 пороха фунтов по 25 каждый, 12 коробок пистонов. Книги: 1 Библия (Ветхий и Новый Завет) 1 географический атлас, 1 естественно-исторический словарь в 6 томах, 1 словарь полинезийских наречий, 3 стопы писчей бумаги, 2 чистые конторские книги. Посуда: 1 котел железный, 6 медных луженых кастрюль, 3 железных блюда, 10 алюминиевых приборов, 2 чайника, 1 маленькая переносная плита, 6 столовых ножей». «Нельзя не признаться», — сказал журналист, окончив опись, что владелец этого ящика был человек практичный».
Извините, если кого обидел.
19 сентября 2011
(обратно)
История про Nokia E7
Я должен сказать, что всю свою мобильную жизнь пользовался телефонами Nokia. (За исключением одного «Ericsson’а» моего доброго товарища Славы Сорокина и чудесной «Моторолы» Миши Бидниченко. (Это были такие замечательные «Моторолы», которыми в своё время дрались в барах — не раскрывая эту лопату, но держа её за выдвинутую тонкую антенну).
 Первый мой телефон был Nokia 6100 — он был прост и незатейлив. Потом я съездил с ним в Латинскую Америку, и другой мой добрый товарищ Леонид Александрович дивился, увидев, что внутри аппарат оброс какой-то восхитительной зелёной плесенью. Я тут же купил точно такой же.
А потом началась пора коммуникаторов и понеслось.
Мне, как человеку, чрезвычайно любящему всякие гаджеты, всё это было по сердцу, и большие коммуникаторы, которые многие ругали за размер, мне пришлись удивительно по сердцу. При моей комплекции мне было легко прятать их в складках тела. Итак, мир совершенствовался и прогресс наступал.
Оттого, после изучения Nokia E7 я считаю своим долгом написать некие соображения по поводу этого аппарата и развития коммуникаторов вообще. E7 — вполне хороший прибор, сохранивший выезжающую клавиатуру (или же — снабжённый отъезжающим активным экраном). Специально для тех, кто любит радужные отчёты, я расскажу свою любимую историю про академика Крылова. Академик-кораблестроитель Крылов на защите чьей-то диссертации сказал: «Выступая здесь оппонентом, я хотел бы напомнить, что это слово в Древнем Риме означало человека, что бежал за колесницей триумфатора и выкрикивал ему хулу, чтобы тот не слишком возгордился". Экран большой, всё решительно прекрасно, но я всё же рассматриваю этот аппарат как переходный.
И вот почему:
Первый мой телефон был Nokia 6100 — он был прост и незатейлив. Потом я съездил с ним в Латинскую Америку, и другой мой добрый товарищ Леонид Александрович дивился, увидев, что внутри аппарат оброс какой-то восхитительной зелёной плесенью. Я тут же купил точно такой же.
А потом началась пора коммуникаторов и понеслось.
Мне, как человеку, чрезвычайно любящему всякие гаджеты, всё это было по сердцу, и большие коммуникаторы, которые многие ругали за размер, мне пришлись удивительно по сердцу. При моей комплекции мне было легко прятать их в складках тела. Итак, мир совершенствовался и прогресс наступал.
Оттого, после изучения Nokia E7 я считаю своим долгом написать некие соображения по поводу этого аппарата и развития коммуникаторов вообще. E7 — вполне хороший прибор, сохранивший выезжающую клавиатуру (или же — снабжённый отъезжающим активным экраном). Специально для тех, кто любит радужные отчёты, я расскажу свою любимую историю про академика Крылова. Академик-кораблестроитель Крылов на защите чьей-то диссертации сказал: «Выступая здесь оппонентом, я хотел бы напомнить, что это слово в Древнем Риме означало человека, что бежал за колесницей триумфатора и выкрикивал ему хулу, чтобы тот не слишком возгордился". Экран большой, всё решительно прекрасно, но я всё же рассматриваю этот аппарат как переходный.
И вот почему:
Во-первых, камера 8 мп без автофокуса (Этим все особенно возмущаются, но, сдаётся мне, что все всё равно так плохо снимают, что это все равно. Мотив «она не может сфотографировать и распознать визитку», — который я наблюдаю у некоторых, мне чужд абсолютно. Я визитки не распознаю, печали от отсутствия автофокуса я не испытываю, но некоторое бурление народных масс наблюдаю.
 Во-вторых, налицо странная история с аккумулятором. Аккумулятора в рабочем режиме мне хватает на сутки. Ну много жрёт большой экран и всё остальное.
Есть с чем сравнивать — предыдущий E90 значительно дольше жил. Те есть, у моей Е90 было — 1500 мАч, а у Е7 — 1200 мАч — и это при возросшем энергопотреблении.
Особенностью этой Nokia стал неизвлекаемый аккумулятор. То есть, везде написано, что его может вынуть (разобрав корпус) специалист — но это понятный маркетинговый ход, не диктующий, но подталкивающий к покупке потом, спустя года два-три нового телефона. Этот ход мне понятен,
Но тут есть некоторая деталь: на второй день работы машинка зависла. Я при этом жду важного звонка. На E90 я бы выключил её, а если не помогает, то вынул-вставил аккумулятор. Тут я жму на клавишу выключения (я довольно долго жал, но мне подсказали, что может быть недостаточно долго — говорят больше десяти секунд надо — но это подсказка товарищам), а машина не реагирует.
То есть — никак. На экране горит застывшая страница телефонной книжки, и ничего не происходит. И что, спрашивается, делать? Ждать, пока зарядка сядет? Из положения я вышел, что не отменяет проблемы. И, может, это не беда, но всё же — это называется не-friendly. (Я, кстати, думаю, что всё уже придумано, но мы, пользователи, разберёмся в этой мелкой моторике как раз в тот момент, когда придёт пора кардинально новой модели).
В-третьих, такие вещи не-friendly есть в любом телефоне — тут важно соблюсти баланс. Чему-то человек учится, а что-то должно быть понятным и не гению. Не имбецилу, но всё же не сумасшедшему геймеру.
Например, я там долго бился, чтобы телефон не подключался к домашней сети без спроса. А то он норовит подсосаться как алкоголик — бьёшь по рукам, а он всё лезет. Я уж и выставил «ручное подключение», пытался найти «отключить поиск WLAN» (не нашёл сразу) — ну и всё такое.
Но машина-то хорошая, спору нет — наследница по прямой. Только уже стоящая на пороге качественно иного состояния.
В-четвёртых, (и в самых интересных) мы сталкиваемся со следующей проблемой.
На E7 неудобен набор больших текстов — как и вообще на прочих малоклавиатурниках. Он не для этого. Собственно, для меня открытым остаётся вопрос — зачем там вообще слайд-клавиатура. Если для англоязычного набора она худо-бедно годится, то в кириллице исключена буква "ё". Буква «ё»! А буквы "Х", "Э", "Ъ" зашифтованы под комбинацию клавиш, а сами клавиши стали меньше.
Это плата за уменьшение размера клавиатуры — и сколько не говори "халва-халва", она удобнее от уменьшения не становится. Площадь клавиатуры на Nokia Е90 125x53=6519 мм — на E7 — 99x25=2475 мм. 65 кв. сантиметров против 25. О чём говорить-то?
То есть, можно переучиться на быстрый набор с нажатиями дополнительных клавишах — но зачем, если экранный аналог умещает там все буквы (тут происходит извечная борьба за минимизацию — чтобы клавиатура стала более удобной она должна быть больше, а маркетологи думают, что чем меньше телефон, тем он лучше).
Но тут есть и другая проблема — поскольку выдвижная клавиатура находится под активным экраном, пальцы, если они недостаточно миниатюрны (мой закрывает шесть клавиш) задевают за экран с понятным результатом перескакивания).
Я начал думать, не стоит ли работать с емкостным стилусом — но он стоит $40.
Резюмирую — я сталкиваюсь с печальной тенденцией уничтожения коммуникаторов как субноутбуков. Поскольку меня уже начали упрекать, в том, что я описываю исключительно негативные черты аппарата, так я для непонятливых ещё раз скажу — это патриотический nokia-пост. Мне не безразлично, что со всем тим будет) Итак (сейчас будет учёное слово) — рудиментация клавиатуры — это тенденция не Nokia, (она-то как раз была островком в этом селевом потоке, державшимся дольше прочих), а тенденция мировая. То есть, из коммуникатора вымывается возможность набрать текст больше двойной SMS.
В этом ничего удивительного — такой спрос, таковы геологические изменения в мире букв. А спорить с геологическим процессом — что против ветра плевать. Либо решаешь, что "на наш век хватит", либо приспосабливаешься.
Вышеупомянутый Слава Сорокин, побывавший компьютерным начальником в разнообразных представительствах, говорил, что стратегия одна — иметь планшетник и маленький туповатый телефон для звонков. Я ему доверяю, но, как говорится, возможны варианты.
То есть, какое-то время мы попрыгаем, подёргаемся на новых моделях, а потом уйдём на комбинацию планшетник с симкой + блютус гарнитура в ухе, или будем таскать с собой два прибора.
Во-вторых, налицо странная история с аккумулятором. Аккумулятора в рабочем режиме мне хватает на сутки. Ну много жрёт большой экран и всё остальное.
Есть с чем сравнивать — предыдущий E90 значительно дольше жил. Те есть, у моей Е90 было — 1500 мАч, а у Е7 — 1200 мАч — и это при возросшем энергопотреблении.
Особенностью этой Nokia стал неизвлекаемый аккумулятор. То есть, везде написано, что его может вынуть (разобрав корпус) специалист — но это понятный маркетинговый ход, не диктующий, но подталкивающий к покупке потом, спустя года два-три нового телефона. Этот ход мне понятен,
Но тут есть некоторая деталь: на второй день работы машинка зависла. Я при этом жду важного звонка. На E90 я бы выключил её, а если не помогает, то вынул-вставил аккумулятор. Тут я жму на клавишу выключения (я довольно долго жал, но мне подсказали, что может быть недостаточно долго — говорят больше десяти секунд надо — но это подсказка товарищам), а машина не реагирует.
То есть — никак. На экране горит застывшая страница телефонной книжки, и ничего не происходит. И что, спрашивается, делать? Ждать, пока зарядка сядет? Из положения я вышел, что не отменяет проблемы. И, может, это не беда, но всё же — это называется не-friendly. (Я, кстати, думаю, что всё уже придумано, но мы, пользователи, разберёмся в этой мелкой моторике как раз в тот момент, когда придёт пора кардинально новой модели).
В-третьих, такие вещи не-friendly есть в любом телефоне — тут важно соблюсти баланс. Чему-то человек учится, а что-то должно быть понятным и не гению. Не имбецилу, но всё же не сумасшедшему геймеру.
Например, я там долго бился, чтобы телефон не подключался к домашней сети без спроса. А то он норовит подсосаться как алкоголик — бьёшь по рукам, а он всё лезет. Я уж и выставил «ручное подключение», пытался найти «отключить поиск WLAN» (не нашёл сразу) — ну и всё такое.
Но машина-то хорошая, спору нет — наследница по прямой. Только уже стоящая на пороге качественно иного состояния.
В-четвёртых, (и в самых интересных) мы сталкиваемся со следующей проблемой.
На E7 неудобен набор больших текстов — как и вообще на прочих малоклавиатурниках. Он не для этого. Собственно, для меня открытым остаётся вопрос — зачем там вообще слайд-клавиатура. Если для англоязычного набора она худо-бедно годится, то в кириллице исключена буква "ё". Буква «ё»! А буквы "Х", "Э", "Ъ" зашифтованы под комбинацию клавиш, а сами клавиши стали меньше.
Это плата за уменьшение размера клавиатуры — и сколько не говори "халва-халва", она удобнее от уменьшения не становится. Площадь клавиатуры на Nokia Е90 125x53=6519 мм — на E7 — 99x25=2475 мм. 65 кв. сантиметров против 25. О чём говорить-то?
То есть, можно переучиться на быстрый набор с нажатиями дополнительных клавишах — но зачем, если экранный аналог умещает там все буквы (тут происходит извечная борьба за минимизацию — чтобы клавиатура стала более удобной она должна быть больше, а маркетологи думают, что чем меньше телефон, тем он лучше).
Но тут есть и другая проблема — поскольку выдвижная клавиатура находится под активным экраном, пальцы, если они недостаточно миниатюрны (мой закрывает шесть клавиш) задевают за экран с понятным результатом перескакивания).
Я начал думать, не стоит ли работать с емкостным стилусом — но он стоит $40.
Резюмирую — я сталкиваюсь с печальной тенденцией уничтожения коммуникаторов как субноутбуков. Поскольку меня уже начали упрекать, в том, что я описываю исключительно негативные черты аппарата, так я для непонятливых ещё раз скажу — это патриотический nokia-пост. Мне не безразлично, что со всем тим будет) Итак (сейчас будет учёное слово) — рудиментация клавиатуры — это тенденция не Nokia, (она-то как раз была островком в этом селевом потоке, державшимся дольше прочих), а тенденция мировая. То есть, из коммуникатора вымывается возможность набрать текст больше двойной SMS.
В этом ничего удивительного — такой спрос, таковы геологические изменения в мире букв. А спорить с геологическим процессом — что против ветра плевать. Либо решаешь, что "на наш век хватит", либо приспосабливаешься.
Вышеупомянутый Слава Сорокин, побывавший компьютерным начальником в разнообразных представительствах, говорил, что стратегия одна — иметь планшетник и маленький туповатый телефон для звонков. Я ему доверяю, но, как говорится, возможны варианты.
То есть, какое-то время мы попрыгаем, подёргаемся на новых моделях, а потом уйдём на комбинацию планшетник с симкой + блютус гарнитура в ухе, или будем таскать с собой два прибора.
Извините, если кого обидел.
19 сентября 2011
(обратно)
История про мелкую моторику
Синдерюшкин скептически осматривал мою мебель. Он понимал, что я буду его просить помочь при переезде. Чтобы уйти от разговора о мебели, он вдруг спросил:
— А ты пишешь рассказ про пидорасов?
Я несколько опешил.
— Что тебе до этого? Вот смотри — буфет…
— Мне интересно. Может ты от безделья решил сменить ориентацию. Я замечаю, Вова, это по изменению твоего вокабуляра. Однажды ты, как механический попугай, стал ни к селу, ни к городу говорить слова «эпистемологическая неуверенность» — и тут же женился. А тут ты ещё каких-то мужиков хвалишь.
— Нет, с чего бы это мне менять ориентацию? Я вот тут видел красивого (даже очень красивого мужчину) и с ним подружился (нет, даже двух видел, но подружился с одним). Однако ж ориентации не поменял, и даже не помыслил о том. А что я стал говорить?
— Ты постоянно говоришь «мелкая моторика».
— А! — и тут я успокоился. «Мелкая моторика» — это, вообще-то, медицинский термин. Но у меня это слова, описывающие мелкие движущиеся детали жизни. Вот убийство, война — это большие движения жизни. И судебное разбирательство — тоже велико. А мелкая моторика — это всякие поступки. Вот на днях ко мне, как к Остапу Бендеру, привели женщину зубного техника. То есть, я понимаю, что она настоящий стоматолог, но в той фразе, сочинённой Ильфопетровым, главное было слов «Даже». «и одна даже одна женщина зубной техник». Стоматолог была женщина очень красивая и успешная. И вот эта женщина — начальница над какими-то другими стоматологами (кажется, заведующая стоматологической поликлиникой) деловая, ухоженная, в облаке дорогих духов вдруг достала из сумочки две банки баклажанов собственной закатки.
Это мелкая моторика.
Или вот я еду в поезде с фотографом, и он мне рассказывает, что раньше был дефицит техники, и вот тот, у кого был кардан, считался удивительным экспериментатором, прямо Сальватором Дали каким-то.
— Что такое кардан? — спрашиваю я.
И он отвечает мне, что карданом называли фотоаппарат, представлявший собой гармошку между подвижной панелью с объективом и подвижной панелью, в которую вставлялась фотопластинка. В нём можно было создавать причудливые искажения кадра.
Я внимательно слушаю, потому что этот кардан, знание о котором мне непонятно зачем, и есть мелкая моторика. Ишь — пластины, гармошка…
Или вот я с добрым приятелем своим Лодочником, заехал летом в усадьбу Мирковичей, а спустя несколько месяцев занялся разглядыванием буклета, что вручила мне владелица усадьбы Мирковичей. Это были работы в технике финифти, которыми занималась её дочь Юлия Кружим. Она училась в Федоскинском училище по специальности «Ростовская финифть». Так вот, на этой финифти были портреты первых лиц, Патриарх глядел дворником, а Путин — Платоновым. Среди этой финифти были уже опальные Лужков с супругой. А ещё там был «Портрет правителя ОАЭ» — непоименованного красавца, и масса нательных крестов вкупе с ладанками. «Миниатюра с портретом вашего любимого коня, победителя скачек станет достойным украшением вашего дома или офиса» — мне это очень понравилось, хотя у меня не было коня.
Конь — это иная моторика. Если б я имел коня, я б, наверно, помер. От голода.
А вот разглядывание буклета и правитель Эмиратов — это мелкая моторика. Она повсюду.
Или вот я получаю спам, который начинается со слов «Я знаю, что придет большой неожиданностью для вас, но я призываю Вас оценить эту возможность тщательно и страстно». Слово «страстно» тут — мелкая моторика.
Остальное в письме хуйня и неинтересно.
Извините, если кого обидел.
20 сентября 2011
(обратно)
История про путешествия
В очередной раз размышлял путешествиях как о социальном индикаторе. Вообще о том, зачем люди путешествуют.
И вообще — как устроено у современного человека отношение к путешествиям, какая от них у него социальная и психологическая выгода.
И каков стиль отчётов о путешествиях в разные времена.
Однажды смотрел на своего друга, что сейчас приехал из Крыма (он ездил туда к другому нашему другу, где тот снимал кино (другой, в смысле), и показывал снимки — и вот он показывал их на большом проекционном экране, и я поймал себя на мысли, что он фотографирует себя в разных местах планеты оттого, что не вполне уверен, что там действительно был. (Я ещё вспомнил, как в позднее советское время все стали ездить заграницу и мучили друг друга просмотром слайдов. Приходили в гости, выставлялся на стол проектор, и все смотрели на экран (в домах побогаче) или на голую стену (победнее), сидели и дулись, потому что гостям хотелось уже чаю с тортиком, а им показывали Эйфелеву башню и Дом Инвалидов).
Интересно, говорят ли ныне: "А гости дорогие, пока не посмотрите про то, как мы бухали в городе Красноморске, иначе называемом Хургадою, моего виски нипочём не получите"?
Ещё живо преподавательское правило — не терять контакт с аудиторией. Скажем, людям, может быть, и понравилось рядом с Эйфелевой башней, но в "Одноклассниках", наверное, десять миллионов фотографий "Я на фоне Эйфелевой башни" (и двадцать миллионов "Я на фоне пирамид"), но насильно заставлять смотреть их — несколько неосмотрительно.
Вот ещё одна история: есть у меня друзья, что занимаются рафтингом, то есть, сплавом по горным рекам. Рафтинг — довольно умное и очень техничное занятие, хоть мне оно не очень понравилось — довольно мокро. Я видел этих людей в разных обстоятельствах: это очень неглупые, собранные и рассудительные люди. Много готовятся, тщательно выполняют свои решения. Мы ходили вместе в баню по четвергам, и я как-то обратил внимание, как они тренированы — даже девушки: глядя на них, как перекатываются мышцы, понимаешь, что они не толко коня на скаку остановят, но перекинут его за спину и домой отнесут. Вместе с телегой.
Так вот, я как-то пришёл к ним, а у них встреча после похода, и вот сидят они как зачарованные и смотрят в экран телевизора. А фильм там примечательный — кто-то снимал с берега, как они прыгают через пороги — и вот ровный очень сильный шум, в белой пене прыгают четыре оранжевые каски. Мы сидим за столом — пять минут, десять, пятнадцать. Для меня, непосвященного, ничего на экране не меняется — белая пена и в равномерном шуме то появляются, то исчезают оранжевые каски. Ну и пошёл я на кухню — кофе варить.
Туризм, кстати, очень молодое явление — в XIX веке ездили только на воды — лечиться, и учиться — в университеты. А так всё — с казённой подорожной, по служебной надобности.
Гон, охота к перемене мест присутствовала у меня и в двадцать лет, и в тридцать. Но потом я стал очень расчётлив, следуя анекдоту про парикмахера, что повесился, оставив трагическую записку: "Всех не переброешь". Нужно действовать разумно — потому что легко превратиться в человека, что целый вагон яблок не съел, а понадкусывал. Чтобы по-настоящему понять город, к примеру, нужно полжизни — так тебя на два города и хватит. Суета, вот что губит взгляд, его точность, и осмысленность его памяти.
Есть история про то, как советские писатели поехали в Италию. Они приехали, кажется, в Неаполь, и вот все начали бегать по городу, фотографируя достопримечательности. А Паустовский никуда не бегал, а сел за столик и весь день просидел в открытом кафе и смотрел на улицу. А потом получилось. что лучший текст про Неаполь написал именно он.
И вот опять маячит перед нами вопрос "Зачем?".
Ну а с социальным гоном — собственно, как с едой, можно давиться, жадно хватать кусок за куском, но тогда у тебя пропадает вкус воды из жестяной кружки в степи, или там гречневая каша в охотничьем домике. (Можно придумать менее пошлые сравнения).
Извините, если кого обидел.
21 сентября 2011
(обратно)
История про неожиданные воспоминания
Отчего-то вспомнил: у меня давным давно был в жизни один человек из КГБ. (То есть, я знал их много, но речь именно об одном феномене). Этот человек занимался поиском нацистских преступников, причём всё было не так, как в фильмах. Гораздо это было прозаичней, и оттого и величественнее. Очень был скучный и блёклый человек, вежливый и спокойный. Но чистый дементор, сказал бы я, если б к тому моменту был бы написан Гарри Поттер.
Об него ломались все псевдоинтеллигентские мифологические представления о жизни (мои друзья, зная, что я с ним общаюсь, его время от времени обсуждали).
Отчего вспомнил это именно сейчас, не понимаю.
Извините, если кого обидел.
21 сентября 2011
(обратно)
История про охотничье счастье
 Мужчина и женщина, американцы вышли на него через посредника. Сперва у Сталкера было впечатление, что всё это психологические штучки. Совет психолога для сбережения брака, или ещё что-то.
Он не вдавался в подробности — не его это дело.
Мужчина сказал, что ему нужно убить кровососа. Убить и всё, именно кровососа и только его. Американец был очень высокого роста, очень хорошо сложен, если рост баскетболиста не считать недостатком. У него были тёмные волосы, аккуратно подстриженные как у офицера. Сталкер отметил, что клиент кажется очень молодым — вряд ли ему больше тридцати пяти. Сама по себе охота на кровососа была не наказуемой.
Обычно богачи оформляли себя как независимых исследователей-зоологов — за деньги можно было сделать всё. Наказуемым актом был вывоз за пределы Периметра живого материала, или живого, ставшего мёртвым.
Эрик тогда стоял в сторонке, а учёные пили горилку за другим столом. На одном столе лежал разрезанный труп, а люди в белых халатах резали сало и хлестали водку за другим, стоявшим рядом. Это Эрик одобрял — цинизм спасает разум.
Учёные при этом спорили, как кровососы размножаются — и характерен ли для них гермафродитизм или нет. Причём и те, и другие спорщики время от времени тыкали пальцем в труп, лежавший у них за спиной. Видимо, он подтверждал одновременно разные их версии.
Как хороший сталкер-проводник, Эрик знал повадки всякой твари, охотно рассказывал о них туристам, но понимал, что всё в Зоне условно.
К примеру, кровосос очень любил комнатную (или близкую к комнатной), температуру — потому что его тело собственной постоянной температуры не имело и подстраивалось под окружающую среду. Но однажды он увидел кровососа, спокойно прогуливающегося по снегу и явно не очень страдавшего от холода.
Сталкер собрал группу из трёх человек и через некоторое время они были готовы отправиться в путь.
Но вдруг всё осложнилось.
Американка пришла к Сталкеру в номер, когда они остановились в гостинице при баре «Пилав». Гостиница пустовала, но условия там были очень хорошие.
Причина сложностей была в том, что американец ужасно трусил, он начал трусить уже на подходе, задолго даже до того, как они встретились. Жена им была чрезвычайно недовольна, ей было стыдно перед людьми, стыдно перед собой, перед прожитой с мужем-трусом жизнью. И, видимо, чтобы отомстить, пришла в номер к Сталкеру — всё равно её муж оплачивал обе комнаты.
Она пришла и отомстила.
Сталкер Эрик Калыньш отнёсся к этому равнодушно, он и не такое видел.
А теперь она думала, что между ними возникало какое-то напряжение. Плохо было то, что Американец это заметил, и ему было не всё равно. Но Эрику было это интересно только с той точки зрения, не начнётся ли у них взаимная истерика. Истерика может помешать, а дуться они могут сколько угодно.
Американец, который заснул ненадолго, после того как перестал думать о кровососах, проснулся и понял, что жена ушла. Он пролежал без сна два часа, а потом жена скрипнула дверью и долго принимала душ. Он спросил её, где она была, хотя сам уже догадался. Жена ответила, что выходила покурить. «Ну и подышать воздухом», добавила она.
— Шлюха! Шлюха! Шлюха! — и голос его сорвался.
— А ты — трус. Вот так-то.
Это был мощный аргумент, жена попала в самое яблочко, так что они начали ругаться. У них давно было всё плохо, и насчёт семейного психиатра Эрик был прав. Они ругались, и Американка говорила, что хочет спать, а потом Американец говорил, что хочет спать и завтра тяжёлый день, но они не могли остановиться, и обменивались репликами ещё час.
А Эрик Калыньш по прозвищу Сталкер спал спокойно, вовсе не думая о женщине, что была у него. Если будешь думать о таких мелочах, то на работу останется мало времени. Он думал о кровососе, который сейчас тоже не спит в своём убежище, а может, и спит, чтобы утром выйти и искать себе подругу — если не врут те из учёных, кто считает, что им нужны подруги. Кровосос, до которого он хотел добраться, сидел в развалинах, а днём должен выйти на большой луг перед ними. Лучше всего, конечно, было выманить кровососа на открытое пространство, где Американец, вероятно, смог бы пострелять их с меньшим риском.
Ему не хотелось охотиться с Американцем ни на кровососов, ни на какого другого монстра, но он был профессионал, и контракт, пусть и устный, был для него законом. Если они завтра найдут кровососа, то сделают своё дело быстро, и даст Бог, всё обойдётся. А вот если они будут искать кровососа долго, то может произойти невесть что. Этот трусливый бедняга закончит свою опасную забаву, и, может быть, все обойдется. С этой женщиной он больше не будет связываться, а вчерашнее Американец тоже переварит. Ему, надо полагать, не впервой. Бедняга. Он, наверно, уже научился переваривать такие вещи. Сам виноват.
Плохо только одно — она переспала с ним до основного дела, а не после. После — это часто бывало, когда туристы возвращались обратно, но их ещё трепал адреналиновый шторм. Они тут же напивались, и мужчины часто напивались сильнее своих женщин.
Эрик знал свою клиентуру — веселящаяся светские львы и львицы, спортсмены-любители из всех стран, их женщины, которым кажется, что им недодали чего-то за их деньги, если они не переспят на этой койке со сталкером. Он презирал их, когда они были далеко, но пока он был с ними, многие из них ему очень нравились. И этих своих клиентов, как ему казалось, он вычислил. Это такой очень стабильный союз, который он не раз видел. Союз, в котором мужчина и женщина похожи на зомби и наперегонки выедают мозг друг другу. Красота жены была залогом того, что муж никогда с ней не разведется; а богатство мужа было залогом того, что жена никогда его не бросит.
Так или иначе, они давали ему кусок хлеба, и пока он был нанят, их мерки были его мерками.
И он перестал думать об этой супружеской паре и принялся думать о гипножабе. Он всегда думал перед сном о гипножабе, то есть о Чернобыльском Земноводном Контролёре, потому что поймать Земноводного Контролёра — было главной мечтой его жизни.
Мужчина и женщина, американцы вышли на него через посредника. Сперва у Сталкера было впечатление, что всё это психологические штучки. Совет психолога для сбережения брака, или ещё что-то.
Он не вдавался в подробности — не его это дело.
Мужчина сказал, что ему нужно убить кровососа. Убить и всё, именно кровососа и только его. Американец был очень высокого роста, очень хорошо сложен, если рост баскетболиста не считать недостатком. У него были тёмные волосы, аккуратно подстриженные как у офицера. Сталкер отметил, что клиент кажется очень молодым — вряд ли ему больше тридцати пяти. Сама по себе охота на кровососа была не наказуемой.
Обычно богачи оформляли себя как независимых исследователей-зоологов — за деньги можно было сделать всё. Наказуемым актом был вывоз за пределы Периметра живого материала, или живого, ставшего мёртвым.
Эрик тогда стоял в сторонке, а учёные пили горилку за другим столом. На одном столе лежал разрезанный труп, а люди в белых халатах резали сало и хлестали водку за другим, стоявшим рядом. Это Эрик одобрял — цинизм спасает разум.
Учёные при этом спорили, как кровососы размножаются — и характерен ли для них гермафродитизм или нет. Причём и те, и другие спорщики время от времени тыкали пальцем в труп, лежавший у них за спиной. Видимо, он подтверждал одновременно разные их версии.
Как хороший сталкер-проводник, Эрик знал повадки всякой твари, охотно рассказывал о них туристам, но понимал, что всё в Зоне условно.
К примеру, кровосос очень любил комнатную (или близкую к комнатной), температуру — потому что его тело собственной постоянной температуры не имело и подстраивалось под окружающую среду. Но однажды он увидел кровососа, спокойно прогуливающегося по снегу и явно не очень страдавшего от холода.
Сталкер собрал группу из трёх человек и через некоторое время они были готовы отправиться в путь.
Но вдруг всё осложнилось.
Американка пришла к Сталкеру в номер, когда они остановились в гостинице при баре «Пилав». Гостиница пустовала, но условия там были очень хорошие.
Причина сложностей была в том, что американец ужасно трусил, он начал трусить уже на подходе, задолго даже до того, как они встретились. Жена им была чрезвычайно недовольна, ей было стыдно перед людьми, стыдно перед собой, перед прожитой с мужем-трусом жизнью. И, видимо, чтобы отомстить, пришла в номер к Сталкеру — всё равно её муж оплачивал обе комнаты.
Она пришла и отомстила.
Сталкер Эрик Калыньш отнёсся к этому равнодушно, он и не такое видел.
А теперь она думала, что между ними возникало какое-то напряжение. Плохо было то, что Американец это заметил, и ему было не всё равно. Но Эрику было это интересно только с той точки зрения, не начнётся ли у них взаимная истерика. Истерика может помешать, а дуться они могут сколько угодно.
Американец, который заснул ненадолго, после того как перестал думать о кровососах, проснулся и понял, что жена ушла. Он пролежал без сна два часа, а потом жена скрипнула дверью и долго принимала душ. Он спросил её, где она была, хотя сам уже догадался. Жена ответила, что выходила покурить. «Ну и подышать воздухом», добавила она.
— Шлюха! Шлюха! Шлюха! — и голос его сорвался.
— А ты — трус. Вот так-то.
Это был мощный аргумент, жена попала в самое яблочко, так что они начали ругаться. У них давно было всё плохо, и насчёт семейного психиатра Эрик был прав. Они ругались, и Американка говорила, что хочет спать, а потом Американец говорил, что хочет спать и завтра тяжёлый день, но они не могли остановиться, и обменивались репликами ещё час.
А Эрик Калыньш по прозвищу Сталкер спал спокойно, вовсе не думая о женщине, что была у него. Если будешь думать о таких мелочах, то на работу останется мало времени. Он думал о кровососе, который сейчас тоже не спит в своём убежище, а может, и спит, чтобы утром выйти и искать себе подругу — если не врут те из учёных, кто считает, что им нужны подруги. Кровосос, до которого он хотел добраться, сидел в развалинах, а днём должен выйти на большой луг перед ними. Лучше всего, конечно, было выманить кровососа на открытое пространство, где Американец, вероятно, смог бы пострелять их с меньшим риском.
Ему не хотелось охотиться с Американцем ни на кровососов, ни на какого другого монстра, но он был профессионал, и контракт, пусть и устный, был для него законом. Если они завтра найдут кровососа, то сделают своё дело быстро, и даст Бог, всё обойдётся. А вот если они будут искать кровососа долго, то может произойти невесть что. Этот трусливый бедняга закончит свою опасную забаву, и, может быть, все обойдется. С этой женщиной он больше не будет связываться, а вчерашнее Американец тоже переварит. Ему, надо полагать, не впервой. Бедняга. Он, наверно, уже научился переваривать такие вещи. Сам виноват.
Плохо только одно — она переспала с ним до основного дела, а не после. После — это часто бывало, когда туристы возвращались обратно, но их ещё трепал адреналиновый шторм. Они тут же напивались, и мужчины часто напивались сильнее своих женщин.
Эрик знал свою клиентуру — веселящаяся светские львы и львицы, спортсмены-любители из всех стран, их женщины, которым кажется, что им недодали чего-то за их деньги, если они не переспят на этой койке со сталкером. Он презирал их, когда они были далеко, но пока он был с ними, многие из них ему очень нравились. И этих своих клиентов, как ему казалось, он вычислил. Это такой очень стабильный союз, который он не раз видел. Союз, в котором мужчина и женщина похожи на зомби и наперегонки выедают мозг друг другу. Красота жены была залогом того, что муж никогда с ней не разведется; а богатство мужа было залогом того, что жена никогда его не бросит.
Так или иначе, они давали ему кусок хлеба, и пока он был нанят, их мерки были его мерками.
И он перестал думать об этой супружеской паре и принялся думать о гипножабе. Он всегда думал перед сном о гипножабе, то есть о Чернобыльском Земноводном Контролёре, потому что поймать Земноводного Контролёра — было главной мечтой его жизни.
<…>
И тут они увидели Кровососа.
Тот, как и думал Эрик, выполз в тумане из развалин и вынюхивал что-то.
Кровосос почуял кого-то, вовсе не обязательно людей — просто почуял какое-то изменение в ландшафте. Он выпрямился, и щупальца его затрепетали. Он пытался определить местонахождение еды.
Сейчас главное понять, как он будет атаковать — в скрытом режиме, или, зарычав, пойдёт вперёд.
Но кровосос вдруг пропал.
Эрик теперь лихорадочно соображал, забрался ли он обратно, или перешёл в состояние невидимости.
Американец тронул его за плечо:
— Я бы пошел, но, мне, понимаете, просто страшно.
— Я пойду вперед, — сказал Сталкер, — а ребята поищут его тепловизором. Вы держитесь за мной, немного сбоку. Очень возможно, что он вдруг возникнет перед нами, и мы увидим его и услышим. Как только увидим его, будем оба стрелять — разом. Как «Катюша». Знаете, что такое «Катюша»?
Американец кивнул.
— Вы не волнуйтесь. Я не отойду от вас. А может, вам в самом деле лучше не ходить? Право же, лучше.
— Нет, я пойду.
— Как знаете, — сказал Сталкер. — Но если не хочется, не ходите.
— Я пойду, — сказал Американец. И они пошли вперёд, стараясь не разрывать строй.
Американец шёл потный, и Эрик видел, что у Американца не хватает духу попросить его отпустить. Теперь он внутренне был готов сдаться и умолять, чтобы тот пошел и покончил с кровососом без него. Он не мог знать, что Сталкер в ярости потому, что не заметил раньше, в каком он состоянии, и не отослал его назад, к жене.
— Мне бы глотнуть воды, — сказал Американец. Эрик сказал что-то своему приятелю, и увидел, что и того трясёт.
В тридцати метрах от них кровосос присел в ямку среди уже высокой летней травы и готовился к прыжку. Он сидел неподвижно, подрагивали только его ротовые щупальца. Он был стар и теперь не мог становиться прозрачным, вернее, это отнимало очень много сил. Но старость имела оборотную сторону в виде мудрости и сообразительности. Поэтому кровосос залег сразу после того, как почуял запах свежего мяса. Но недавно его ранили — случайно, просто так, наобум пущенной пулей за два километра. Пуля попала в набитое брюхо и он ослабел. С возрастом процессы регенерации шли медленнее, и уже заросшая было рана несколько раз открывалась. Её облепили мухи, и глаза кровососа от боли стали почти человеческими. Они были сужены и полны ненависти к этому огрызающемуся металлом мясу, подбирающемуся к нему.
Всё в нем — боль, тошнота, ненависть и остатки сил — напряглось до последней степени для прыжка. Теперь он слышал голоса людей и ждал, собрав всего себя в одно желание — напасть, как только люди войдут в высокую траву. Когда кровосос почувствовал, что голоса приближаются, он хрипло зарычал и кинулся.
Эрик Калыньш выстрелил первым, и попал — но не туда, куда хотел, а в живот. Затем он попал ещё раз, и тут его поддержали автоматным огнём ребята.
Наконец, заговорили и винтовка в руках Американца.
Тот, когда кровосос вылез из своего укрытия, впал в ступор и вообще не думал ни о чём. Он знал только, что руки у него дрожат, и, встав с винтовкой, едва мог заставить себя поднять ствол. Руки словно онемели, хоть он чувствовал, как подрагивают мускулы. Он вскинул ружье, прицелился кровососу в шею и спустил курок. Выстрела не последовало, хотя он так нажимал на спуск, что чуть не сломал себе палец. Тогда он вспомнил, что поставил на предохранитель, и, опустил ружье, чтобы перекинуть флажок.
При этом, он сделал неуверенный шаг назад. Кровосос, оценив расстояние, в свою очередь, сделал шаг к нему.
Наконец, Американец выстрелил и, услышав характерное чмоканье, с которым крупнокалиберная пуля попадает в живую плоть, понял, что не промахнулся; но кровосос шёл все дальше.
Американец выстрелил еще раз, и все увидели, как пуля взметнула фонтанчик пыли, земли и травы прямо под ногами кровососа.
Но кровосос шёл вперёд, и шёл он прямо на американца, пока, наконец, тот не выстрелил в третий раз.
Он выстрелил еще раз, помня, что нужно целиться в голову или шею, и даже через грохот автоматных очередей все услышали, как чмокнула пуля, пробив позвоночник. И тогда кровосос, у которого к этому моменту другими попаданиями снесло полголовы, завалился на бок.
Американец стоял неподвижно, его тошнило, руки, все не опускавшие ружья, тряслись.
— Я попал в него, — сказал Американец. — Два раза попал. Попал. Я точно в него попал.
— Вы пробили ему позвоночник в районе пятого позвонка и, кажется, попали в грудь, — сказал Сталкер без всякого воодушевления. — Я думаю, что вы его и убили.
Эрик решил, что он минуту был уже мёртв — такая плотность огня была сконцентрирована на монстре, но не стал отнимать у Американца победу. Ведь, в конце концов, это были деньги клиента. И им, клиентом был оплачен каждый автоматный патрон, каждый глоток воды из фляжки, который делал Эрик или его ребята.
Кровосос издох. Щупальца несколько раз открылись, раскрылись и опали. Из развороченной груди на траву неохотно подтекала чёрная жидкость.
Эрик повернулся к Американцу и, посмотрев на него, сказал:
— Снимки делать будете?
«И всё же нам повезло, — думал Эрик, — Я не был до конца уверен, что получится». Он был готов, что потеряет всех охотников, а уж то, что даже опытные сталкеры становились добычей кровососа, всем было известно. Но американец убил кровососа. Почти сам — его, конечно, страховали, а потом ударили со всех стволов, чтобы уж кончить тварь наверняка. И всё-таки он не испугался, вернее, победил свой страх. Он лучше многих, а этих многих Эрик уже повидал».
Они уже миновали пространство между холмами, и Сталкер стал думать, что напрасно пугал американца, который сиял как блин.
Они остановились, чтобы хлебнуть воды, а американец снова приложился к фляжке.
И тут на них выскочили два снорка. Видимо, они вынюхали след кого-то другого, но в какой-то момент он пересёкся со следом группы Эрика.
Снорки выскочили из-за кустов как гончие и стали стремительно приближаться. Хоботки на их мордах стремительно мотались, что стороннему наблюдателю могло показаться смешным. Но Эрик не был ни новичком, ни сторонним наблюдателем.
Он открыл огонь с дальней дистанции.
Его помощники не отставали, но первым счёт открыл именно Эрик. Первого снорка Сталкер снял очередью, почти не целясь. Второго застрелил его друг Абдулла.
А вот третьего они как-то упустили.
Стрелял по нему американец, а его жена была слишком далеко и просто громкокричала.
Американец взял прицел повыше и снова шарахнул по снорку из автомата экономной очередью в три патрона. Снорки подпрыгивали, как бы отжимаясь от земли всеми четырьмя конечностями. Они пришли сюда по запаху, догадался Сталкер. Нет ничего более сильного, чем запах секса, и вот они пришли по этому запаху, и теперь, из-за этого приключения, счёт идёт на секунды.
Он вскинул ствол и выстрелил в третьего снорка. Американец стоял на месте и стрелял в грудь, каждый раз попадая чуть-чуть ниже, чем нужно, его жена выстрелила издали, когда снорк прыгнул на её мужа. Она попала своему мужу в череп, сантиметров на пять выше основания, немного сбоку.
Теперь Американец лежал ничком всего в метре от того места, где валялся дохлый снорк. Сталкер опустился на колени, и осмотрел коротко остриженную голову американца. Кровь впитывалась в сухую, рыхлую землю. Потом он встал и увидел лежащего на боку снорка: ноги его были вытянуты, а по животу, в рваных дырах истлевшего обмундирования ползали вши. «А хобот хорош, черт его дери, — автоматически отметил его мозг. — Маска противогаза просто вросла в кожу. Я, правда, не буду отдирать, чтобы посмотреть, что там. Потом Сталкер свистнул товарищу, чтобы тот обшарил карманы убитого американца, а потом пошёл к женщине, что плакала в стороне.
— Конечно, это несчастный случай, — сказал Сталкер. — Я-то знаю.
— Перестаньте, — сказала она.
— Будет много возни, — сказал он. — Это хорошо, что вы так придумали. Обычно комиссары ООН не выезжают на труп, если он находится внутри Периметра. Можно было убить его как-нибудь иначе. Мы не сумеем составить акт, мы сталкеры, и нам вовсе не хочется под суд. Хотя мы что-нибудь придумаем, если в Америке подойдёт невизированный администрацией Периметра документ.
— Перестаньте! Перестаньте! Перестаньте! — крикнула женщина.
Сталкер посмотрел на неё своими равнодушными глазами остзейской голубизны.
— Больше не буду, — сказал он. — Я немножко рассердился. Ваш муж только-только начинал мне нравиться.
— О, пожалуйста, перестаньте, — заплакала она. — Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, перестаньте.
— Ладно, — сказал Сталкер. — Пожалуйста — это много лучше. Теперь я перестану.
И группа пошла дальше.
Американец остался лежать чуть в стороне от тропы, и смотрел в низкое пасмурное небо Зоны открытыми глазами.
Лицо у него оставалось абсолютно счастливым.
Извините, если кого обидел.
22 сентября 2011
(обратно)
История про Зоологический музей
 …Группу разогнали, заместитель Маракина Трухин попал в больницу, а потом и вовсе уволился — по собственному желанию», конечно. Потом он сгинул где-то в одном из трёх научных городков на Периметре Зоны. А так-то ему насчитали за нецелевое расходование средств тыщ триста ущерба для страны. А это лет пятнадцать отсидки.
…Группу разогнали, заместитель Маракина Трухин попал в больницу, а потом и вовсе уволился — по собственному желанию», конечно. Потом он сгинул где-то в одном из трёх научных городков на Периметре Зоны. А так-то ему насчитали за нецелевое расходование средств тыщ триста ущерба для страны. А это лет пятнадцать отсидки.
Но я помнил их иными — гордыми и сильными. Сейчас отчего-то я вспомнил, как он стоял перед своим огромным письменным столом и разглядывал на мониторе огромные фотографии.
Ему только что прислали эти фотографии с Зоны, где его ученики ковырялись в гнилой плоти, быстро регенерирующей плоти зомби, в плоти животных, превратившихся в уродов.
Но Маракина тогда интересовали только мозги — как и зомби, впрочем.
Там было много всего, и в университетском музее на Моховой, а тогда ещё проспекте Маркса было несколько экспонатов с пояснительными табличками: «Кровосос… Добыт экспедицией М. И. Трухина, препарирован доктором А. В. Маракиным». Были там и препарированные бюреры и контролёры (контролёром Маракин очень гордился, потому что мозг контролёра подтвердил самые смелые его предположения).
Однако на части табличек студенты-остроумцы то и дело приписывали к названиям прилагательное «sapiens». Служители музея не дремали, и с табличек эти слова быстро исчезали, потому что на стороне смотрителей была современная бытовая химия. Мгновение — и не останется ни одного штриха…
Я видел, как приезжал Трухин из первых экспедиций — как герой, на монстров его дивились, в перестроечном журнале «Огонёк» его печатали на фоне чучела кровососа.
Очень красивые, помню, были фотографии.
Тогда ещё у него была кличка «Бэкингем», потому что он говорил со странным акцентом, будто набрал в рот камешков, как недоучившийся Демосфен. Он говорил точь-в-точь, как Бэкингем из фильма про трёх мушкетёров, картавя и не произнося половину букв.
Он был друг Маракина, только чуть моложе — но Маракин пережил его на несколько лет.
А тогда я запомнил необычный разговор.
Бэкингем привёз очередную партию уродцев — тогда это было ещё возможно, только потом, по Второму межгосударственному соглашению биоматериал исследовался только на месте, так вот тогда он привёз партию уродов, и их спешно изучали.
Но Бэкингем выглядел недовольным.
И вот я застал их в кабинете Маракина за бутылкой. Они хорошо тогда нагрузились, и, кажется, Маракин принимал меня за аспиранта Трухина, а Трухин — за аспиранта Маракина. Так я и просидел за шкафом, подслушивая их разговор.
Трухин горячился.
— Они живые, живые, — кричал он. Имелись в виду, как я сразу понял, существа Зоны.
Маракину было наплевать, живые или мёртвые. Он бы и родную мать препарировал, если бы это продвинуло вперёд работы по их нейронному ускорителю.
А Трухин орал и орал. Из-за дефекта дикции, из-за этого его «английского» произношения слушать его было смешно, но потом мне стало не до смеха. Выходило, что один кровосос вместе с более молодой особью, то есть, детёнышем, встретился ему у самого Саркофага. Однако кровосос не напал на Трухина, а спас ему жизнь, вернее, не стал бросаться на него. Кровосос вытолкнул Бэкингема в последний момент с гравиконцентрата, над краем которого Трухин занёс было ногу.
Можно было предположить, что кровосос хотел его оставить на ужин, а после гравитационного концентрата, то есть, после «комариной плеши», от него мало что бы осталось.
Но Бэкингем утверждал, что кровосос отпустил его и удалялся, и тут нервы у Бэкингема не выдержали, и он засадил в своего спасителя достаточно много разрывных пуль — прямо в спину. Он, как хороший анатом, знал, куда стрелять, и оттого завалил монстра сразу. Такое вообще-то невозможно, но Бэкингему я верил.
Что, собственно, не верить, когда голову этого кровососа с расправленными щупальцами вместо рта сейчас, уже выпотрошив, заливали в прозрачный пластик? Я-то верил.
Бэкингем, кажется, тронулся в этот момент.
— Ты понимаешь, мы не знаем, что они хотят. Мы о них вообще ничего не знаем. Они часть Зоны. Её организм, неотъемлемый орган, они живут в симбиозе с Зоной, и если бы мы туда не лезли со своим оружием, может быть, никакого ужаса бы не было. А вдруг я послужил спусковым крючком — вот маленький-то убежал, и в его мозгу начался виток импринтинга, и этот образ будет повторяться раз за разом в следующих поколениях, а? Как знать, а?
Но вдруг они успокоились, и Маракин деловито спросил:
— Чем порадуешь на этот раз? ведь с Яйлы?..
— Прямо с болота, что на юге, — ответил Бэкингем и окутался облаками английского табака как дымовой завесой. — Но ничего интересного.
Я, слушая их, понимал, что да — «ничего интересного», это по сравнению с тем самым трупом кровососа, что прославил Трухина-Бэкингема.
— Нет, Андрюш. Одни пустяки. Чернобыльский волк, ещё один. Тушканчики. Несколько крыс, они разные там все. Зайца какого-то встретил чудного, но не поймал. Ещё десяток двухордовых змей, несколько новых видов многостворчатых моллюсков…
Они вышли из кабинета, и пошли по музею — два старика, как мне тогда казалось. Сейчас-то понятно, что тогда они были немногим старше меня нынешнего.
Залы были пусты, и они быстро прошли мимо чернобыльского стенда, под стеклом которого были и волки, и пауки, и тушканчики, и крысы… Зайцев там, правда, не было, но было много разного другого.
Например, там было чучело бегемотожабы, ментального контролёра из тех самых южных болот, откуда только что вернулся Бэкингем. (углеродный цикл, тип «полихордовые», класс «кожедышащие», отряд, род, вид «Гипножаба»).
Это чучело было одним из первых экспонатов нашего музея. Все любили с ним фотографироваться — это сейчас был день, свободный от посещений, а так-то школьники и иностранцы фотографировались так, что от вспышек их техники рядом с гипножабой стоял мерцающий белый свет.
— Да, были у стариков дела… — подумал я. — Такое, поди, не забудешь.
Тогда на жаб охотились все — спецбатальоны ООН, охранявшие Периметр, войска Украины и России, вольные сталкеры и просто загадочные бандиты, которым гипножабы мешали рекетировать вольных сталкеров.
Эти чудовища, почти полностью истребленные, неожиданно размножились вновь — причём в каждом болоте. Поговаривали, что это последствия каких-то экспериментов, но так всегда говорят. Началась знаменитая глобальная облава. Скептики замечали, что нужно подождать, но ждать, разумеется, никто не хотел.
Я видел документальные фильмы о той облаве, когда в Зону по разведанным тропам двинулись джипы и бронетранспортёры с солдатами и грузовики со сталкерами. Под это дело объединились даже заклятые враги.
Вот они подъезжали к границе болот в своих касках, облепленных отражающей фольгой, и все начинали стрелять. А на переднем плане хроники, какой-то молоденький солдатик, всё возился со своим небольшим миномётом, и никак не мог привести его в действие. Командир его беззвучно открывал рот, но хроника не доносила до меня его слов. Да что там, понятно было, что он говорит, ужас сплошной, матерился командир, но всё равно все стреляли. И вот полетели мины, и край болота заволокло густым белым дымом — это загорелся торф. Кажется, торф там до сих пор горит.
Бронетранспортёры останавливались, из них лезли люди — одни в голубых касках, другие в зелёных, а третьи в касках, обмотанных серебристой фольгой. Они тоже беззвучно орали и размахивали автоматами. Они беззвучно орали, и я понимал, что они кричат всё те же матерные слова, но только теперь радостно и победно.
Никакой победы не было, хотя фильмов было снято много, и даже два художественных — в Америке. Один — полная дрянь категории «С», а другой, очень известный, «Периметр». У нас его крутили в видеосалонах.
Но жабы никуда не делись и нападали на зазевавшихся ещё целый месяц. А потом резко похолодало (в тот год вообще была ранняя, очень холодная осень), и жабы пропали. Часть из них замёрзла, и их чёрные трупы, покрытые утренним инеем, казались трупами убитых немецких солдат.
Другая часть вернулась в болота, по-прежнему вонявшие горелым торфом. Тут-то скептики и сказали ещё раз, что нужно было подождать, и просто на время свернуть активность в Зоне.
Но кто же слушает скептиков? Скептиков никто не слушает, тем более что в ходе большой зачистки было много потерь, а признать, что жертвы были напрасны, никто никогда не хочет. Никто и никогда.
А вот Маракину было всё на пользу. Я смотрел на них — вернее, на их спины. Прямую спину Маракина и сгорбленную — Бэкингема.
Бэкингем несколько протрезвел и притворялся, что все отлично, как сегодняшний отличный солнечный день. Солнце и вправду било через высокие окна и стёкла витрин рассыпали блики по залам.
Маракин хлопнул Бэкингема ладонью по спине и нарочито бодрым голосом воскликнул:
— Ну, всё! Я зверски хочу есть, Ваня, и мы пойдем сейчас ко мне и славно пообедаем. Сегодня дочка приготовила в твою честь настоящий борщ. Пойдем, герцог, зуппе ждет нас.
— Пойдем, — тихо ответил Бэкингем.
Извините, если кого обидел.
24 сентября 2011
(обратно)
История фенологического типа
Город жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники — новое и непонятное лезло изо всех щелей.
Впереди темные, трудные времена, и вскоре нам всем придется выбирать между тем, что правильно и тем, что легко.
Да, скоро поднимется такой восточный ветер, какой никогда еще не дул на нас. Холодный, колючий ветер, и, может, многие из нас погибнут от его ледяного дыхания. Но все же он будет ниспослан Богом, и когда буря утихнет, страна под солнечным небом станет чище, лучше, сильнее.
Снилось ли ему детство? Прилетали ли к нему в берлогу нежные, зовущие, мудрые запахи леса? Кто знает! Он не проснулся ни на другой день, ни на третий… Снег все сыпал, и с каждым днем пушистей становились кусты, непролазней тропы, белее сосны и ели, и только березы оставались голые, и на них подолгу засиживались вечерами тетерева. Ударили лютые морозы, и пошла гулять по лесам настоящая русская зима! А сон становился все глубже, дыхание было все реже, пар уже не клубился над ямой, и скоро заваленную снегом берлогу можно было угадать только случайно, по небольшой отдушине-жерлу и желтоватому инею на сучьях.
Небо было почти черным, а снег при свете луны — ярко-голубым. Под ледяным покровом неподвижно спало море, а глубоко в земле среди древесных корней всем мелким зверюшкам и насекомым снилась весна. Но до весны было еще очень далеко — новый год только-только вступил в свои права.
Извините, если кого обидел.
24 сентября 2011
(обратно)
История про контекстную замену
Интеллигенты обрадовали меня своей добротой и наивностью. Как потом выяснилось, я им тоже показался наивным. Поэтому мы легко и быстро сошлись характерами. Всем нравятся наивные люди.
Наивные люди дают нам возможность перенести оборонительные сооружения, направленные против них, на более опасные участки. За это мы испытываем к ним фортификационную благодарность.
Кроме того, я заметил, что интеллигенты даже в будни едят гораздо больше наших, со свойственной им наивностью оправдывая эту особенность тем, что наши по сравнению с интеллигентами едят гораздо больше зелени. Единственная особенность интеллигентов, которая до сих пор осталась мной не разгаданной, — это их постоянный, таинственный интерес к Путину. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет телевизор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают.
— Тише! — встряхивается вдруг кто-нибудь и поворачивает голову к телевизору. — Про Путина передают.
Все, затаив дыхание, слушают передачу, чтобы на следующий день уличить её в неточности. В первое время, услышав это тревожное: «Тише!», я вздрагивал, думая, что начинается война или ещё что-нибудь не менее катастрофическое. Потом я думал, что все ждут какой-то особенной, неслыханного по новизне события. Потом я заметил, что никакого неслыханного по своей необычности события как будто бы тоже не ждут. Так в чем же дело?
Можно подумать, что миллионы интеллигентов с утра напряжённо работают, и именно их личная работа, её успех и неудачи зависят от Путина. Нельзя же сказать, что такой испепеляющий, изнурительный в своем постоянстве интерес к Путину объясняется тем, что человеку нужно заняться психотерапевтическим выговариванием или хочет как-то объяснить свои жизненные неудачи. Согласитесь, это было бы довольно странно и даже недостойно жителей великого города. Тут есть какая-то тайна.
Именно с целью изучения глубинной причины интереса интеллигентов к Путину я несколько лет назад сам попробовал стать интеллигентом. Ведь мое истинное призвание — это открывать и изобретать. Чтобы не вызывать у интеллигентов никакого подозрения, чтобы давать им в своем присутствии свободно проявлять свой таинственный интерес к Путину, я и сам делаю вид, что интересуюсь Путиным.
— Ну как, — говорю я, — что там передают насчет третьего срока? Теплеет? Горячо, стесняюсь спросить?
— Нет, — радостно отвечают интеллигенты, — ветер северный, зла немеряно. Нас ждёт ледяная зима и вечный холод. Последний вагон на Север нас ждёт.
— Ну, если немеряно, — говорю, — то понятно.
И продолжаю наблюдать, ибо всякое открытие требует терпения и наблюдательности. Но, чтобы открывать и изобретать, надо зарабатывать на жизнь, и я пишу.
Извините, если кого обидел.
25 сентября 2011
(обратно)
История про лошадей
Добрый мой товарищ Леонид Александрович совратил меня с пути истинного — и, вместо того, чтобы заниматься делом, или хотя бы дремать, рассуждая о судьбах России, я принялся отвечать на тест, который он подпёр на каком-то инновационном форуме.
Суть заключалась в следующем: нужно было назвать десять собак русской литературы — но не просто так, а по именам, указывая произведения и авторов. Это задача несложная, но за ней следовал урок назвать десять кошек(котов) русской литературы — с этим сложнее. Отчего-то моя родина привечает кошек менее, и по именам зовёт вовсе немногих.
С этими вопросами всегда так — пять-шесть имён ты называешь сходу, а потом тормозишь.
Поклонники Леонида Александровича и вовсе доскребали котов и собак по сусекам какого-то унылого трэша.
Ну и третий урок был в том, чтобы назвать по именам десять лошадей русской литературы — с этим, как я понимаю, у многих была засада.
Но тут мне, Василий Иванович, командир наш незабвенный, вышла фора — ибо любил я Бабеля, и учился у Бабеля многому, а так же знал книгу Бабеля "Конармия" достаточным образом.
А как напишешь эти тридцать имён, так обедать позовут, и полдня прошло.
Прокрастинация.
Извините, если кого обидел.
26 сентября 2011
(обратно)
История про разговоры
Я сообщаю, что яблок припас.
Для вас, замечаю, только для вас.
Мне говорят: "Ты — яблочный Спас".
Нет, отвечаю, я — яблочный квас.
Ср.
Извините, если кого обидел.
26 сентября 2011
(обратно)
История про актёров и актрис, а так же воспитателей
Видел вчера актрису Равшану Куркову. С радостным удивлением обнаружил то, что она, кажется абсолютно вменяема и говорит правильные вещи. (Я-то человек, осторожный как крыса, и мироздание меня вменяемыми людьми не балует, тем более, актрисами).
Чтобы два раза не вставать, я ещё спрошу про роман Тынянова "Пушкин" — многие занимались анахронизмами в этом тексте. Вон, знаменитый филолог Лейбов много чего написал.
У меня в связи с этим вопрос: там, в романе Тынянова, есть, кажется, ещё одно место (кроме журнала Булгарина, перенесённого в 1811 год) — там лицеисты сперва изгоняют надзирателя Пилецкого, а потом начинается война. Однако Пилецкий был отставлен в 1813.
(Для тех нормальных людей, а не филологов — справка: Мартын Степанович Пилецкий-Урбанович, меж тем, был чрезвычайно интересной фигурой. Очень наблюдательный, образованный, умный, и благодаря его записям многие характеристики юного Пушкина кочуют из книги в книгу. После ухода из лицея Пилецкий служил следственным приставом в петербургской полиции, а в 1837 году был обвинён в мистицизме, «иллюминатстве», «радениях» и выслан из столицы. Проходил покаяние в монастыре, а потом вернулся в Петербург и умер в бедности. Говорят, приходил к Корфу с просьбой о воспомоществовании).
Так что, этот перенос во времени один я вижу?
Извините, если кого обидел.
28 сентября 2011
(обратно)
История про кино
…Да, если я уж посмотрел фильм "Вдребезги" и начал рассуждать об отечественном кинематографе, так я скажу ещё пару слов о кино, и совсем о другой ленте — "Два дня".
Надо было бы написать по этому поводу нормальную рецензию, но меня об этом никто не просил.
Дело в том, что "Два дня" — это очень интересный фильм, и он очень интересно сделан.
И чем-то, по тому как он сделан, эта лента напоминает фильм "Москва слезам не верит".
Кстати, в нём есть чудесная черта — это визуальная иллюстрация знаменитого пелевинского пассажа: "Какие бы слова не произносились на политической сцене, сам факт появления человека на этой сцене доказывает, что перед нами блядь и провокатор. Потому что если бы этот человек не был блядью и провокатором, его бы никто на политическую сцену не пропустил — там три кольца оцепления с пулеметами. Элементарно, Ватсон: если девушка сосет хуй в публичном доме, вооруженный дедуктивным методом разум делает вывод, что перед нами проститутка.
Я почувствовал обиду за свое поколение.
— Почему обязательно проститутка, — сказал я. — А может, это белошвейка. Которая только вчера приехала из деревни. И влюбилась в водопроводчика, ремонтирующего в публичном доме душ. А водопроводчик взял её с собой на работу, потому что ей временно негде жить. И там у них выдалась свободная минутка.
Самарцев поднял палец:
— Вот на этом невысказанном предположении и держится весь хрупкий механизм нашего молодого народовластия…".
Извините, если кого обидел.
28 сентября 2011
(обратно)
История о экспериментах
Вот послезавтра у меня начнётся очередной эксперимент — дело в том, что я переезжаю, медленно, но верно. И вот, поскольку договор с провайдером не переводится на другое место, а расторгается, и, предположительно, вновь заключается, то я свезу в котомке провайдеру модем с декодером.
Понятно, что мы все тут Internet addicted, и ты, дорогой читатель, точно так же как и я, профукал самую важную часть жизни в этом пространстве.
Но у меня-то в отличие от тебя нет Сети на службе (потому что и службы-то никакой нет). Вот и поглядим, каково жить без этого.
А так-то ещё два дня есть.
Можно надышаться, накачать из Сети писек и сисек, наоставлять туповатых комментариев, выложить пару романов, нарезанных по полторы страницы — или там что ещё.
А можно просто пялится в окно на осень.
Переезжать-то мне в любом случае не в один день и не в одну неделю. Это не тот случай, когда это когда за короткий срок нужно совершить что-то качественное. А я медленно, как жаба, буду ползти по краю болота. Хотя, конечно, да — везде могут случиться свои аисты.
В любом случае — интересно, каково там, без Сети будет (хотя тут есть некоторое лукавство — в мегаполисе, который пропитан wi-fi это эксперимент не чистый, во всяком телефоне почта). Но самое интересное — это перемена привычек: один мой знакомый говорил, что современная эмиграция — это именно перемена привычек.
То есть, раньше эмиграция была трагедией, путешествием с аэрофлотовским Хароном, то теперь ты обнаруживаешь, что у тебя появилась привычка завтракать в турецкой закусочной на углу Дюринерштрассе.
Извините, если кого обидел.
29 сентября 2011
(обратно)
История про Мордовию
Стоял я на холме и говорил о жизни вкупе со смертью.
Сорок дней назад здесь умер последний горшечник. Горшечный промысел возник тут из-за белой глины. Белая глина тут была рядом — этой белой глиной в норах-штольнях как-то завалило какого-то парня.
Были тут ещё крысы.
Нет, про крыс был какой-то отдельный разговор.
Были тут деревни русские, среди мокшанских деревень.
Дорог вовсе не было, а железная лежала в стороне.
Узкоколейка шла на Ковылкино — это я спросил наугад. «А куда узкоколейка-то шла»? — спросил я не зная, а только предчувствуя заброшенный путь. На Ковылкино она шла, а зачем — никто не знает.
Тут и умереть хорошо, подумал я.
Извините, если кого обидел.
30 сентября 2011
(обратно)
История про текущую литературную жизнь
Ну что, дали "Ясную поляну"-то соколикам нашим — Катишонок и главную (за дожитие) — Искандеру.
Извините, если кого обидел.
03 октября 2011
(обратно)
История про докудраму
Зачем-то посмотрел сейчас фильм о Лиле Брик — полное, беспримесное говно.
Особенно ужасны рисунки, которыми разнообразят этот жанр «документальной драмы» (Да, я знаю значение этого термина).
Карандашные фигуры иллюстрируют ссору Шкловского с Брик, причём Шкловский выходит толстым грузным человеком, волосатым, набриолиненным, с чёлкой похожей на гитлеровскую. Всё это комментирует банда идиотов, включая актрису Тихомирову.
Извините, если кого обидел.
03 октября 2011
(обратно)
История про одно вставание
Я посмотрел «Трёх мушкетёров» Пола Андерсона. Фильм годный, и что важно, с нестыдной озвучкой. Я всё боялся, что Андерсон пойдёт по гибельному пути расшучивания со штрафными квитанциями за неверную парковку лошади (почти такая сцена у него-таки есть), но в остальным годное, годное кино. «Обитель зла» со шпагами и в кринолинах вкупе с подвязками Милы Йовович.
Хотя понятно, что это всё традиционный постмодернизм — «Три мушкетёра» это вообще главный сюжет постмодернизма — там действие (которое успешные люди называют словом «экшен», там кровь, любовь и морковь. В общем, это очень продуктивный сюжет.
Массовая культура с этими мушкетёрами ведёт себя как мартышка с очками — то к носу их прижмёт, то их полижет.
Да что там, мне ли, написавшему книгу «Группа Тревиля», это говорить.
Но тут ещё есть другой вопрос — ни в одном классическом произведении так не убивают людей пачками.
Не знаю даже, с чем и сравнить.
Чтобы два раза не вставать, я ещё о Стиве Джобсе скажу. Меня давно занимает феномен выговаривания общества в момент смерти публичного человека. То есть, всякая тварь, имеющая голос, в момент чужой смерти бормочет что-то, а в момент собственной — кричит. Если хватает сил, конечно.
То есть, что-то нужно сказать, но непонятно что.
Это я видел задолго до Живого Журнала — когда умер Брежнев, у магазина на станции Манихино такие разговоры велись, что Боже мой. Но как царь умрёт — жди перемен, а в сравнительно спокойный период тоже хочется выговаривания, и вот. Джобс это как раз идеальный пример.
С одной стороны — не спрашивай, по ком звонит колокол, звонит он по тебе и всё такое.
Ужас, да.
С другой стороны с публичными фигурами много неясного. Большая часть народонаселения совершенно не знает других человеческих особей, их качеств и свойств.
Мужья не знают привычек своих жён, а родители не понимают жизни своих детей.
С Джобсом тоже непонятно — и слова «Ну, Джобс… Ну он — гений… Ну, он — айфон!» ясности не прибавляют. Вдруг Джобс — это не единственный творец айфона, вдруг мы вообще мало что знаем об этом приборе, и Джобсе как о руководителе.
Не оттого, что он плох, а оттого, что всё по-другому.
У меня, кстати, ворох знакомых начинал самодеятельные некрологи со слов «Я вообще-то продукцию «Apple» не люблю, но должен сказать…»
Джобс это символ гаджетов, а некрологи символ сопереживания.
История с покойником развивается по классическим лекалам. Сначала публика выбирает объект переживания, а затем приходят люди, доказывающее, что новопредставленный был нехорош и нечист на руку, потом вовсе становится непонятно, то ли он украл, то ли у его шубу украли.
Через неделю всё забывается.
Кстати, приезжали ко мне люди с телевидения — брать интервью. Приехали без света, тут же сломали у меня лампу, и сконфузились. А, сконфузившись, сломали другую. Спрашивали про блоги и литературу.
Извините, если кого обидел.
10 октября 2011
(обратно)
История про Среду и Сеть
Жить условиях блоговой абстиненции оказалось чрезвычайно интересно. Блоги — Бог с ними, но я обнаружил что в условиях отсутствия Сети не хватает другого: я постоянно проверяю догадки.
То есть — цитаты и обстоятельства. Тынянов был за границей два раза — и второй раз в 1936 году. Или в 1935 он туда поехал? Тут бы я проверил в Сети — ан нет, Сети нет.
Раньше вместо этого я позвонил бы коллегам (так все делали — в этом и заключена радость Среды).
Или задумаюсь я над метафорой, которую только что придумал, решил проверить — и зависли пальцы над клавиатурой. Нету Сети.
Мой любимый Шкловский в таком случае не заморачивался — все полезно, что в рот полезло. Не точна метафора, да и хрен бы с этим — зато красиво. В этом этом можно увидеть даже некоторый пуризм.
Потом обнаружил еще одно — практически некому позвонить ночью. Сеть была в смысле психологическим компенсатором.
Извините, если кого обидел.
14 октября 2011
(обратно)
История про Париж
Фильм Вуди Аллена о Париже очень хороший, но только очень жестокий. Горен тому романтику, что будет себя ассоциировать с героем. Это всё равно как влюбиться в Стрипиреллу или отождествлять себя с Петькой из анекдота.
Не откажу себе в удовольствии в том, чтобы процитировать свой старый пост почти десятилетней давности — понятно что Аллен хотел снять этот фильм еще лет сорок назад.
Извините, если кого обидел.
16 октября 2011
(обратно)
История о ТП
В качестве нравственного послушания слушал сейчас музыкальный канал «RU-TV». Обнаружил бурление жизни, не говоря уж о песне Трофима… то есть, Потапа и Насти «Люби меня, а не люби мне мозги», а так же прочих живчиков на фоне красивых ландшафтов (Я вообще заметил, что современные мне музыкальные каналы — мечта гражданки Мезальянсовой). И это вовсе не от того, что я сноб, а от того, что я мизантроп.
Все эти ваши рок-станции типа «Нашего радио» — говно то ещё, русский рок — оксюморон, от гламурного джаза тошнит, песни протеста — давно песни про тесто. Один шансон был честным стилем, но с появлением Ваенги и Стаса Михайлова вызывает желание сделать наколку «Иду резать ссученый актив».
Впрочем, я отвлёкся — о высоком.
Обнаружил дома Тульский Пряник (Я всегда из Ясной Поляны привожу тульские пряники). Ведь Тульский Пряник — не просто пряник, он круче кнута. Тульский Пряник, Тульский Самовар и Тульское Ружьё — вот чем Россия спасётся. С нами Бог и Андреевский флаг, как известно.
Тульский Пряник в годину войны больше, чем пряник. Я в школе читал повесть про одного бойца Красной Армии, что носил на груди, под гимнастёркой, Тульский Пряник — оттого фашисты его не могли убить. Все пули нахрен вязли в Тульском Прянике, и только когда они в последний день войны подобрались к нему со спины, когда он на берлинской улице кормил Тульским Пряником голодную девочку, они выстрелили в бойца Красной Армии из кривого пистолета. Но и тогда у них ничего не вышло — потому что солдат тут же стал бронзовым и превратился в памятник. Впрочем, и девочка тоже превратилась из живой в памятник — и поделом, что русскому — пряник, то немцу — смерть.
Тульский Пряник (ТП) — всё равно что Тульский Токарев (ТТ).
ТП — это вообще наше всё.
Я как нашёл сейчас вечером ТП, понял, что вечер перестал быть томным. С ТП всё выглядит иначе. Думаешь, что с жизнью тоже самое, что и с полимерами, думаешь — край, никто не любит тебя и пригожие девки попрятались в окошки отдельных квартир… Ан нет — оказывается, рядом ТП.
Остроумному человеку, такому как я, ТП просто спасение.
Кстати, чтобы два раза не вставать: а вот расскажите, кто как хранит мусор дома, прежде чем его выкинуть. В моём детстве, к примеру, на кухне стояло ведро, проложенное газетой. По мере наполнения оно опорожнялось в мусоропровод (у нас он был внутри квартиры, в прихожей). Потом я переехал и мусоропровод был на лестнице — тогда ведро (с одной плоской стороной) было приделано под раковиной.
Как только власть взяли капиталисты отпала необходимость мыть полиэтиленовые пакетики, и я начал выкидывать мусор прямо в них.
То есть, до недавнего времени под раковиной висело ведро с полиэтиленовым пакетом внутри. А что сейчас? Куда смотрит прогресс жизни среднего класса? Что сейчас полагается делать? Может, теперь новые особые вёдра придумали?
Как их вешают? Повыше? Пониже? Что вообще там, на мусорном фронте?
Извините, если кого обидел.
17 октября 2011
(обратно)
История про то, что два раза не вставать
Ну, что ж, судя по всему Полковник окончательно стал Че Геварой.
В этом всём меня удивляет только то, с какой последовательностью Первый и Второй мир делает биографии вождям Третьего. То уморят одного в тюрьме, то набросятся на другого в каком-то зловещем сумраке и повесят его — с каким-то торопливым испугом. В общем, какая-то беда, стилистическая ошибка.
И чтобы два раза не вставать — я посмотрел «Ромовый дневник». У меня он оставил очень странное впечатление — это какой-то странный, адаптированный Хантер, с удивительным соплежуйством в финальных титрах. Нет, я знаю, об отношении Джонни Деппа к автору романа и подробности биографий обоих.
Но у всякого отдания чести при могиле учителя есть свои законы.
Сдаётся мне, что всякий постиндустриальный бунт зажат в коммерческих тисках — в середине находится собственно бунт, а по краям — разрешительные лицензии на прокат, тиражи и прочая рыночная социализация.
И вот бунт репортёра в вассальном государстве образца 1960 года оказывается довольно странным. Такой бунт прет-а-порте, лёгкий и годный в носке. При этом алкоголизм и наркомания кажутся в этом формате довольно милыми и случайными, выплывает забота об экологии — куда ж без неё…. Я так, честно говоря, в либеральный бунт и раньше не верил — вот в русский, бессмысленный и беспощадный — верю. А в пафос западной левизны не верю. Он какой-то сытый, даже если героев пробивает на хавчик после употребления разных веществ.
В связи с этим я прочитал две статьи приятных мне людей — Цветкова и Фальковского.
Их все читали, но я всё же напомню — Цветков ругался на буржуазный бунт на страницах журнала «Большой город», а Фальковский пугал меня тем, что мы все под колпаком у Facebook.
И тут у меня сразу случилось печальное настроение — потому что авторы похожи на вестового Крапилина. А про того генерал Хлудов сказал, что тот «Хорошо начал, да плохо кончил» свой разговор.
Бояться социальных сетей — в Сеть не ходить. Довольно комично выглядит человек, что ужасается факту существования мобильных телефонов на основании того, что у кого-то жена подсмотрела sms от любовницы.
Тут либо не греши, либо разводись, или уж, на крайний случай — постарайся быть умнее.
С Цветковым я тоже поначалу был согласен — потому что либеральный бунт на коленях мне скучен, а Лёша там ещё делает много правильных наблюдений — к примеру, литеральный бунт никак не может придумать собственной эстетики и эксплуатирует эстетику настоящего бунта. (Там, помимо прочего, пересказывается история с лозунгом «Но пасаран», который был совершенно антибуржуазным, а теперь — нате, — берётся на вооружение буржуа).
Но потом Цветкова куда-то понесло, и перестал с ним соглашаться вовсе — потому что хоть марксизм я изучал прилежно, но думаю, что классовая картина мира со времён Третьего интернационала изменилась. Не говоря уж о прочей мелкой моторике аргументации.
Но это никому не интересно, я понимаю.
В общем, в Сеть я выхожу с телефона, мир ко мне жесток, да и к другим — тоже.
А Полковника и вовсе застрелили.
Извините, если кого обидел.
20 октября 2011
(обратно)
История про ответы на вопросы
http://www.formspring.me/berezin
***
— Что посоветуете, при покупке курительной трубки?
— Ровно ничего — это как советы в выборе жены. Попробовать как лежит в руке, разве что.
— А Вы сейчас курите?
— Нет.
— Идеальным отцом готовитесь стать раз не курите и не пьете?
— Идеальный отец должен быть в гимнастёрке и с портупеей, и чтобы дети с разбегу обняли его, а сын прижался бы щекой к ордену Красной Звезды. Это нас убедительно показал Андрей Тарковский в фильме "Зеркало". Меня же вряд ли кто возмёт даже в неидеальные отцы, даже если я похудею.
***
— Ваше отношение к психоделикам и психоделии вообще? Ну, и заодно уж к сюрреализму в различных его проявлениях?
— Кто эти люди? Кто?
— Какие творческие потрясения вы переживали за свою жизнь?
— Просто потрясения переживал, а вот творческих что-то не помню. Впрочем… Задержки гонорара считаются?
— Какая из вещей, что вы написали, по вашему мнению удалась лучше остальных?
— Всё, что я написал — неизбывно прекрасно. Включая SMS.
— Не противно ли вам самому писать для книжных сериалов? Пошто талант свой губите?! Как же высокая литература — пропадёт без вас ведь совсем, вы, может, могли бы быть её последней надеждой!
— Ну, современной высокой литературе как-то всё равно — беда только в том, что её никто не читает. А мне всё-таки хочется быть клоуном, веселить народ, уворачиваться от гнилых помидоров — в общем, каким-то способом напоминать мирозданию о своём существовании.
Да и деления на высокую и не высокую литературу сейчас, к тому же нет. Ну, или оно зыбко.
В общем, надежд нет.
— Вы не похожи на мизантропа. Какой уважающий себя мизантроп признается в том, что он пусть и в некотором роде, но клоун? Как такое совместить — мизантроп, развлекающий массы и очень заботящийся, что о нём скажут и как запомнят? Вы где-то точно врёте.
— По-моему, все клоуны — страшные мизантропы. Профессия обязывает — я опросил многих. Верьте мне, хоть вы и хамите.
— Хамлю, а как же. Я же ведь часть мироздания, одно из тысяч самых разных лиц, и ведь не ожидали же вы, что мироздание всегда будет только улыбаться вам? Было бы наивно. И всё-таки, быть клоуном — вам не идёт, бросайте это дело, Владимир Сергеевич!
— Улыбаться? Много лет оно дышит мне в лицо чесноком и перегаром! Речи его нечленораздельны, нос распух и вид его ужасен. О чём вы говорите?
Только красный шарик на носу и колпак с бубенцами примиряют меня с этим мирозданием и вами, как его частью.
— А мне б хотелось вас видеть совсем не таким! Чем-то вы меня зацепили, никому неизвестный, довольно-таки пыльный, пишущий к тому же отвратительное мыло для сериалов. Зацепили, вот и жалко видеть вас в клоунском колпаке с бубенцами. Вы же точно способны на большее!
— Вы просто зажмурьтесь и увидите меня в длинном плаще с кровавым подбоем, трагическим героем и страдальцем. Просто зажмурьтесь — делов-то.
— Относите ли вы себя к какому-нибудь обществу и какой характер это общество имеет? Всё-таки, вы пишете с такой манерой, да так горделиво иной раз выставляете свой ум, со снобизмом, что иной раз с ненавистью представляешь себе эдакого буржуа, светского чистоплюя.
— Я отношу себя к классу двуногих существ без перьев. Мой класс, увы, довольно сильно распространён, и это мне, как мизантропу, немного мешает. Однако я рад, что меня читают и пролетарские массы. Так и представляешь их в промасленных спецовках, с их мозолистыми руками, их тесно сомкнутые ряды, в которым нет места чистоплюям.
И проникаешься к ним любовью.
— У вас есть тысячи книг. А как насчёт музыкальных пластинок? Каких вкусов вы придерживаетесь в музыке, насколько заботитесь о качестве звука?
С пластинками дело швах — у меня нет в доме соответствующего аппарата. Хотя в одном ящике у меня есть альбом патефонных пластинок (я их думал подарить на юбилей своему другу, но к нему на дачу влезли жулики и украли патефон, так что я раздумал дарить это добро). Ещё у меня есть стопка пластинок современной зарубежной эстрады, выпущенных фирмой «Мелодия» — современной семидесятым годам.
Подозреваю, они довольно заезженные.
А так-то пластинок не люблю, «тёплый ламповый звук», подвижническая борьба с пылью в бороздках — это не для меня. Мне не хочется служить носителям и аппаратуре извлечения звука, пускай она сама послужит, Баха сыграет.
— У вас есть злопыхатели?
— Есть. Раньше думал, что нет, но всё же есть люди, у которых я вызываю биологическое отвращение. Тут, вернее, есть два типа злопыхателей — людям, которым не нравятся мои тексты (тут ничего страшного, и более того — это род психотерапии: возмутился человек, затопал ногами, заругался, швырнул книгу под ноги — и весь пар вышел. На домашних перестал кричать, сел спокойно за стол и принялся есть суп). И есть люди которым не нравлюсь именно я — вот тут уже беда. Как бы я не притворялся, всё же я печалюсь, когда кого-то разочаровываю.
Как бы я не говорил, что не хочу никого обидеть, всё равно находится кто-то, кто думает, что хочу — и обижается. Наверное в идеальном общении (которого нет) есть особая мудрость, позволяющая не обижаться, то есть даже не прощать что-то, а отгонять нарождающуюся обиду: "Тьфу, глупость какая! Прочь, прочь!".
— Березин, а по чему не Вы приглашены, а Джон Шемякин? Да Джон хорош. Кто же спорит. Но вот Вы как себе объясняете.
— Это в «Школу злословия»-то? Понятия не имею. Я полагаю, что в таких передачах гостя зовут по принципу: вот пришёл Синдершкин, он уфолог и расскажет нам про летающие тарелки, что там с ними и как. Или вот пришёл Какашкин — он специалист по молекулярной кулинарии и… Ну а что про меня сказать? Пришёл писатель — ну что в том уникального? Пелевин бы пришёл — да, событие. Не про фантастику же рассказывать или про печку на даче.
Извините, если кого обидел.
31 октября 2011
(обратно)
История чтобы два раза не вставать
Кстати, с толком провёл Хелловин. Участвовал в игре "Корпоративное убийство".
Это легко представить — вот многие ещё помнят фильм «Чисто английское убийство». Интеллектуал Баталов в английском замке, дохлый баронет в исполнении артиста Тараторкина, и все дороги занесены снегом, так что гостям предстоит самим разобраться, кто убийца. Так вот, есть фирма, что предоставляет людям возможность самим инсценировать подобный сюжет — так сказать, доставить топ-менеджменту фирмы удовольствие. Начальник службы безопасности предлагает директору департамента маркетинга дунуть в туалете, потому что он — наркодилер, а эффектная дама из PR представляется девушкой по вызову.
— (Простых менеджеров и экспедиторов в игру не зовут). Так что я как человек пришлый, наблюдал и темперу, и морес, но в результате придумал собственный сюжет.
На следующий день уборщица должна позвонить устроителям игры с вопросом, можно ли выкинуть тело убитого, потому что оно вздулось, и вообще, кажется, оно — настоящее.
И, чтобы два разане вставать — сегодня Синдерюшкин помогал мне паковать книги, и говорит:
— Знаешь, ближе к старости все хотят быть магистрами Йода, и никто не хочет быть стариками Мармеладовыми. Никто! А все становятся Мармеладовыми.
Я уронил ящик себе на ногу.
Извините, если кого обидел.
03 ноября 2011
(обратно)
История про то, что два раза не вставать
Кстати, мы ещё с Синдерюшкиным, таская книги, говорили об оппозиции.
Ну это шарманка старая, а я держу своих друзей за вменяемых людей, и поэтому никакой ажитации в этом мы не проявляли, кроме известного мнения о трагедии России. А трагедия, собственно, в том, что в России нет вменяемой оппозиции.
Вопрос, конечно, в том, была ли она когда.
— Но, — говорю я Синдерюшкину, — вот загадка. Смотри: несколько поколений советских людей заставляли читать классиков марксизма, учить определение революционной ситуации, которое перекочевало в анекдоты про "Виагру", ведь, помнишь, в школе ведь учили, в девятом классе! Причём ведь не только идиоты занимались идеологией… Режиссёры с человеческим лицом снимали фильмы о коммунистах с человеческим лицом, и диссиденты писали хорошие романы в серию "Пламенные революционеры". И вот скажи, Ваня, скажи, в преддверии дня 7 ноября, красного дня календаря — почему у нас при этом нет коммунистической партии?
— Как нет?.. Ну, нет.
Синдерюшкин задумался, а я опечалился.
— Даже левой партии нет, Ваня. Эсэров нет, эсдеков нет, только бомбисты есть какие-то, но они даже наследники Камо, а какие-то дети Шамиля. Ну вот скажи, отчего сто лет впустую?
Кстати, чтобы два раза не вставать: это я в кафе зашёл, и стал составлять свои горестные заметки. Жизнь без Интернета вовсе не так уж плоха, тем более, что и Интернет норовит меня отторгнуть, как донорская жопа — чукчу. К примеру, как я стал писать сюда не ежедневно, а два раза в неделю, меня тут же выкинула из ленты пара знакомых. Но жить нужно так, чтобы даже боты выкидывали тебя из ленты.
Так что многое у меня впереди.
Извините, если кого обидел.
04 ноября 2011
(обратно)
История, чтобы два раза не вставать
Приснился сегодня очень странный по своей конструкции сон — в этом сне я вижу немецкий фильм, снятый в сороковые годы, и он удивительным образом повторяет сюжет старого советского фильма «Ошибка инженера Кочина». Немецкий ученый занимается стеклом, которое идёт на танковые прицелы. Но когда следователь из гестапо спрашивает его о работе, он отвечает:
— Конечно! Из него можно делать удивительной красоты вазы!
Гестаповец, а это красавец-интеллектуал, скорбно говорит:
— Это прекрасно, милый профессор, но сейчас на дворе 1943 год, и мы воюем.
И видно, как он благороден, он устал, и как его замучили унтерменши со своими радистками.
Фильм этот чёрно-белый, а диалоги чем-то напоминают беседы Штирлица с пастором Шлагом.
Чтобы два раза не вставать, так на днях мне и вовсе снился ужасный сон — я в этом сне я попёрся куда-то с писателями фантастами. Они сразу принялись жрать какое-то кровавое пойло, утверждая, что это борщевая самогонка. Оно и было видно — в пойле плавали куски свеклы и укроп. При этом я разговаривал сам с собой и недовольно бормотал:
— Ну тебе-то, Савва Игнатьич, тебе-то зачем это было нужно?! С твоей-то абстиненцией? На этих вурдалаков смотреть? Ну тебе-то зачем это нужно?!
Но ответа мне не было.
Извините, если кого обидел.
08 ноября 2011
(обратно)
История про то, что два раза не вставать
В своём знаменитом письме от 7 октября 1835 года Гоголь пишет Пушкину: "Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь, смешной или не смешной, но русский чисто анекдот… Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и, клянусь, будет смешнее чорта. Ради Бога".
Чем дольше я живу, тем с большим удивлением возвращаюсь я к этой фразе — она отражает чрезвычайно важные изменения в литературе.
Причём в десятках прозаических текстов и воспоминаний я встречаю персонажей, что норовят предложить писателю сюжет как ценность. Но никакой ценности в сюжетах нет — ценность в их воплощении.
Литературный труд стремительно демократизовался и, одновременно, обесценился. Ценность в готовом продукте — шкафах и столах, а не в пилёном дереве.
А сюжетов всего, как известно, четыре.
Их разновидности я могу придумывать по десять раз на дню — для тех, кому лень читать уже написанные книги и сборники анекдотов.
И, чтобы два раза не вставать, о путешествии. Тот же Пушкин писал Нащокину в феврале 1833 года: "Путешествие нужно мне нравственно и физически". Это всё удивительно важно, потому что со временем мне кажется, что путешествие никому нынче не важно, безнравственно и физически опасно.
Миллионы людей снимаются со своих мест, чтобы напиться в местах для себя новых, тошниться в чужой океан, заболеть тропическими болезнями или быть смытыми каким-нибудь цунами.
Причём все эти путешествия (я об этом писал, но лень самому искать ссылку), всё время движутся в направлении большей экзотичености — засрав одно ментальное пространство, "демократизовав" его, человечество движется к новой области — от какой-нибудь Турции к Египту, от Египта к Непалу. И победителем считается первый, кто нарушил какую-то девственность — залез в одну из немногочисленных оставшихся дыр на планете и рассказывает друзьям у камина, как кормил крокодила на Амазонке или собирал грибы в Андах.
В этой погоне за экзотикой есть аналог — одно дело хвастаться, что попал в Лувр, а другое — что попал в запасники Лувра. Одно дело — напиться шотландского виски, а другое — съездить на винокурню в Шотландию. Уже целая индустрия существует для этих прикосновений к натуральному. То есть такая индустрия внутреннего и внешнего хвастовства — глянь, вон на снимке я по колено в натуральном.
Только путешествия с подорожной по казённой надобности — разумная этому альтернатива.
Впрочем, я мизантроп, что с меня взять.
Кстати, в полном виде то самое письмо Пушкина выглядит так: Около (не позднее) 25 февраля 1833 г. Из Петербурга в Москву
"Что, любезный Павел Воинович? получил ли ты нужные бумаги, взял ли ты себе малую толику, заплатил Федору Даниловичу, справил ли остальную тысячу с ломбарда, пришлешь ли мне что-нибудь? Коли ничто еще не сделано, то сделай вот что: 2525 рублей доставь, сделай одолжение, сенатору Михаилу Александровичу Салтыкову, живущему на Маросейке, в доме Бубуки, и возьми с него расписку. Это нужно, и для меня очень неприятно. Что твои дела? За глаза я всё боюсь за тебя. Всё мне кажется, что ты гибнешь, что Вейер тебя топит, а Рахманов на плечах у тебя. Дай бог мне зашибить деньгу, тогда авось тебя выручу. Тогда авось разведем тебя с сожительницей, заведем мельницу в Тюфлях, и заживешь припеваючи и пишучи свои записки. Жизнь моя в Петербурге ни то ни сё. Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга, вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде — всё это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения. Вот как располагаю я моим будущим. Летом, после родов жены, отправляю ее в калужскую деревню к сестрам, а сам съезжу в Нижний да, может быть, в Астрахань. Мимоездом увидимся и наговоримся досыта. Путешествие нужно мне нравственно и физически".
Извините, если кого обидел.
13 ноября 2011
(обратно)
История, чтобы два раза не вставать
Ну, с праздничком!
И, чтобы два раза не вставать — здесь будет рассуждение о пагубе иронии.
Мы все привыкли к иронии — мы спасаемся ей.
Ирония похожа на социальный презерватив.
И всё-таки об иронии. Ирония нас часто спасает. Ирония помогает нам пережить вещи, которые мы не думаем пережить, переживая их — мы не верим во время смерти близких, что когда-нибудь будем смеяться.
Но проходит время, и мы продолжаем жить.
Ирония очень помогла литературе после Первой мировой войны, после того, как человечество попробовало на вкус иприт и прочие изобретения. Литература как-то, с некоторым скрипом научилась обращаться с новым миром, и рассказы о человеческой жизни потекли снова.
Но с современной иронией всё не так просто — совершенно невозможно без неё жить, но когда приправы слишком много, она разрушает желудок. Вот есть известная пьеса и фильм «104 страницы про любовь», где драматург Радзинский, не переключившийся ещё на Сталина, тиранит пока простых обывателей. Актриса Доронина изображает там чистую духовность пухлых форм, что тяжело дышит от чувств и томно спрашивает: «А пойдёмте в зоопарк, я слышала, что там что-то родилось у бегемота». Будь я на месте её возлюбленного, так я тут же и задушил её. Собственными её колготками, которые на это только и годились, поскольку их делали из капроновых стропальных тросов.
Но у него было немного иронии, и вот он не загремел на пятнадцать лет (Будь хоть капля иронии у этой героини, она бы вовсе не несла эту чушь).
Ирония помогала нам справится с пафосом — о, какая это была битва с пафосом! Операция «Багратион» меркнет по сравнению с ней, Канны, Фермопилы — всё ничто. Пафос светлого будущего был разбит и догорал как последние бронетанковые надежды Гитлера под Сехешфехерваром.
Но у иронии есть оборотная сторона — она должна быть обоюдной.
Если сходятся мужчина и женщина, вооружённые иронией, то они должны либо одновременно разоружиться, либо изображать животное о двух спинах, не выпуская рукоятки своих ироний (извините).
Трагедия в том, что ирония как поддельный оргазм — попадёшься, единожды, потом всё время будут подозревать.
Причём тут ирония и искренность так перемешаны, что прям святых выноси. Кто её знает, по истинному порыву души она шепчет в постели про бегемота или её тоже тошнит от старого фильма.
В презервативе можно задохнуться.
Извините, если кого обидел.
14 ноября 2011
(обратно)
История чтобы два раза не вставать
Надо сказать, что хороший писатель Волос пригласил меня на свой вечер. Я пообещал зайти, и долго искал, на чём записать дату и время.
— Д-да ладно тебе, — сказал Волос в телефонную трубку. Пятнадцатого ноября в семнадцать часов. Запомни просто две цифры — 15 и 17.
Сегодня я встретил человека Губайловского и спросил, пойдёт ли он на вечер к писателю Волосу.
— Ну, да, — отвечал Губайловский. — Только он был вчера, и я на нём был.
— Позволь, — я в изумлении уставился на него. — Как это был?! 17 числа, в 15 часов?!
Губайловский посмотрел на меня долгим взглядом и сказал:
— Знаешь, нельзя сказать, что ты не выполнил своего обещания. Два числа ты запомнил верно.
И, чтобы два раза не вставать — другая история. Про иронию я уже написал (Хотя куда-то задевал свой текст по блоковскую статью об иронии и Стениче, ради которого всё и затевалось).
Извините, если кого обидел.
16 ноября 2011
(обратно)
История как два раза не вставать
Получил анонимный вопрос: "И вам не стыдно на путинские деньги вести пропаганду гомофобии?"
Ответил традиционно: "С какой целью спрашиваете?"
И, чтобы два раз не вставать, ещё ответы:
***
— Вы не гей случайно?
— Нет, я нарочно.
— Варите мыло для сериалов, воруете жир у процедурной липосакции, занятно. Что добавляете — фиалки, мускус? Пакуете в тисненую бумагу, перевязываете муаровой лентой, каллиграфически выводите название… какое?
— Вы, кажется, чем-то взволнованы.
***
— Березин, а по чему не Вы приглашены, а Джон Шемякин? Да Джон хорош. Кто же спорит. Но вот Вы как себе объясняете.
— Это в «Школу злословия»-то? Понятия не имею. Я полагаю, что в таких передачах гостя зовут по принципу: вот пришёл Синдершкин, он уфолог и расскажет нам про летающие тарелки, что там с ними и как. Или вот пришёл Какашкин — он специалист по молекулярной кулинарии и… Ну а что про меня сказать? Пришёл писатель — ну что в том уникального? Пелевин бы пришёл — да, событие. Не про фантастику же рассказывать или про печку на даче.
— Джон не так уж хорош, не о чем спорить, но ведущая любит его, а не вас. Будете квас?
— Да отчего же нехорош? И хорош и пригож, и хлеб мы с ним преломили, а для меня это важно. Да и в том, что ведущие его любят, беды никакой не усматриваю. Меня всегда радует, когда любви в мире пребывает, мир-то у нас какой-то угрюмоватый.
***
— а чо за массовый туризм, когда массово сидение на одном месте, с перемещениями в пределах места регистрации? 70–80 % населения рф сидит как вы на жопе ровно. токо в отличие от вас не обставляет сий скорбный факт как эксклюзив.
— Вопрос в чём? Тут какая-то проблема с синтаксисом, что смысл высказывания мне остаётся непонятным.
— если из 10 человек пьют максимум 2 это не массовое пьянство, а массовая трезвость. вот и неясно про какой массовый туризм на винокурни пишете, когда массово сидение по домам. и вы часть этой массы хоть и выставляетесь эксклюзивным нетуристом.
— У вас какая-то путаница в голове — и даже в области того, что я пишу по поводу винокурен. Я-то как раз вполне себе лёгок на подъем, только по командировочным делам — а вот статус человека, что норовит побухать в Анталии — вполне в глазах общественности уважаем и массов.
Нет, если у вас задача сказать глупость типа "Никакого массового туризма нет, потому что вот в нашей деревне никто за границей не был, за исключением сторожа Митрича, что в ГДР служил, и вообще бандиты жируют, а у Васи Векшина две сестрёнки остались", так для этого другие места есть. И лучше этакие вещи без свидетелей говорить. Так просто, перед зеркалом.
Сказал, и — хорошо.
— а глупости типа "я вполне себе легок на подъем, только по делам командировочным — то в Милан рвану, то в Рио… всюду, куда не забросит меня нелегкая доля глянцевого журналиста" лучше не произносить даже перед зеркалом. чтоб вдруг не заплакать.
— Да отчего же плакать от этакой карьеры? Я вот, к несчастью, не глянцевый журналист. А так-то… О, всякому бы работодателю без слёз признавался бы — могу, посылайте исследовать французский сыр и шотландский коньяк.
— сами тренируйтесь перед зеркалом с глупостями типа "в деревне РФ из 140 миллионов по анталиям шляется миллионов 10–15 и я называю это явление массовым и статус их такой же. а я уникум из сотни миллионов" перед выступлениями в сети
— Вы, кажется, чем-то взволнованы.
— вам лучше не произносить про журналиста глянца чтоб не заплакать, бо нету у вас этакой карьеры и неизвестно будет ли. собственных средств на сырные туры тоже нету. статус этот в тыщи раз массовее, чем норовящих бухнуть в шотландии. так понятнее?
— Вы определённо чем-то взволнованы. Но чем?
— чем взволнованы? вашей судьбой. собираемся организовать сбор средств на ваши путешествия по сыроварням. хотя вы бы и сами могли завести яндекс кошелек и повесить в жж объяву о приеме добровольных пожертований.
— Зачем это? Просто купите мне билеты и оплатите гостиницы. Всему-то вас учить.
— просто купите, просто оплатите… совсем уж в коррупции погрязли! ни про совесть не думаете, ни про отчетность прозрачную. с такой моралью только в нашисты, а не по сыроварням.
— Нет уж, давайте поделимся, тут у кого что лучше получается — мне на сыроварню, а вам ведь воду ещё возить.
***
— Что скажете про "Елену" Звягинцева?
У меня какие-то сомнения по поводу этого фильма. Нет-нет, я вполне с уважением отношусь к нему как к явлению, но не могу отделаться, от ощущения того, что он счислен.
***
— Вы были на открытии Большого? а то чет смотрели, смотрели, но так вас и не увидели.
— А я с рабочими сцены бухал, а потом в оркестровой яме спал. Кто ж меня там заметит?
Извините, если кого обидел.
17 ноября 2011
(обратно)
История про то, что два раза не вставать
Однажды я видел живого министра. Правда министр был бывший, но это дела не меняет. Министр читал лекцию про Вебера и протестантскую этику. Говорил он и про либеральные ценности.
Министр был из той породы людей, что были выпестованы в особое время, людей успешных, но отчего-то с жаром пересказывающих вчерашние новости и вчера прочитанные книги, забывая, что кто-то мог прочитать эти книги лет пять тому как.
Министр блеснул юношеской любовью к Дос Пассосу, но отказался говорить о литературе нынешней. Такие как он, в шестьдесят прочитали то, что большинство студентов теперь читают на втором курсе, а более продвинутые их шестидесятилетние сверстники прочитали давным-давно, когда выучили иностранные языки.
И вот запоздалое открытие так удивило эту особую породу людей, что все они превратились в старинно-рекламных продавцов колбасных отделов, которые, прежде чем что-то взвесить, долго трут бляху отличника торговли. Но то, что они норовят взвесить, давно описано в истории про коньяк, что выпила преподавательница французского языка, всю жизнь воздерживавшаяся от алкоголя.
Эту историю, кстати, рассказывает Остап Бендер.
Я был готов простить правым и, кстати, этому министру, криво воплощённые программы, но вот криво написанные, плохо рассказанные — нет. Дело в том, что идея либерализма в России скомпрометирована. А успех любых радикалов не в их идеологической или эстетической красоте, а в том, что нормальный обыватель разочарован в либералах, которым дали руководить страной десять лет. После нашей встречи я нашёл официальную статью, которая написана примерно таким языком: «Это дополнение выводит нас за пределы смыслового поля идеального типа, но оно существенно для прояснения некоторых особенностей сознания именно российских граждан…». В этой статье был и список либеральных ценностей, что состоял из знаменитой триединой формулы Великой французской революции — только братство заместилось терпимостью, и всё это дополнено частной собственностью и государством…
Но и тогда, и сейчас я не был уверен в этом списке.
Итак, министр говорил сам, говорили и другие люди, причём все говорили об этих виртуальных ценностях, хоть мой приятель и заметил тут же, что у нас часто исторические привычки называются духовными ценностями.
Тогда-то я поднял руку и спросил о том, нельзя ли мне узнать список этих либеральных ценностей. Отчего-то министр начал гнуться и ломаться как пряник. Вернее, он начал на меня глядеть как партизан на допросе, но, путая след, говорил и говорил — о либеральных ценностях, и о ценностях демократических.
— Да я вам вышлю, — сказал он, наконец. — Вышлю, не сомневайтесь.
Я, встав, и пройдя сквозь ряды столов, положил ему на кафедру свою визитную карточку.
И, ясное дело, хоть прошло немало времени, по-прежнему живу без либеральных ценностей.
И без демократических — тоже.
Я это вспомнил, оттого, что сейчас разбирал неотвеченную почту и обнаружил, что этому министру присудили титул "Просветитель от Бога" за этот год. По-моему, это восхитительный титул.
И, чтобы два раза не вставать, я вот про что спрошу: вот кто-нибудь из вас пользуется УЗО в своей квартире. Вот как вы его регулируете, чтобы двухкиловаттный чайник его не вышибал? И вообще.
Извините, если кого обидел.
20 ноября 2011
(обратно)
История про то, что раза не вставать
Я вот что скажу: мне очень нравится Дмитрий Ольшанский.
Тут вот в чём дело — к нему в разное время относились по-разному, и я помню, как приличных местах, было принято говорить о нём поджав губы, как о приличном мальчике, вдруг вступившем в связь с матерью Иокастой.
Или наоборот, он мне тогда казался чем-то вроде Алёши Карамазова, что тих и слаб, а расскажет ему братец о людской несправедливости, о душегубе-помещике, так зыркнет Алёша и закричит «Расстрелять!».
Потом я понял, что дело как раз не в этом, а в том что Ольшанский человек живой. Я-то могу сколько угодно быть несогласен с ним, и с его мыслями, на глазах меняющими политическую окраску. Но вот он живой, а многие известные мне завсегдатаи вовсе неживые. Упыри они какие-то, с липкой матовой кожей.
В общем, Ольшанский — хороший.
И, чтобы два раза не вставать, несколько слов о советской прессе.
Эта тема возникла из одной фразы Ольшанского, что он мимоходом бросил: «Я с трудом представляю людей, которые до 1988 примерно года читают газету».
Речь шла о том, что советскую прессу читать невозможно. То есть, вся история советской печати зажата между советом профессора Преображенского не читать никаких газет вовсе и ажиотажным чтением газеты «Московские новости» со стендом.
Я немного помню это время, и понимаю, что слишком просто свести его к установочным статьям «Правды» и либеральным очеркам «Литературной газеты».
Или иначе: слишком просто свести советскую печать к способу чтения между строк.
Изначальный вопрос о чтении снимается тем, что я застал в начале восьмидесятых лимиты на подписку прессы. Партийную «Правду» можно было выписывать без ограничений, и это, кажется, даже было обязанностью восемнадцати миллионов членов партии, а вот на «Литературку» как раз был лимит, то есть — ограничение, разнарядка. Непросто было подписаться и на литературные журналы, и на научно-популярные (которые, кстати, до сих пор остаются недосягаемым образцом совершенства) — но это отдельная тема, да и не журналы это были, а что-то другое, названное «журналами» по утерянной аналогии.
Ах, "Юный техник", ах, "Знание сила", ох, журнал "Радио", полный слепых схем и описей резисторов вкупе с конденсаторами… Эх, журнал "Советский Союз", что вообще был с другой планеты — с удивительными фотографиями не хуже часто, чем "Чешское фото".
Советская печать была не только коллективным агитатором, но и организатором — эта фраза за подписью Ленина горела на одном низкорослом здании на площади Белорусского вокзала, которую я пересекал едва ли не каждый день своего детства.
Структура была вполне разнообразна — «Труд» заполнял нишу экстрасенсов и НЛО, предшествуя «Московскому комсомольцу» (ведь он был не партийным органом, а газетой профсоюзов), «Литературная газета» и создавалась-то как орган контролируемой фронды, и до последних лет оставалась ею. В «Комсомольской правде» ждали очерках из недр жизни, а так же репортажей великого Пескова. Я читал в «Пионерской правде» печатающийся с продолжением какой-то роман Кира Булычёва про Алису — теперь мне кажущийся ужасной тягомотиной.
«Известия» имели совсем иной вкус, чем «Советская Россия», ну и тому подобное. Ах, восхитительный дайджест «За рубежом», ах, давний журнал «Новое время»…
При этом, для занятий иностранным языком покупалась — для простых «Moscow news», а для продвинутых — «Morning star».
Кстати, я и сам читал прессу на стендах — по дороге в Университет, ожидая троллейбуса.
Но — феномен «хорошей советской журналистики» ещё совершенно не изучен. Его в общественной перспективе как-то подмяли под себя истории «прогрессивных советских писателей».
То есть, фрондёры-писатели во время Перестройки были заметнее, у них и фронды было побольше, чем у находившихся на службе журналистов. Казалось, что подпольный альманах — больший фактор, чем прочие. Однако сейчас кажется, что этот неповоротливый механизм советской журналистики был чрезвычайно любопытным. Но про писателей всегда интереснее, чем про журналистов — слишком нелепыми кажутся их компромиссы, казавшиеся прежде столь героическими.
А в этом феномене можно обнаружить много интересного для понимания людей.
Извините, если кого обидел.
24 ноября 2011
(обратно)
История про то, что два раза не вставать
История специально для моего доброго товарища Леонида Александровича: я сейчас пришел на премию "Просветитель" и обнаружил, что там по сцене катаются на сигвеях весьма пригожие девки. На сигвеях! Весьма пригожие! На сигвеях!
Уже полчаса катаются!
Я буду потом консультироваться, как за ними ухаживать (Каламбур)
И, чтобы два раза не вставать, скажу, что вот Капица — и правда "просветитель от Бога", и совершенно естественно, что в зале моментально "организовалось вставание".
Как бы его только сигвеем не задавили.
Извините, если кого обидел.
24 ноября 2011
(обратно)
История про то, что два раза не вставать
Так вышло, что я всегда серьёзно относился к календарным ритуалам: советские праздники точно следовали христианским, а те — языческим, а уж языческие соответствовали движению Солнца и светил.
Пасха мешалась с Первомаем, Новый год с Рождеством, Покров приходился на годовщину Октябрьской революции, всё было размеренно и чинно.
Время тянулось от каникул до каникул.
А нынче не то — обычно 7 ноября я стоял на тротуаре рядом со своим домом на улице Горького. Я там стоял потому что мимо меня двигались ракеты и танки, возвращавшиеся с парада на Красной площади. Я стоял по щиколотку в мокрой снежной каше, а теперь всё сдвинулось, и снег выпадает на Новый год.
А сначала были каникулы с ёлкой, потом март, когда я ездил в Крым, а за ранней крымской весной следовала апрельская московская весна. Апрель вообще похож на субботу, потому что за субботой не сразу идёт понедельник, а ещё лежит леденцом целое воскресенье. Так и за апрелем идёт тёплый май, а лишь потом — сессия.
Сентябрь был месяцем твёрдых антоновских яблок и картофельной барщины, октябрь дождливым поводом для прогулов.
Обычно год шёл под откос как раз начиная с октябрьских праздников, потом происходил мой день рождения, через неделю-две появлялись первые ёлки, затем — зачётная сессия, и вот он, здравствуй, жопа, Новый год.
А теперь всё по другому — снега не допросишься, высокий сезон новогодних продаж начинается первого ноября, седьмого же числа народ трезв как стекло и сидит по домам. Впрочем, скоро ёлки будут ставить первого сентября — совсем как в старину начиная новолетие после сбора урожая.
Время сдвинулось, годы свистят, и никакого порядка не наблюдается.
И, чтобы два раза не вставать — ко мне сегодня на улице подошёл человек, наполовину уже справившийся с бутылкой пива. Он спросил меня:
— Вы на съёмках, или это ваша повседневная одежда.
— Повседневная, — отвечал я.
— Так вы состоите в организации? — насторожился он.
— С какой целью спрашиваете? — отбил я этот вопрос.
— Да я бы хотел вступить…
— Займитесь озеленением, — сурово сказал я.
— Ну… Так жизнь такая… Вот рёбра мне недавно переломали… Я всё же хотел бы вступить. А вас я знаю, вы в нашем магазине часто бываете, покупаете живой квас. И форма у вас…
— Что форма?
— Ничего-ничего, опрятная, чистая форма. Ботинки высокие. Я хотел бы вступить. Я слаб стал, и вот меня побили. Вступить, а?
— Не стоит. Цена может быть слишком высока, — закрыл я тему и скрылся в подземном переходе.
Извините, если кого обидел.
25 ноября 2011
(обратно)
История, чтобы два раза не вставать
Я заметил, что в жилищах знаменитых людей есть вещи, намертво привязанные ко времени — это, собственно, очень хорошо видно по той бытовой технике, что попадает а такт, когда знаменитость фотографируют — для интервью или для будущего некролога. У ракетного конструктора Королева в доме стоял приемник "Телефункен". Приемник, а, вернее, радиола — не работал. Он был памятником сумрачному германскому гению и тем машинам, где дышит европейский интеграл. Впрочем, Королева фотографировали мало. Но когда снимают современных ученых, особенно пожилых, то сразу видно, когда они шагнули в признание. То есть, ты глядишь на снимок и сразу замечаешь — вот он, музыкальный комбайн "Радиотехника". А вот у другого академика на специальном комодике телевизор "Рубин-714". Расставаться с вещами трудно. Вещи живучи — и часто бывает так, что они "зажились". Но мебель не так беззащитна, как аппаратура звука и вида. Неважно, добытый ли это по закрытому списку "ВЭФ" или привезенный из командировки "Грюндиг" что ловит ФРГ. У многоуважаемых шкафов несомненно существует душа, но вот какова душа всех этих серебристых и черных монстров? И, чтобы два раза не вставать, я скажу вот что: одного баллончика с краской недостаточно, чтобы покрасить холодильник.
Извините, если кого обидел.
01 декабря 2011
(обратно)
История про то, что два раза не вставать
Обнаружил, что добрый мой товарищ Леонид Александрович Каганов написал за меня начало романа. То есть, обнаружил у себя файл с им написанным началом:
Владимир Березин
Шкловский и Фурманов
роман
Часть 1
Однажды Фурманов переоделся Шкловским и пришел к Лие Брик.
Мне кажется, что "Лия Брик" — это находка. То есть, это, практически, сюжет — Лия и Рахиль. Ну и бездна смыслов. Придется теперь писать.
И, чтобы два раза не вставать, я вот что, собственно, ещё скажу: я пойду к будке для самоубийств. То есть, к голосовательной урне — и не в том дело, что у меня есть некоторое писательское любопытство. Эти выборы проверка как раз эстетического чувства — когда всякий выбор неправильный, и в будущем любой может упрекнуть любого. Я так считаю, что Господь велик и милостив и в любом явлении, что он нам показывает, есть бездна всяких смыслов — математики могут рассказать orbi et urbi о прелести комбинаторики, и о том, куда пойдут голоса; экономисты открыть, как крышку деревенского сортира программы любых партий, и предъявить населению их безумие и кровожадность; философы — с гиканьем и свистом угнать в сторону леса очередное стадо здравого смысла; мизантропы, пожаловаться на человечество — в общем, жизнь-то, кипит.
Эти выборы как раз интересны тем, что неголосующий человек как раз и голосует — в неявном виде. И — все вменяемые люди, понимают, как зыбок результат. Более того, я-то помню вполне эти же вменяемых людей, что были безумно увлечены идеями, смысла которых не понимали, но готовы были оскорбить всякого, кто с ними дискутировал. Сейчас я не могу себе представить умных людей, что серьёзно схватились в споре о предвыборных программах. Но в этом и прелесть — выборы становятся как раз таким эстетическим мероприятием. Чем-то вроде теста — «скажи первое попавшееся слово», где надо выдохнуть «Пушкин, курица, яблоко».
Я-то выдохну, у меня профессия такая. Я-то с народом, где он к несчастью.
Мне вообще очень интересны социальные конструкции, которые возникают как бы не из чего — вот история с пожаротушением, когда загорелись леса в жаркое лето прошлого года. Натурально многие спели вертинского: «и скоро мы будем уже голодать». А вот некоторые поехали эти леса тушить — я говорю об этом не без горечи, потому что в этом дыму, не вписавшись в поворот, погибла ода очень хорошая девушка, которую я знал — она даже не за рулём была, но что из этого.
Так вот, всё это сразу начали освещать как триумф гражданского общества, и я бы поверил, кабы не читал мемуаров о земском движении и не был бы сам на больших лесных пожарах. Необученные городские люди как правило исполняют чужие обязанности плохо, да и обученные без техники и тылов — тоже. К тому же командиры пожарников сразу стали ругаться, выкладывая в Сети свои чеки и описи лопат и бензопил.
История уже знала одну такую историю.
Из мемуаров выживших гражданских лиц мы много знаем о противотанковых рвах (я как-то даже на тактике вычерчивал в тетрадочке профиль этого рва — он довольно хитро устроен: стенки не должны быть слишком крутые, иначе будут осыпаться, а брустверы иметь особую форму).
Но эффективность этого сооружения может быть разной (понятно, что в условиях ядерной войны эффективность его нулевая), а вот в Отечественную войну, соотношение усилий и полезности было неочевидным — потому как на одной стороне лежит возможность затормозить наступление танковой части, или подвести танки под огонь ПТО, с другой стороны, такой ров копается мобилизованными гражданами неделю, а переход через него делается несколькими взрывами — то есть за сравнительные минуты деятельности сапёрной части, а то и самих танкистов.
Был такой знаменитый стишок из немецкой листовки:
Дамочки-дамочки,
Не копайте ваши ямочки
Придут наши танчики,
Заровняют ваши ямочки.
Не хуже «Бей жида-политрука, рожа просит кирпича», я считаю. Но история знавала примеры действенных противотанковых рвов, что были дополнены многими вещами, и вместо памятника бессмысленного тяжёлого труда превратились в действующий элемент фортификации. То есть, идёт битва военного инженера с тем иррациональным чувством, что есть внутри каждого человека, и которое сформулировано в начале фильма «Жертвоприношение»: «Знаешь, сынок, если каждый день наливать из-под крана стакан воды и выливать его потом в раковину, то из этого что-нибудь произойдёт».
Так вот, об эстетике — это как раз и есть главный смысл для действий, которые не несут видимой выгоды. Будь то копание рвов или марание бумаги.
Извините, если кого обидел.
02 декабря 2011
(обратно)
История про то, что два раза не вставать
Я с удивлением обнаружил, что большинство моих сограждан не смотрело сериал "Южный парк", а уж большинство тех, кто смотрел, отчего-то не усвоило великой мудрости той серии, где в городе происходит голосование по поводу символа школьной команды. Если кто не помнит, выбор там был между клизмой и сэндвичем с дерьмом. И это наблюдение мое весьма скорбно. То есть, вместо того, чтобы отнестись к этому делу весело протестные голосовальщики начинают упрекать друг друга — одних в том, что де проголосовали за заведомых аутсайдеров, других, за то, что испортили бюллитень, а те кого упрекают все — оставшиеся дома, огрызаются, что выбирать между сэндвичем с дерьмом и клизмой они не приучены.
Вовсе не этот вывод должны сделать мои сограждане из фильма "Douche and Turd", рожденного на земле Линкольна и Мартина Лютера Кинга.
Нечего ссорится, не то, неровен час, кому-то из вас светит судьба Стэна Марша, которого посадили
на лошадь, и надев предварительно на голову ведро, и изгнали из города за неправильно поведение на мероприятии электорального типа.
Хотя я наблюдаю нечто общее во всех политических разговорах (потому что в силу возраста могу сравнивать 1985 и 1991, 1991 и 2011 — из совета здравомыслящих сограждан о том, что надо задумываться о последствиях до, а не после, и вывод "не стоит и пытаться" из этого никак не следует. Тут беда экзистенциальная — огромное количество людей верит, что добиться улучшения жизни можно не длительными упорными усилиями, скучным трудом, а простым переплавлением своего недовоства в однократное эмоциональное усилие.
Однако ж история нам все время подкидывает незавидные сценарии воплощения прекрасных однократных порывов души.
И, чтобы два раза не вставать, я вот что спрошу — как вы, добрые владельцы яблочных планшетников, ставите на них эмулятор виндов, Семажик, и все остальное (За исключением того, что покупаете — это-то мне более понятно, хотя текстовый редактор я у кого-нибудь хотел сменять. К чему мне право множественнных загрузок? Мне хватило бы и одной).
Нет, я, конечно, понимаю, что вся идеология этих яблок в том, что это кассовый аппарат по приёму денег от населения. Да я и готов отдать деньги — за возможность редактировать свои файлы word и смотреть фривольные ролики для поднятия настроения. Но хотел этот процесс оптимизировать.
Извините, если кого обидел.
05 декабря 2011
(обратно)
История про то, что два раза не вставать
Число дня — 2,718281828459045. Хорошее число, я всегда его любил. Отменное число, правду вам говорю.
Кстати, мне лента сует под нос памятку участникам будущего митинга. Мне чудится или нет фраза в памятке "На митинге будут беременные женщины". Типа, будьте с ними аккуратнее и пропускайте. Это человек оху… то есть, серьезно пишет?
И, чтобы два раза не вставать, (не хочу больше о страшном) спрошу вот что. А вот скажите, о сведущие в надкушенных яблоках люди, правда ли, что уже почти сделали word для iPad'ов? И что нам ждать его прям к нашему Православному Рождеству? Или это врут все? Может мне не надо тогда бесовских заменителей?
(Мне уже объяснили что ролики с флеш я не увижу по причине глубокого геморроя идеологии и несовместимости, и вопрос к поставить флеш я снимаю).
Извините, если кого обидел.
08 декабря 2011
(обратно)
История, чтобы два раза не вставать
Ну, что ж. Я, наконец, переехал — на трёх подводах, в жару и ангине, в окружении плачущих чад и домочадцев, под свист и улюлюканье уличных мальчишек, я переехал.
Дворник (за небольшую мзду) менял мне припарки, пока я командовал специально выписанными одесскими биндюжниками. Когда караван миновавал трамвайные пути, несколько люстр выпало из тюков, и брызги хрусталя на мгновенье оживили украденную тираном зиму.
Пересчёт ящиков при температуре 38 оказался изрядным аттракционом.
Ясно, что зубных щеток, в том числе и тех, что купил впрок, предвидя будущую неразбериху, я лишен навсегда.
Купить, что ли, микроволновку?
Кстати, чтобы два раза не вставать — прочитал в новостях: "В храме Христа Спасителя будет избрана "Женщина России 2011". Ведущим церемонии награждения будет известный писатель-прозаик Владимир Березин."
Завидуйте, суки.
Извините, если кого обидел.
18 декабря 2011
(обратно)
История про деревянного кота, чтобы два раза не вставать

Писатель Юзефович много лет назад подарил мне деревянного кота.
Деревянный кот говорит сам за себя.
Он говорит нам о том, что писатель Юзефович — нравственный человек и понимает толк в разном.
Если бы я был юношей, обдумывающим житьё, я бы делал жизнь с писателя Юзефовича.
Мне-то уже поздно, но вдруг кому-то повезёт.
Слава писателю Юзефовичу!
Долгих лет писателю Юзефовичу!
И, чтобы два раза не вставать, скажу, что сейчас этот кот придвинулся к своему бывшему хозяину, потому что я теперь живу с именинным сегодня писателем Юзефовичем в соседних домах.
Извините, если кого обидел.
18 декабря 2011
(обратно)
История про писателя Шарова и его отца
Какая-то тоска разлилась по Москве в вечернем сумраке.
И, чтобы два раза не вставать, расскажу про писателя Шарова. Дело в том, что я вчера ходил на одно мероприяте, где добрый писатель Шаров рассказывал про своего отца писателя Александра Шарова.
Перед тем, как попасть в танковый корпус под командованием дважды героя Советского Союза Бойко писатель Шаров служил в учебном полку. Там к нему относились снисходительно, потому что на весь полк, включая командира, он был единственный орденоносец. (Еще до войны его наградили орденом "Знак почёта" за участие в полярном перелёте. В этом учебном полку был унтер-офицер, понимавший толк в жизни и смерти. Он говорил: "Шаров, всем ты хороший солдат, но у тебя высшее образование, и поэтому ты затягиваешь шаг". "А еще ты, Шаров, высокий и будешь правофланговым, поэтому тебя убьют первым", говорил он так же. Впрочем, у этого унтера-философа бало еще одно наблюдение. Еще с первой мировой войны он вывел то, что интеллигенция вшивеет первой.
Потом мне рассказали история (нет, из этого надо сделать рассказ) <нрзб> "а не двенадцать. Не в одну сводку не попало".
Потом Шаров рассказал про то, как отец отбрехивался от упрёков в пьянстве. Он говорил, что окупил свою жизнь пять раз. Где-то в конце войны, в странной местности с рваной линией фронта, разведчики взяли пятерых пленных, но сами оказались в окружении. Местность была какая-то угрюмая — березняк да орешник. Патронов у них почти не осталось, хотя был "виллис". Капитан-разведчик решил пленных повесить, экономя патроны, и отходить к своим. Шаров вешать пленных не дал, они повздорили, схватились даже за пистолеты. В итоге Шаров посадил пленных позади себя и повез в штаб. Чехи и венгры сидели смирно, хотя легко могли уже в свою очередь удавить писателя-майора, что их вез. Прощаясь, они надавали Шарову своих телефонов. После войны, оказавшись проездом в Праге он позвонил по одному из номеров и — потому что его поила вся улица, дозвонившись, застрял в Праге на неделю. Он очень жалел, что не сохранились венгерские номера и сравнить чешское гостеприимство с мадьярским не вышло.
Маршал Жуков, который рассмеялся, когда Шаров ему сказал "Вы не имеете права меня расстреливать". Жукова, видимо, рассмешило, что он кого-то не может расстрелять.
А, вот ещё одна история — как до войны, Шаров-старший поехал куда-то и где-то на Каспии ему прямо на дороге встретились люди плакавшиеся на то, что у них отняли огороды.
Слово за слово — он поехал смотреть на всё это на месте. Его посадили в лодку и повезли на какой-то остров. Оказалось, что там — лепрозорий.
И он, долго еще, будучи биологом, высчитывал у себя инкубационный период проказы.
Извините, если кого обидел.
23 декабря 2011
(обратно)
История про то, что два раза не вставать
Со всеми этими движениями публики на свежем воздухе я забыл о том, что уже десять лет веду Живой Журнал. То есть, прошло довольно много времени с этого юбилея — так вышло, что код с приглашением мне подарил на день рождения один хороший человек. В трамваях мою спину называли ещё «молодой человек», не то что теперь.
Результаты более, чем скромные:
(#412491), 122 329 комментариев получено, 95 818 комментариев отправлено.
Платный аккаунт, заканчивается 2012-12-10
5 306 записей в журнале, 0 меток, 0 записей в избранном, 1 картинка пользователя
По этому поводу есть несколько мемориальных текстов.
Во-первых,http://berezin.livejournal.com/1285088.html ("кафе. com и приватность. netя).
Во-вторых, http://berezin.livejournal.com/1299797.html ("давнишнее интервью").
В-третьих, http://berezin.livejournal.com/1369477.html ("история про ЖКХ")..
Но, чтобы два раза не вставать, я скажу, что тут есть одно забавное обсоятельство. Живой Журнал вполне себе отражение русской действительности. То есть, это не просто история взлёта и падения… ну, хорошо — стагнации и умирания какой-то компании, а это зеркало какой угодно отрасли, включая нефтяную, и, собственно, общества.
Есть некий ресурс, есть народный энтузиазм, понемногу создающий капитализацию, есть команда эффективных менеджеров, потом начинается пелевинская монетизация, и сотрудники не стесняясь, рассказывают, как они отдыхают на побережьях Индийского и Тихого океана, потом ресурс начинает работать всё хуже и хуже… Эту историю я могу рассказывать и про начальника ЖЭКа у которого трубы текут. Собственно, и сотрудник администрации чего-нибудь живёт точно так же.
Мне, кстати, очень интересна этически и эстетически картина сотрудника компании СУП, что выходит на митинг за честные выборы в своём лыжном костюме и шапочке от BASK — в том, в чём второго января будет кататься в Альпах.
То, что «Поколение П» частично снималось в офисе СУПа я усматриваю не знамение, а необходимость судьбы. И недовольные каждым криворуким вмешательством в свои привычки люди легко прощают себе некоторую криворукость на службе и в быту.
Я за последний месяц видел довольно много рефлексии — от высокомерного презрения интеллигентов к завезённой молодёжи, до жажды непослушания, от страха перед бунтом, до скорби «пора уже положить конец безобразью, а том мы скоро начнём голодать»… Всё это меня укрепляет в моей мизантропии, да не в этом-то дело. Пока самым актуальным в области социальной истории России для меня остаётся рассказ Лескова «Бесстыдник», и история Живого Журнала нашего Отечества кажется мне наглядным подтверждением.
Извините, если кого обидел.
26 декабря 2011
(обратно)
Примечания
1
«Родной язык и литература», № 4–5, 1928, с. 179.
(обратно)
2
Ну, князь, нет, я вперёд вам говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы ещё позволите себе защищать все гадости все ужасы этого Антихриста (право, я верю, что он Антихрист), — я вас больше не знаю, вы уже не друг мой…
(обратно)
3
Я вижу, что я вас пугаю.
(обратно)
4
Сб. Колмогоров в воспоминаниях под ред. А.Н. Ширяева, — М.: Физматлит, 1993, стр. 377.
(обратно)
5
Особенностью этого текста, было то, что одно из стихотворений, вложенных в конверт вместе с ним, отпечатано на обороте служебного документа налоговой службы, что придаёт его чтению ридерами особую нервозность. Синтаксис и пунктуация оригинала сохранены, исправлены лишь очевидные опечатки. Обращает на себя внимание, что большинство предложений кончается многоточиями.
(обратно)
6
Тут примечательна эта скобка после буквы — то есть, точное следование написанию в учебнике.
(обратно)
7
Название песни «Золотой мираж» явно в массовом сознании перекликается с чрезвычайно успешными проектами восьмидесятых годов по клонированию группы «Мираж».
(обратно)
8
Очень показателен приоритетный список, символизирующий успех. Причём телевизионный канал, которым владеет герой именно дециметровый, как «Муз-ТВ» и «MTv».
(обратно)
9
В тексте большинство числительных написано цифрами.
(обратно)
10
А вот это совершенно чудесная идея — папа-президент, а сын его — премьер-министр. Видимо, это соответствует образу «Семьи» Ельцина. Кстати, существовала не только связка дочь Татьяна Дьяченко, сотрудник администрации Президента — отец Борис Ельцин, Президент РФ, но и будущий Президент РФ Владимир Путин несколько месяцев воспринимался в образе «сына» Ельцина, недаром по отношению к Путину тогда применялось слово «наследник».
(обратно)
11
Это наименее интересный фрагмент, явно написанный по следам выборов Президента, на которых победил Владимир Путин. Хотя после недавней заминки в ходе выборов президента США он преобретает ещё большую актуальность.
(обратно)
12
Это не совсем председатель ЛДПР Владимир Жириновский, но и лидер НБП Эдуард Лимонов. Впрочем, «громкое высказывание» может восприниматься в буквальном смысле — тогда этот политический деятель становится чем-то похож на красноярского губернатора Александра Лебедя.
(обратно)
13
Это очень интересная мотивация для Президента.
(обратно)
14
Тут интересно то, что медиамагнат начинает отвечать на вопрос подобно чиновнику Министерства внутренних дел.
(обратно)
15
Примечательно, что героиня, сверстница Президента и олигарха называется «девушкой». Это особая героиня мифологического пространства — пятидесятилетняя девушка.
(обратно)
16
А вот это абсолютно гениальный образ — образ медиамагната, что сидит на кухне утром один и уже сделал себе яичницу.
(обратно)
17
Такова горькая судьба олигарха в нашей стране. Надо сказать, что в этом образе как бы сливаются Борис Березовский и Сергей Лисовский — это обобщённый образ медиамагната и специалиста по шоу-бизнесу, причём Слава Валерьянов недаром участвует в президентских выборах. Закономерно и возбуждение уголовного дела на впавшего в немилость олигарха. (Причём ни о каком Ходорковском тогда никто и не думал).
(обратно)
18
Вся дальнейшая история просто выше всяких похвал — старик у ворот, деньги, накопленные на билет, неизвестные жёны, иркутская разлука… Это мексиканская серийный цветок, перенесённый в навозный горшочек русского фольклора.
(обратно)
19
Револьвер — предмет также мифологический. Митя в «Митиной любви» Бунина стреляется, достав из ящика «холодный и тяжёлый ком револьвера». Ср. у того же Бунина в «Кавказе» («Тёмные аллеи») — «Возвратясь в свой номер, он лёг на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов».
(обратно)
20
Чуковский Н. О том, что видел. — М.: Молодая гвардия, 2005, с. 16.
(обратно)
21
Макинцев (в ином написании Маканцов), Самсон Яковлевич (1770–1853), прежде чем стать генералом персидской армии, родился в русской солдатской семье и был вахмистром Нижегородского драгунского полка. В 1802 дезертировал, был принят персами на службу в Эриванский полк и стал там командовать ротой. Он быстро рос в чинах, и на персидско-турецкой войне (1821–1823) Самсон-хан командовал полком. Тогда же был пожалован генеральским званием, но во время войны с (1826–1827) отказался стрелять в своих соотечественников. Его назначили военным советником при новом командире русского полка. С 1828 года русским полком командовал бывший прапорщик Нашебургского полка Евстафий Васильевич Скрыплев, по совместительству — зять Макинцева. Баламберг писал об этом полке-батальоне так: Упомянутым батальоном, численностью около 500 человек, из которых половина были поляки, командовал некий Самсон-хан. Бывший вахмистр драгунского полка в Нижнем Новгороде, он дезертировал в 1807 г. во время осады Эривани графом Гудовичем и перешел на персидскую службу. Так как между Персией и Россией тогда не существовало соглашения о выдаче дезертиров, Фатх-Али-шах воспользовался этим обстоятельством и постепенно сформировал из дезертиров сначала роту, а затем и батальон. Бывший вахмистр Самсонов был произведен в полковники (серхенг) и назначен его командиром. С течением времени он вознесся до хана, его стали называть Самсон-хан и пожаловали генеральский титул. Батальон отличился во многих походах против курдов и туркмен и был сам очень опасен для персов, потому что солдаты были пропащими людьми; они бесчинствовали и в некоторой степени повиновались лишь своим офицерам (русским и полякам, принятым персидским правительством на службу). Многие женились на армянках или несторианках, обзавелись семьями, но ни один из них не сменил веру. Многих со временем охватила тоска по родине, но страх наказания удерживал беглецов в Персии. Многие стали пьяницами и влачили жалкое существование". Макинцев воевал в Туркмении и Афганистане, осадил и взял Герат, участвовал в противостоянии различных кланов при дворе, продолжил воевать на востоке, был тяжело ранен. Во время возвращения русского полка на родину, остался в Персии и умер в 1853 году в Сейгюле. Сохранивший Православие, он был похоронен под алтарём построенной им церкви.
(обратно)
22
Бларамберг Иван Федорович (8 апреля 1800, Франкфурт-на-Майне, — 8 декабря 1878, Симферополь), русский военный деятель, инженер и геодезист. Окончил университет во Франкфурте-на-Майне, по приезде в Россию работал в Генеральном штабе (с 1828). В 1835 году принимал участие в дипломатической миссии в Тегеране, где произвёл съёмку части территории Ирана. Произвёл съёмку берегов Каспийского моря, составил каталог астрономических и геодезических пунктов на территории России. Был председателем особой комиссии Русского географического общества, созданной для составления и печатания генеральной карты Европейской России.
(обратно)
23
Бларамберг И. Воспоминания. — М.: Наука, 1978, с. 150–154.
(обратно)
24
Ханыков Н. Очерк служебной деятельности генерала Альбранда. — Тифлис: тип. канцелярии Наместника Кавказского, 1850. С. 22–27.
(обратно)
25
Шпаковский Аполлон Игнатьевич (- 23 августа 1874) писатель. Получил домашнее воспитание, затем поступил на военную службу унтер-офицером в один из гусарских полков, но вскоре перешел на Кавказ и был зачислен в сословие кавказского линейного казачьего войска. Несколько раз ранен. «Кавказская боевая жизнь, воспоминания о тесном кружке товарищей и прекрасная кавказская природа возбудили в нем желание описать все им виденное. Обладая большим опытом, Ш. очень живо воспроизводил кавказскую боевую жизнь в рассказах и повестях, печатавшихся в "Военном Сборнике"» писал о нём "Русский Инвалид", 1874 г., № 213. — "Иллюстрированная Неделя", 1874 г., № 41.
(обратно)
26
Аполлон Шпаковский. Записки старого казака. — (См. «Военный Сборник» 1871 г. №№ 4, 8 и 11, и 1872 г. №№ 3 и 6.)http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Spakovskij_A/text8.htm
(обратно)
27
История XIX века под редакцией профессоров Лависса и Рамбо. — М.: ОГИЗ, 1938. Т. 4, с. 370.
(обратно)
28
История XIX века под редакцией профессоров Лависса и Рамбо. — М.: ОГИЗ, 1938. Т. 4, с. 365–367.
(обратно)
29
Феррери — Горькому. Письмо от 6.10.1922. // Литературное наследство. — М.: 1963, т. 70 с. 567.
(обратно)
30
Чебышев Н. «Близкая даль. Последние месяцы в Константинополе», Возрождение, 25 июля 1932. Цит. По Флейшман Л. Поэтесса-террористка// От Пушкина к Пастернаку. — М.: Новое литературное обозрение, 2003. с. 138.
(обратно)
31
Феррари Е. Эрифилли. — М.: Водолей, 2009. — 80 с. (Малый Серебряный век) ISBN: 978–5–91763–004–5.
(обратно)
32
Как и полагается, биографии этой жизни путаны и противоречивы. Вот, к примеру: «Феррари Елена Константиновна (Голубовская Ольга Федоровна) (1899–1938). Еврейка. Родилась в Екатеринославе в семье рабочих. Настоящая фамилия неизвестна. Активная участница профсоюзного, а затем революционного движения с 1913 г. В период Октябрьской революции на агитационно-пропагандистской работе в армии. В 1918–1920 гг. — сестра милосердия, рядовой боец, разведчица в тылу деникинских войск. По заданию советской военной разведки ушла с частями Белой армии в Турцию. Вела работу по разложению войск Антанты. В 1922–1923 гг. работала в Германии и Франции, в 1924–1925 гг. — в Италии. Действовала под видом эмигрантки-писательницы, выпустила книгу.
В январе 1926 г. состоящая в резерве РУ Штаба РККА Феррари Е.К. назначена сотрудником-литератором 3–1 части 3-го отдела РУ, а в июле того же года уволена со службы в РККА. В 1926–1930 гг. находилась вне РККА. С начала 30-х гг. — на нелегальной работе во Франции, помощник резидента. Постановлением ЦИК СССР от 21 февраля 1933 г. награждена орденом Красного Знамени за исключительные подвиги, личное геройство и мужество…
В июне 1933 года состоящая в распоряжении IV Управления Штаба РКК Феррари Е.К. выдержала письменные и устные экзамены по французскому языку, ей присвоено звание «военный переводчик I разряда» с правом на дополнительное вознаграждение. Август 1935 г. — февраль 1936 г. — помощник начальника отделения I (западного) отдела РУ РККА. В сентябре 1935 г. — помощник начальника отдела РУ РККА Феррари Е.К. выдержала испытания по французскому и английскому языкам. В феврале 1936 г. назначена состоящей в распоряжении РУ РККА, а в июне ей присвоено звание капитана. 1 декабря 1937 г. арестована, расстреляна 16 июня по обвинению в шпионаже и участии в контрреволюционной организации».
Со ссылкой на книгу Колпакиди и Прохорова в Сети ходит такая биография этой женщины: «Голубовская Ольга Федоровна (Феррари Елена Константиновна) 1899-16.06.1938. Капитан (1936).
Родилась в г. Екатеринославе в семье служащего; русская. Сестра военного разведчика В. Ф. Воли. С 14 лет участница рабочего, затем революционного движения. Образование среднее. Беспартийная. В период Октябрьской революции агитатор в воинских частях. Во время Гражданской войны в 1918–1920 гг. — сестра милосердия, красноармеец, разведчица в тылу деникинских войск. С 1920 г. работала в военной разведке. В 1920–1922 гг. находилась в Турции, куда ушла вместе с врангелевцами. В 1922–1925 гг. работала во Франции, Германии, Италии.
В январе-июле 1926 г. сотрудник-литератор 3-й части 3-го отдела Разведупра Штаба РККА. В 1926 г. была уволена со службы в РККА. В 1930–1935 гг. находилась в распоряжении IV управления Штаба РККА, резидент во Франции. В 1933 г. награждена орденом Красного Знамени «за исключительные подвиги, личное геройство и мужество». В августе 1935 — феврале 1936 г. пом. начальника отделения 1-го отдела Разведупра РККА. В феврале 1936 — декабре 1937 г. состояла в распоряжении Разведупра РККА. Знала английский, французский, немецкий, итальянский и турецкий языки. Проживала в Москве. Арестована 1 декабря 1937 г., Военной коллегией Верховного суда СССР 16 июня 1938 г. по обвинению в «шпионаже и в участии в контрреволюционной организации» приговорена к расстрелу, приговор приведен в исполнение в тот же день. Реабилитирована в 1957 г.» Однако, если посмотреть бумажный экземпляр книги с теми же выходными данными, то справка эта несколько скромнее: «Голубовская Ольга Фёдоровна (феррари Елена Константиновна) (1899–1606.1938) Русская. В Разведупре с 1920. Работала в Турции, Франции, Германии, Италии. Капитан (1936). В 1933 награждена орденом Красного Знамени. Арестована 1 декабря 1937, расстреляна 16 июня 1938».[1]
В книге Павлова «Женское лицо разведки»[1] приводится чуть другой текст: «Еврейка. Родилась в г. Екатеринославе в семье рабочих. Настоящая фамилия неизвестна.
Активная участница профсоюзного, а затем революционного движения с 1913 г.
В период Октябрьской революции на агитационно-пропагандистской работе в армии. В 1918–1920 гг. — сестра милосердия, рядовой боец, разведчица в тылу деникинских войск. По заданию советской военной разведки ушла вместе с частями Белой армии в Турцию. Вела работу по разложению войск Антанты.
В 1922–1923 гг. работала в Германии и Франции, в 1924–1925 гг. — в Италии. Действовала под видом эмигрантки-писательницы, выпустила книгу.
В январе 1926 г. состоящая в резерве РУ Штаба РККА Феррари Е. К. назначена сотрудником-литератором 3-й части 3-го отдела РУ, а в июле того же года уволена со службы в РККА. В 1926–1930 гг. находилась вне РККА.
С начала 30-х годов — на нелегальной работе во Франции, помощник резидента. Постановлением ЦИК СССР от 21 февраля 1933 г. награждена орденом Красного Знамени «за исключительные подвиги, личное геройство и мужество». В июне 1933 г. состоящая в распоряжении IV Управления Штаба РККА Феррари Е. К. выдержала письменные и устные испытания по французскому языку, ей присвоено звание «военный переводчик 1 разряда» с правом на дополнительное вознаграждение.
Август 1935—февраль 1936 гг. — помощник начальника отделения 1-го (западного) отдела РУ РККА. В сентябре 1935 г. помощник начальника отделения РУ РККА Феррари Е. К. выдержала испытания по французскому и итальянскому языкам. В феврале 1936 г. назначена состоящей в распоряжении РУ РККА, а в июне ей присвоено звание капитана. 1 декабря 1937 г. арестована и расстреляна 16 июня 1938 г. по обвинению в шпионаже и участии в контрреволюционной организации. Реабилитирована 23 марта 1957 г.»
(обратно)
33
Борис Сергеевич Евгеньев (1903–1984). Писатель, критик, автор книг для детей, путевых очерков. Был так же редактором издательства «Молодая гвардия».
(обратно)
34
Дьяков, Борис Александрович (1902–1992) — советский журналист и литератор, автор книги воспоминаний «Повесть о пережитом». Именно про эту книгу Солженицын писал в «Архипелаге ГУЛаг»: «Тут появились и "Записки придурка" Дьякова ("Записки о пережитом"), самодовольно утверждавшие изворотливость по самоустраиванию, хитрость выжить во что бы то ни стало… Лагерная биография Дьякова — самого горластого из благонамеренных, представлена его собственнным пером и достойна удивления. За пять лет своего срока он умудрился выйти за зону один раз — и то на полдня, за эти полдня он проработал полчаса, рубил сучья, и то надзиратель сказал ему: ты умаялся, отдохни. Полчаса за пять лет! — это не каждому уда?тся! Какое-то время он косил на грыжу, потом на свищ от грыжи — но, слушайте, не пять же лет! Чтобы получать такие золотые места, как медстатистик, библиотекарь КВЧ и каптер личных вещей, и держаться на этом весь срок — мало кому-то заплатить салом, вероятно и душу надо снести куму — пусть оценят старые лагерники. Да Дьяков еще не просто придурок, а придурок воинственный: в первом варианте своей повести, пока его публично не пристыдили, он с изяществом обосновывал почему умный человек должен избежать грубой народной участи ("шахматная комбинация", "рокировка" то есть, вместо себя подставить под бой другого). И этот человек берётся теперь стать главным истолкователем лагерной жизни!». Но даже и без Солжеицына всякий читатель, бело перелистав эту книгу может составить своё мнение. Сдаётся мне, это тот самый «разрешённый воздух», о котором говорил Мандельштам, или же «анализ мочи Горенфельда».
(обратно)
35
Ивинская О. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. — М.: Либрис, 1992, С. 269–273.
(обратно)
36
Готхарт Н. Двенадцать встреч с Анной Ахматовой. "Вопросы литературы", № 2, 1997.
(обратно)
37
Лазарев Л. Записки пожилого человека. «Знамя», № 6, 2001.
(обратно)
38
Вигель, Филипп Филиппович (1786–1856) — чиновник родом из обрусевшей шведской семьи. Бессарабский вице-губернатор (1824–1826), затем директор Департамента иностранных вероисповеданий (1829—40), тайный советник. Участник общества «Арзамас», автор примечательных мемуаров.
(обратно)
39
Н. Шмелькова, "Во чреве мачехи, или Жизнь — диктатура красного", — Спб.: Лимбус Пресс, 1999, 304 с.
(обратно)
40
Дедков И. “А я говорю вслух: конца света не будет…” Из дневниковых записей 1981–1982 годов. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой. Новый Мир» 1999, № 11.
(обратно)
41
Тхоржевский, Сергей Сергеевич (р. 1927) — петербургский писатель и переводчик. Репрессирован школьником в 1943, вернулся в Ленинград в 1955, автор шести книг.
(обратно)
42
Шкловский пишет о нём: «После ухода из Персии русских был вновь сформирован ассирийский отряд; во главе этого отряда стояли русские и ассирийские инструктора под руководством полковника Кондратьева. Отряд был сформирован 29 января 1918 года в городе Урмии». Ср. примечание на с. 438: «Кондратьев Алексей Николаевич — капитан, с 1916 года инструктор в Персидской казачьей дивизии, во время присутствия Шкловского в Персии, и. о. начальника штаба той же дивизии». Эта дивизия была переформирована в 1916 года из казачьей бригады. «Дополнительные расходы на ее содержание были возложены на русское правительство, а с декабря 1917 г. — и на британское правительство. Для поддержания порядка в Персии и борьбы с повстанцами с осени 1916 г. были сформированы отряды, входившие в дивизию: Ардебильский, Астрабадский, Гилянский, Зенджанский, Исфаганский, Казвинский, Карманшахский, Курдистанский, Луристанский, Мазандеранский, Мешхедский, Рештский, Тавризский, Тегеранский, Урмийский, Хамаданский, Хоросанский; Арагский стрелковый батальон, Конвойный взвод, Нестроевая команда Штаба дивизии. Был сформирован также Кадетский корпус Персидской е. в. шаха дивизии. Осенью 1920 г. шах заключил с британским правительством договор о замене всех русских чинов дивизии английскими инструкторами. Персидская е. в. шаха дивизия была ликвидирована в ноябре 1920 г».
(обратно)
43
Расстрелян и Зервандов Иосиф Иванович, 1904 г. р., уроженец с. Самоват Карсской обл., ассириец, беспартийный, чистильщик обуви артели "Трудассириец", проживал: г. Ленинград, Лиговская ул., д. 95, кв. 3. Арестован 4 февраля 1938 г. Особой тройкой УНКВД ЛО 10 марта 1938 г. приговорен по ст. ст. 17-58-8, 58–11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 18 марта 1938 г.
(обратно)
44
Материалы к биографическому словарю ассирийцев в России (XIX — середина XX века"). Составитель Стефан Садо. — Спб, 2003. с.33.
(обратно)
45
См. рецензию и а книгу В. Шкловского «Материал и стиль в романе Л. Толстого "Война и мир"» в журнале «На литературном посту», 1929, апрель (№ 7). (Примеч. Б. Эйхенбаума).
(обратно)
46
Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. — М., Премьера, 1999, С. 31.
(обратно)
47
Мирошкин А. Писатели, строители, чекисты. «Книжное обозрение», 14 апреля 1998.
(обратно)
48
Мариенгоф А. «Бессмертная трилогия».
(обратно)
49
Чудаков А. Спрашивая Шкловского «Литературное обозрение» № 6, 1990, с. 101.
(обратно)
50
Хрущёв Н. О коммунистическом воспитании. — М.: Политиздат, 1964, с. 94.
(обратно)
51
Материалы XXII съезда Коммунистической партии Украины. — М.: Политиздат, 1962, с. 228.
(обратно)
52
Хрущёв Н. О коммунистическом воспитании. — М.: Политиздат, 1964, с. 77.
(обратно)
53
Найман А. Рассказы об Анне Ахматовой. — М.: Художественная литература, 1998. С. 5.
(обратно)
54
Катанян В. Распечатанная бутылка. — Н. Новгород, ДЕКОМ. с. 250–251.
(обратно)
55
Шамардина Софья Сергеевна (1894–1980). Партийный и советский работник. Уроженка Минска, училась в Петенрбурге на Бестужевских курсах, во время первой мировой войны — сестра милосердия. Была женой Иосифа Адамовича одного из начальников «Акционерного Камчатского общества» (АКО), с 1934 по 1937 год. После того, как Адамович покончил с собой, репрессирована. В 60-е годы, поселись в Москве, написала воспоминания о Маяковском. Скончалась в пансионате старых большевиков в Переделкино.
(обратно)
56
Паперный З. Ели я что написал… «Знамя», № 8, 1998. Цит. так же по Золотоносов М. Слово и тело, — М.: Ладомир, 1999. С. 319.
(обратно)
57
Обвалы сердцу. Сб. — Б.м., 2001. с. 160.
(обратно)
58
В романе Михаила Анчарова есть упоминание этой мысли "Совсем не обязательно было задерживаться из-за банальной песенки "под Испанию", но Галку любили.
Ее любили за то, что она не боялась хотеть сразу, сейчас, и если ей нужна была песенка, она не откладывала до окончания войны, а срывала ее с дерева недозрелую, не дожидаясь, пока отшлифует свой вкус, Галку любили потому, что в ней жизни было на десятерых… Сапожников наконец выбрался в темный сад, отдышался и сорвал с дерева зеленое яблоко. В детстве ему очень хотелось стать мужчиной. Теперь он им стал. Ну и что хорошего? Кто-то сказал: если бы Адам пришел с войны, он бы в райском саду съел все яблоки еще зелеными". Анчаров М. Самшитовый лес. — М. АСТ, 1994. с. 31.
(обратно)
59
Лавинская Елизавета Александровна (1901–1949). Член группы Леф. Жена художника Антона Михайловича Лавинского (1893–1968).
(обратно)
60
Лавинская Е. Воспоминания о встречах с Маяковским// Маяковский в воспаоминаниях родных и друзей. — М.: Московский рабочий, 1968. С. 338.
(обратно)
61
Там же, 346.
(обратно)
62
Лавинская Елизавета Александровна (1901–1949). Член группы Леф. Жена художника Антона Михайловича Лавинского (1893–1968).
(обратно)
63
Симонов К. «Задачи советской драматургии и театральная критика», напечатанную в журнала "Новый мир" № 3, 1949. Сс. 182–185.
(обратно)
64
Дыгало В. Откуда что на флоте пошло. — М.: Крафт+, 2000, с. 217.
(обратно)
65
История хозяйства России в материалах и документах, Том 1. — М.: Государственное Издательство, 1926, с. 200.
(обратно)
66
Труды VII Международного Конгресса Славянской Археологии. — М.: Российская академия наук, Ин-т археологии, 1997.
(обратно)
67
Ленин В. ПСС, т. 42. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1958, с. 289.
(обратно)
68
Литературное наследство. Фёдор Иванович Тютчев. Книга. Первая, — М.: Наука. 1988. с. 469.
(обратно)
69
Как я люблю это выражение — "недалёкое будущее", "туповатое настоящее", "идиотское прошлое".
(обратно)
70
Отдельная победа Саймака в том, что у него есть мера фантазии — он придумал образ зла не в виде отвратительного, покрытого слизью тиранозавра (эко невидаль, так делали и до него, и после него). "Ни у какого другого существа в известных пределах вселенной колес не было. Он вдруг увидел перед собой пухлый пудинг, подвешенный между двумя колесами, ось которых проходила примерно через середину туловища. Колеса были одеты мехом, а обод, как он заметил, заменяли роговые затвердения. Низ пудингообразного тела свисал под осью, точно набитый мешок. Но худшее он обнаружил, подойдя поближе: вздутая нижняя часть была прозрачной, и внутри что-то непрерывно извивалось и копошилось — казалось, ты видишь огромную банку, наполненную червяками самых ярких расцветок. И эти извивающиеся червяки в этом обвислом безобразном брюхе действительно были если и не червями, то, во всяком случае, какими-то насекомыми, какой-то формой жизни, тождественной земным насекомым. Колесники представляли собой организмы-ульи, и их культура слагалась из множества таких ульев, каждый из которых был отдельной колонией насекомых или чего-то, что соответствовало насекомым в представлении землян".
(обратно)
71
Юмор в фентэзи явление, как правило, довольно, как говорит мой добрый товарищ Леонид Александрович "мерзотное". И вообщё всё это прихохатывание, ограниченный список приёмов "расшучивания" хорошо известен. Персонажи Саймака действительно много острят, но это особый тип острот, что тут же превращаются в мемы — "саблезубая подлость", "Bugs fall into it with wondrous selectivity", "Ну ничего вы не упустили, начав губить Харлоу Шарпа", "запишите просто "убит диким зверем" и всё такое.
(обратно)
72
Адамович Г. Сомнения и надежды. — М.: ОЛМА-пресс, 2002, с. 256.
(обратно)
73
Симонов К. Соб соч. в шести томах. — М. Художественная литература, 1970. с. 72.
(обратно)
74
Ши Пейпу (1938–2009) китайский певец, драматург и шпион. В 1964 году Ши познакомился с французским дипломатом Бурсико. Ему он поведал, что отец Ши хотел мальчика, и поэтому его дочь (то есть, сам Ши) притворяется мальчиком. У француза и китайца случился роман, и через год Ши объявил, что у них родился мальчик, который теперь живет в укромном месте. Понемногу Бурсико стал передавать Ши секретные документы, действуя ради спасения своего предполагаемого сына. В 1979 году француз вернулся на родину, а за ним перебрался в Париж и китаец со своим фальшивым сыном. На следствии Бурсико пытался покончить с собой, узнав о том, что его подруга — мужчина. В 1986 году Ши и Бурсико были приговорены к 6 годам тюрьмы за шпионаж В апреле 1987 года Ши помиловали но он не вернулся в Китай, а продолжил жить в Париже и пел там в опере.
(обратно)
75
Сельвинский И. О, юность моя! — М: Сов. писатель, 1967, с. 389.
(обратно)
76
Шумихин С. Судьба архива Ф.Ф. Раскольникова // Наше наследие, 1988. № 4. С. 83.
(обратно)
Оглавление
История про рассказ к первому января
История про новогодние фильмы
История про дарёные книги
История про волка
История про праздничную тоску
История про ночную музыку
История про жизнь
История про рождественский рассказ
История про проведение дней
История про Ваенгу
История про телевизор
История про IMHO
История про струнные и щипковые
История про веру в человечество
История про писателей
История про именинника
История с геологией
История про десантника
История про жертву "Титаника"
История про одну конференцию
История про одну рецензию
История про Гришковца
История про Крещенский мороз
История с мифами
История про интересы людей
История про фейсбук
История про Татьянин день
История про таможню
История про Ленинград
История про кино
История про главных
История про один фильм и его сценариста
История про апрельских ангелов
История про День Сурка
История декабря
История про типовое письмо
История про человека месяца
История про комментаторов
История про снег. Заметки фенолога
История про трусики
История про Сталинград
История про диковины
История про пропорции
История про колхозы и соратников
История про лица
История про Карлсона
История про фараона
История про ответы на вопросы
История текущих событий
История текущих событий
История про деньги
История про бобра
История про покинувших или желание быть Незнайкой
История про гипноз
История про рисунки на полях
История про покойников
История про ответы на вопросы
История про одну цитату
История про одну библиотеку
История про падающих людей
История про то, как сик транзит, глория-то, извините, мунди
История про быстротекущую жизнь
История про рекламу
История про Диалог CVI
История про весну
История про весну
История про тафономию
История по ходу календаря
История в ночном
История про день писателя
История про писателя Наумова
История про Фейсбук
История про стихи
История про март
История о времяпровождении
История о делании и не делании (давнишняя)
История (давняя) про старпёров
История о публичности
История про ночь
История про отрывок из старого письма в иностранный город Х
История про президентов
История биографического типа
История про технический прогресс
История про старые письма
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про мамонта
История про жизненные наблюдения
История про Грелку
История про астрономию
История про путешествия
История про кинофестиваль
История про ответы на вопросы
История про чудо-книгу
История про день метеорологии
История про ответы на вопросы
История про меня и Ливию
История про писателей
История в плане подливания масла
История про нового Франциска
История про две жизни
История про чернуху
История про одну статью
История про одно убийство
История по мешки
История про маленьких бесогончиков
История про снег
История про дни рождения
История про спам
История про прокладки
История про одного зоолога
История про приказ праздничного дня
История про книги
История про начальника геологического управления
История про статью Замятина о боязни
История про юмор
История по порядку ведения
История про прокладки
История про официантов
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про пятничный вечер
История про алкоголиков — 2
История про алкоголиков — 3
История про мирное небо
История про назидание
История про юбилейный полтинник
История про Березина и Довлатова
История про посмертные загадки
История про текущие наблюдения
История про радиоголоса
История про прикосновение к кумирам
История про поэта
История про происходящее за окном
История про вопросы и ответом
История про грелку
История про уготовления
История про кулич
История про Светлое Христово Воскресенье
История про науку
История про утренние звонки
История про воспоминания Чудакова о Шкловском
История о неверности
История про один мотив
История про Альбранда и русских персиян, а так же Скрыплева
История про издательские дела
История про персов и некоторых других
История про Гуковского
История про мемуары Каверина о Шкловском
История про E236
Истоория про алкоголиков и селёдку
История про одну поэтессу
История про ночь
История про Фердинанда
История про превращения
История про деревянные дома и дома каменные
История про мытьё головы
История про трёх старух
История об улучшении письма
История про статью Гуковского "Шкловский как историк литературы"
История про жизненный успех
История про адептов и оппонентов
История про семейный альбом
История про стриженых
История про новаторов
Истории текущего дня
История про айсора Зервандова
История про давнюю войну
История про шорты и бурление общественной жизни
История про эсэров, стог сена и работу о сюжетосложении
История о разном
История, которая называется "Новые сведения о Лазаре Зервандове"
История про то, как я слышал голоса
История про вторую мысль
История про ссылки
История про ответы на вопросы
История про озабоченных писателей
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про новости из Того
История про шпаргалку
История про газибо
История про Достоевского
История про желание быть Гоголем
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про нетбуки
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про даосов и поиск собственной координаты в мироздании
История про лето
История про молодость
История про сосну
История прор Эйхенбаума
История про воспоминания
История про ответы на вопросы
История про практический след одного разговора
История про мелкие праздники самолюбия
История про Юго-Запад
История про канал
История про Ясную поляну
История про фотографирование на похоронах
История про лето и Троицу
История о категориях
История про затруднения
История про Рязанское училище и Левый фронт искусств
История про кряк
История про рода войск
История про город Киев в 1918
История про чужой блуд
История про библеизмы
История про следы наших выступлений
История про сны Березина № 350
История про переписку Шкловского с Горьким
История про переписку Шкловского с женой Шкловской-Корди
История про переписку Шкловского с Тыняновым
История про переписку Шкловского с Эйхенбаумом
История для Вити Пенкина
История про работу
История про Чорного Сталкера
История про ЛЕФ
История про ЛЕФ
История про Ивана Купалу
История про разные предложения
История про купальскую ночь
История про летние чудеса
История про прототипы
История про Константина Симонова и драматургию
История про фильм "Трактористы"
История про девушку и фауста
История про странный дом
История про эфир
История про метафоры и прочее бессвязное
История про летнее времяпровождение
История про бульвары
История про internet addicted
История про одну статью
История про ответы на вопросы
История про столицу
История про SMS
История про дуэль
История про Плёс
История про письма мёртвого человека
История про неприятные сюрпризы
История про стаканы
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про интересные покупки
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про именины
История про ответы на вопросы
История про технологии
История про день ВМФ
История про законы
История про день ВДВ
История про лето
История про поташ
История из книги "Пособие по сетевому флейму"
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про вечер
История про ответы на вопросы
История про людей
История про день железнодорожника
История к 12 августа
История про табло
История про одну рецензию на Шкловского
История про субботу
История про ответы на вопросы
История про facebook
История про ответы на вопросы
История про актрису с кораблём
История про урок князя Болконского
История про ответы на вопросы
История про наблюдения за жизнью
История про ответы на вопросы
История про гоблинов
История текущих событий
История про ответы на вопросы
История про эпопеи
История про репу
История про глюкозу
История про Фарадея
История про ответы на вопросы
История про телевизор
История про планы
История про газеты
История про термины и состояния
История про спаммеров
История текущих вопросов
История про ответы на вопросы
История про ответы на вопросы
История про удивительное письмо
История про фиалки
История про жизнь и смерть
История про ночные разговоры
История про бетонную плитку
История про цветы (продолжая рассуждать о сумасшедших фиалочниках)
История про вечерний телевизор
История про контригры
История про зачистку архивов
История про униформистов
История про телефон
История про Козлову засеку
История ко второму воскресенью сентября
История про День танкиста
История про Лихачёва и Панченко
История про московские дела
История про разговоры
История про наблюдения за эстрадой (VI)
История про ответы на вопросы
История про русский лес
История про битву титанов
История про сюжеты и сплетни
История про жюльверновские описи
История про Nokia E7
История про мелкую моторику
История про путешествия
История про неожиданные воспоминания
История про охотничье счастье
История про Зоологический музей
История фенологического типа
История про контекстную замену
История про лошадей
История про разговоры
История про актёров и актрис, а так же воспитателей
История про кино
История о экспериментах
История про Мордовию
История про текущую литературную жизнь
История про докудраму
История про одно вставание
История про Среду и Сеть
История про Париж
История о ТП
История про то, что два раза не вставать
История про ответы на вопросы
История чтобы два раза не вставать
История про то, что два раза не вставать
История, чтобы два раза не вставать
История про то, что два раза не вставать
История, чтобы два раза не вставать
История чтобы два раза не вставать
История как два раза не вставать
История про то, что два раза не вставать
История про то, что раза не вставать
История про то, что два раза не вставать
История про то, что два раза не вставать
История, чтобы два раза не вставать
История про то, что два раза не вставать
История про то, что два раза не вставать
История про то, что два раза не вставать
История, чтобы два раза не вставать
История про деревянного кота, чтобы два раза не вставать
История про писателя Шарова и его отца
История про то, что два раза не вставать
*** Примечания ***

 — А знаешь, — вдруг сказал он. — Давай посмотрим, что там, в твоей посылке? Интересно ведь!
— Да иди ты к бую, — сказал я. — Ты понимаешь, что говоришь? Тебе забава, а я потом не отмоюсь, может.
Он обиделся, и в тот день мы больше не читали.
Начал моросить противный мартовский дождь. Вот она, весна, — впрочем, я старался не жаловаться, ведь чаще всего именно когда заходит речь о погоде, люди наполняют вою речь жалобами и предложениями. Когда холодно и ясно, они жалуются на холод, когда наступит летняя жара — на жару. Манят дождь, а как дождь зарядит, неблагодарные пайщики требуют великую сушь. Гибрид персонажей Искандера с персонажем Олейникова. Как изменится что — так и жалуются. Как поплывут зимние какашки по улицам, как увидим, кто где срал, так вновь заплачут любители психотерапевтического выговаривания. И опять потянутся жалобы, начнутся слёзы в буквах. Нет, уроды, нечего вам жаловаться. Хрен вам в грызло. Не гневите Бога. Нет, я знаю, что всё равно вы будете ныть, высчитывая градусы и миллиметры ртутных столбов, хотя, как я знаю, среди вас нет угрюмых мужиков, копошащихся в яме с дырявыми трубами теплоцентрали или там часовых, мёрзнущих у братских могил. Напрасно я это говорю, ведь всё равно ничего не изменится. Я и сам знаю, но это как писал мой любимый Шкловский: «Мне скажут, что это к делу не относится, а мне-то какое дело. Я-то должен носить все это в душе?»…
И тут же, ожидая машины, в которой увезёт нас Елпидифор Сергеевич отсюда куда подальше, я начал жаловаться. Дождь поливал подмосковную землю, стучал по жестяной крыше.
Ну что за весна, что за ужас? — так я собрался сказать, но вдруг заснул и во сне уже поднялся, обхватил руками проклятый свёрток с иностранной посылкой, сел в приехавшую машину, привалился к плечу Синдерюшкина и сладко зачмокал, покрутив носом.
А вот не заснул бы я тогда — попросил бы вовремя остановить машину и к ночи попал домой, а не в совершенно непонятное, странное место.
— А знаешь, — вдруг сказал он. — Давай посмотрим, что там, в твоей посылке? Интересно ведь!
— Да иди ты к бую, — сказал я. — Ты понимаешь, что говоришь? Тебе забава, а я потом не отмоюсь, может.
Он обиделся, и в тот день мы больше не читали.
Начал моросить противный мартовский дождь. Вот она, весна, — впрочем, я старался не жаловаться, ведь чаще всего именно когда заходит речь о погоде, люди наполняют вою речь жалобами и предложениями. Когда холодно и ясно, они жалуются на холод, когда наступит летняя жара — на жару. Манят дождь, а как дождь зарядит, неблагодарные пайщики требуют великую сушь. Гибрид персонажей Искандера с персонажем Олейникова. Как изменится что — так и жалуются. Как поплывут зимние какашки по улицам, как увидим, кто где срал, так вновь заплачут любители психотерапевтического выговаривания. И опять потянутся жалобы, начнутся слёзы в буквах. Нет, уроды, нечего вам жаловаться. Хрен вам в грызло. Не гневите Бога. Нет, я знаю, что всё равно вы будете ныть, высчитывая градусы и миллиметры ртутных столбов, хотя, как я знаю, среди вас нет угрюмых мужиков, копошащихся в яме с дырявыми трубами теплоцентрали или там часовых, мёрзнущих у братских могил. Напрасно я это говорю, ведь всё равно ничего не изменится. Я и сам знаю, но это как писал мой любимый Шкловский: «Мне скажут, что это к делу не относится, а мне-то какое дело. Я-то должен носить все это в душе?»…
И тут же, ожидая машины, в которой увезёт нас Елпидифор Сергеевич отсюда куда подальше, я начал жаловаться. Дождь поливал подмосковную землю, стучал по жестяной крыше.
Ну что за весна, что за ужас? — так я собрался сказать, но вдруг заснул и во сне уже поднялся, обхватил руками проклятый свёрток с иностранной посылкой, сел в приехавшую машину, привалился к плечу Синдерюшкина и сладко зачмокал, покрутив носом.
А вот не заснул бы я тогда — попросил бы вовремя остановить машину и к ночи попал домой, а не в совершенно непонятное, странное место.
 О! Сейчас мне по телевизору показывают фильм "Две жизни". Я как раз вспоминал его, потому что рассуждал о нём в книжке. "Был один советский фильм, суть которого я переиначил в своём воспоминании. Мне казалось что там, в начале шестидесятых годов, с круизного лайнера (здесь аллюзия на фильм «Бриллиантовая рука») на французскую землю сходят советские туристы. И вот в ресторанчике один из них, советский генерал, рассказывает историю своей жизни, не замечая, что его подслушивает официант. И мне казалось, что генерал был в молодости денщиком у будущего официанта, а потом их развела Гражданская война. Однако в настоящем фильме денщик был молодым офицером и пал жертвой розыгрыша в каком-то имении, но дело не в этом. Здесь очень интересная задача в области прагматики (если отвлечься от идеологии и идеалов). Например, понятно, что в 1916 году быть офицером лучше, чем денщиком.
А вот когда настал двадцатый год, и уже началась давка у ялтинского причала — лучше быть краскомом и бывшим денщиком.
Но понятно, что французскому официанту не грозит чистка и 1937 год. А вот красный командир крепко рискует — рискует он и попасть в котёл под Киевом. Однако в 1950 году генерал Советской армии живёт несколько лучше, чем официант в Ницце. Допустим, они оба Мафусаилы, и вот наступает 1991 год. И вот одинокому французскому официанту (или метрдотелю — должен же он расти) опять несколько лучше, чем одинокому отставному советскому генералу в его московской, а то и хабаровской квартире.
— Что? — ответил мне Синдерюшкин вопросом. — Что, брат, мы хотим? Хочется выжить и иметь кусок хлеба с маслом и никаких бомбёжек? Хочется ли преуспеть? Хочется ли прославиться? Это всё очень интересно в мечтаниях, да только никто их точно сформулировать не может. Например, вот тебе вариант не первый и не второй — судьба советского командарма в общем-то завидна: чёрная «эмка», белая скатерть в санатории имени Фрунзе, на груди горят четыре ордена, и — апоплексический удар за переполненным столом, пока чекисты медленно поднимаются по лестнице. Или пожить всласть, награбить и наесться, всласть натешиться девичьими телами в бандитском логове — а потом схлопотать пулю от немытых голодных ревкомовцев. При этом ревкомовцы останутся до смерти голодными — будут лежать в грязи под телегою, жевать промокший хлеб и думать про город-сад, потом получат свои срока и снова — в грязь под телегу, а потом на войне то ж, пока не пресечётся их жизнь, полная убеждений.
А можно лелеять мысль об удачном воровстве активов с ноября по июнь и бегстве в Европу, а то и в Америку… Но мы ведь понимаем, что такое Европа в восемнадцатом году. В Германии голод, вспыхивают то там, то сям революции. (Швейцария тогда, кстати, была небогатой и совершенно непривлекательной.) Ну ладно, сбежали в Америку, поднялись за десять лет и вложили активы в фондовый рынок. И прыг в Гудзон вниз головой с известного моста.
Было бы прилично и в Сербию, и родные купола горели бы среди белградских улиц. Однако ж и оттуда в 1945-м можно было уехать эшелоном куда подальше, а то и повиснуть в петле. То же касается и Харбина. В Аргентине можно попасть под раздачу Перону, по соседству — прочим диктатурам.
Можно осесть в Праге и стать рантье, но в 1947-м этой радости придёт конец, поскольку во второй половине XX века быть рантье можно только западнее Вернигероде. Да и судьба официанта или таксиста в 1940-м могла сложиться по-разному. Понятно, что французы особо не жаловали Сопротивление, но отчего не разделить судьбу Вики Оболенской?
Всё дело, конечно, в том, как именно доживать — как очутиться в скромной норке, мелком уюте, который нужно спасти от горячего дыхания истории-монстра?
— Это, — ткнул в меня пальцем Синдерюшкин, и ткнул как-то очень обидно, унизительно ткнул. — Это всё сны несчастного Бальзаминова, расплывчатая мечта Макара Девушкина. Это всё твоё смутное мандельштамовское желание спастись от века-волкодава под какой-нибудь иностранной шубой, потому что какое дело умирающему в девяностом году отставному генералу до былых заслуг. Нищета на его пороге и неправильные выборы в его жизни — лишь фантом.
— Ну а если за тобой пришёл голод или люди с ружьями?
— Если за тобой пришли люди с ружьями — то отчего же не перейти пограничную реку вброд? Или, если стало голодно, не сесть на лодочку и причалить к европейским берегам? Просто выбор этот не навечно, и определяет он конкретное спасение, от конкретных людей с ружьями, а не спасение навсегда. И у твоего («Почему моего? — опять обиделся я) парижского таксиста Газданова в «Призраке Александра Вольфа» есть такая история: «К шаху пришел однажды его садовник, чрезвычайно взволнованный, и сказал ему: «Дай мне самую быструю твою лошадь, я уеду как можно дальше, в Испагань. Только что, работая в саду, я видел свою смерть». Шах дал ему лошадь, и садовник ускакал в Испагань. Шах вышел в сад; там стояла смерть. Он сказал ей: «Зачем ты так испугала моего садовника, зачем ты появилась перед ним»? Смерть ответила шаху: «Я не хотела этого делать. Я была удивлена, увидя твоего садовника здесь. В моей книге написано, что я встречу его сегодня ночью далеко отсюда, в Испагани». Сомерсет Моэм рассказывает эту историю, используя иные географические названия".
О! Сейчас мне по телевизору показывают фильм "Две жизни". Я как раз вспоминал его, потому что рассуждал о нём в книжке. "Был один советский фильм, суть которого я переиначил в своём воспоминании. Мне казалось что там, в начале шестидесятых годов, с круизного лайнера (здесь аллюзия на фильм «Бриллиантовая рука») на французскую землю сходят советские туристы. И вот в ресторанчике один из них, советский генерал, рассказывает историю своей жизни, не замечая, что его подслушивает официант. И мне казалось, что генерал был в молодости денщиком у будущего официанта, а потом их развела Гражданская война. Однако в настоящем фильме денщик был молодым офицером и пал жертвой розыгрыша в каком-то имении, но дело не в этом. Здесь очень интересная задача в области прагматики (если отвлечься от идеологии и идеалов). Например, понятно, что в 1916 году быть офицером лучше, чем денщиком.
А вот когда настал двадцатый год, и уже началась давка у ялтинского причала — лучше быть краскомом и бывшим денщиком.
Но понятно, что французскому официанту не грозит чистка и 1937 год. А вот красный командир крепко рискует — рискует он и попасть в котёл под Киевом. Однако в 1950 году генерал Советской армии живёт несколько лучше, чем официант в Ницце. Допустим, они оба Мафусаилы, и вот наступает 1991 год. И вот одинокому французскому официанту (или метрдотелю — должен же он расти) опять несколько лучше, чем одинокому отставному советскому генералу в его московской, а то и хабаровской квартире.
— Что? — ответил мне Синдерюшкин вопросом. — Что, брат, мы хотим? Хочется выжить и иметь кусок хлеба с маслом и никаких бомбёжек? Хочется ли преуспеть? Хочется ли прославиться? Это всё очень интересно в мечтаниях, да только никто их точно сформулировать не может. Например, вот тебе вариант не первый и не второй — судьба советского командарма в общем-то завидна: чёрная «эмка», белая скатерть в санатории имени Фрунзе, на груди горят четыре ордена, и — апоплексический удар за переполненным столом, пока чекисты медленно поднимаются по лестнице. Или пожить всласть, награбить и наесться, всласть натешиться девичьими телами в бандитском логове — а потом схлопотать пулю от немытых голодных ревкомовцев. При этом ревкомовцы останутся до смерти голодными — будут лежать в грязи под телегою, жевать промокший хлеб и думать про город-сад, потом получат свои срока и снова — в грязь под телегу, а потом на войне то ж, пока не пресечётся их жизнь, полная убеждений.
А можно лелеять мысль об удачном воровстве активов с ноября по июнь и бегстве в Европу, а то и в Америку… Но мы ведь понимаем, что такое Европа в восемнадцатом году. В Германии голод, вспыхивают то там, то сям революции. (Швейцария тогда, кстати, была небогатой и совершенно непривлекательной.) Ну ладно, сбежали в Америку, поднялись за десять лет и вложили активы в фондовый рынок. И прыг в Гудзон вниз головой с известного моста.
Было бы прилично и в Сербию, и родные купола горели бы среди белградских улиц. Однако ж и оттуда в 1945-м можно было уехать эшелоном куда подальше, а то и повиснуть в петле. То же касается и Харбина. В Аргентине можно попасть под раздачу Перону, по соседству — прочим диктатурам.
Можно осесть в Праге и стать рантье, но в 1947-м этой радости придёт конец, поскольку во второй половине XX века быть рантье можно только западнее Вернигероде. Да и судьба официанта или таксиста в 1940-м могла сложиться по-разному. Понятно, что французы особо не жаловали Сопротивление, но отчего не разделить судьбу Вики Оболенской?
Всё дело, конечно, в том, как именно доживать — как очутиться в скромной норке, мелком уюте, который нужно спасти от горячего дыхания истории-монстра?
— Это, — ткнул в меня пальцем Синдерюшкин, и ткнул как-то очень обидно, унизительно ткнул. — Это всё сны несчастного Бальзаминова, расплывчатая мечта Макара Девушкина. Это всё твоё смутное мандельштамовское желание спастись от века-волкодава под какой-нибудь иностранной шубой, потому что какое дело умирающему в девяностом году отставному генералу до былых заслуг. Нищета на его пороге и неправильные выборы в его жизни — лишь фантом.
— Ну а если за тобой пришёл голод или люди с ружьями?
— Если за тобой пришли люди с ружьями — то отчего же не перейти пограничную реку вброд? Или, если стало голодно, не сесть на лодочку и причалить к европейским берегам? Просто выбор этот не навечно, и определяет он конкретное спасение, от конкретных людей с ружьями, а не спасение навсегда. И у твоего («Почему моего? — опять обиделся я) парижского таксиста Газданова в «Призраке Александра Вольфа» есть такая история: «К шаху пришел однажды его садовник, чрезвычайно взволнованный, и сказал ему: «Дай мне самую быструю твою лошадь, я уеду как можно дальше, в Испагань. Только что, работая в саду, я видел свою смерть». Шах дал ему лошадь, и садовник ускакал в Испагань. Шах вышел в сад; там стояла смерть. Он сказал ей: «Зачем ты так испугала моего садовника, зачем ты появилась перед ним»? Смерть ответила шаху: «Я не хотела этого делать. Я была удивлена, увидя твоего садовника здесь. В моей книге написано, что я встречу его сегодня ночью далеко отсюда, в Испагани». Сомерсет Моэм рассказывает эту историю, используя иные географические названия".
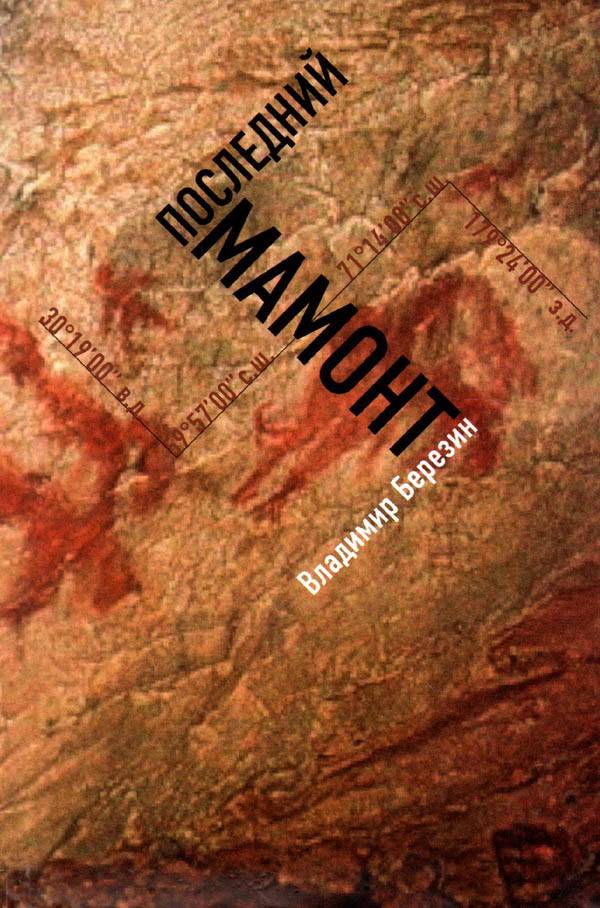 Ну, что — все сфабриковали на машинке фальшивый приказ об увольнении Кукушкинда? Все разослали его по двадцати адресам?
Это обязательно нужно сделать — ведь этот приказ № м228 уже 228 раз обошёл вокруг света.
И кто перепишет его двадцать раз — будет тому счастье.
А кто не перепишет его двадцать раз и не разошлёт друзьям — будет тому несчастье.
Маршал Тухачевский не переписал этот приказ двадцать раз, пожалел ленты на пишущей машинке "Ундервуд" — и прямо утром за ним пришли.
А вот маршал Ворошилов не пожалел ни ленты, ни своего времени — и сам пришёл за маршалом Тухачевским. И потом ещё много лет жил счастливо и богато, и даже посетил Индию.
А одна крестьянка перепечатала этот приказ двадцать раз, хотя и была неграмотна — и ей сразу было счастье.
Ей выдали по шесть луковиц на трудодень, и было ей оттого счастье.
А вот хасид Шнеерзон выкинул пришедший ему по почте приказ в корзину, и сразу было ему несчастье. Ему пришлось уехать в Израиль, где ему запретили есть сало и кататься на лифте по субботам.
А вот демократический человек Долидзе, служивший в одной бесперспективной партии переписал приказ об увольнении Кукушкинда, и сразу стал членом новой правящей партии и очень перспективным партийным работником.
И одна девушка, что боялась залететь, переписала этот приказ десять раз, и судьба стала к ней благосклонна — теперь у неё вообще никогда не будет детей..
А космонавт Трофимов получил этот приказ в письме перед стартом и не стал его переписывать.
И было ему несчастье. Его ракета промахнулась и улетела на Марс — и с тех пор космонавт Трофимов ходит по Марсу и питается какими-то червяками. А первым космонавтом вместо него стал Юрий Гагарин, который сами понимаете что сделал.
Торопитесь, ведь переписать и разослать приказ об увольнении Кукушкинда можно только один раз в году, то есть сегодня.
Секретные слова из этого приказа такие — хуггр-муггр, Даниил Андреев, 6814555ух.
Ну, что — все сфабриковали на машинке фальшивый приказ об увольнении Кукушкинда? Все разослали его по двадцати адресам?
Это обязательно нужно сделать — ведь этот приказ № м228 уже 228 раз обошёл вокруг света.
И кто перепишет его двадцать раз — будет тому счастье.
А кто не перепишет его двадцать раз и не разошлёт друзьям — будет тому несчастье.
Маршал Тухачевский не переписал этот приказ двадцать раз, пожалел ленты на пишущей машинке "Ундервуд" — и прямо утром за ним пришли.
А вот маршал Ворошилов не пожалел ни ленты, ни своего времени — и сам пришёл за маршалом Тухачевским. И потом ещё много лет жил счастливо и богато, и даже посетил Индию.
А одна крестьянка перепечатала этот приказ двадцать раз, хотя и была неграмотна — и ей сразу было счастье.
Ей выдали по шесть луковиц на трудодень, и было ей оттого счастье.
А вот хасид Шнеерзон выкинул пришедший ему по почте приказ в корзину, и сразу было ему несчастье. Ему пришлось уехать в Израиль, где ему запретили есть сало и кататься на лифте по субботам.
А вот демократический человек Долидзе, служивший в одной бесперспективной партии переписал приказ об увольнении Кукушкинда, и сразу стал членом новой правящей партии и очень перспективным партийным работником.
И одна девушка, что боялась залететь, переписала этот приказ десять раз, и судьба стала к ней благосклонна — теперь у неё вообще никогда не будет детей..
А космонавт Трофимов получил этот приказ в письме перед стартом и не стал его переписывать.
И было ему несчастье. Его ракета промахнулась и улетела на Марс — и с тех пор космонавт Трофимов ходит по Марсу и питается какими-то червяками. А первым космонавтом вместо него стал Юрий Гагарин, который сами понимаете что сделал.
Торопитесь, ведь переписать и разослать приказ об увольнении Кукушкинда можно только один раз в году, то есть сегодня.
Секретные слова из этого приказа такие — хуггр-муггр, Даниил Андреев, 6814555ух.



 Но чья-то безжалостная рука начала отнимать у меня стакан.
Оказалось, что я давно сплю, а Гольденмауэр трясёт нас с Рудаковым, схватив обоих за запястья. Мы вывалились, крутя головами, на перрон.
— Чё это? Чё? — непонимающе бормотал Рудаков.
— Приехали, — требовательно сказал Гольденмауэр. — Дорогу показывай.
— Какая дорога? Где? — продолжал Рудаков кобениться. — Может тебе пять футов твои показать?
Потом, правда, огляделся и недоумённо произнёс:
— А где это мы? Ничего не понимаю.
— Приехали куда надо. Это ж Бубенцово.
На здании вокзала действительно было написано «Бубенцово», но ясности это не внесло.
— А зачем нам Бубенцово? — вежливо спросил Рудаков.
— Мы ж на дачу едем.
— Может, мы куда-то и едем, да только при чём тут это Бубенцово-Зажопино? Позвольте спросить? А? — Рудаков ещё добавил в голос вежливости.
Мы с мосластой развели их в стороны, и, всё ещё придерживая, задумались. Никто не помнил, куда нам нужно и, собственно, даже какая нам нужна железнодорожная ветка. Спроси нас кто про ветку — мы бы не ответили. А сами мы были как железнодорожное дерево, были мы пропитаны зноем, будто шпала — креозотом или там бишофитом каким. Отступать, впрочем, не хотелось — куда там отступать.
— А пойдём пива купим? — вдруг сказала мосластая.
Я её тут же зауважал. Даже не могу сказать, как я её зауважал.
Мы подошли к стеклянному магазину и запустили туда Рудакова с мосластой.
Мы с Лёней закурили, и он, как бы извиняясь, сказал:
— Ты знаешь, я не стал бы наседать так — ни на тебя, ни на Рудакова, но очень хотелось барышню вывести на природу. А ведь дачи — всегда место не только романтическое, но и многое объясняющее. Мне на дачах многое про женщин открывается. Как-то я однажды был в гостях у своего приятеля. Назвал приятель мой друзей в свой загородный дом, а друзья расплодились, как тараканы, да и принялись в этом доме жить. Я даже начал бояться, что приятель мой поедет в соседний городок и позовёт полицаев — помогите, дескать, бандиты дом захватили. Разбирайся потом, доказывай…
Гольденмауэр сделал такое движение, что можно было бы подумать, будто он провёл всю молодость по тюрьмам и ссылкам.
— …Но как-то все, наконец, устали и собрались домой. Лишь одна гостья куда-то делась, в последний раз её видели танцующей под «Хава нагилу» под дождём на пустых просеках. Мы стали её ждать и продолжили посиделки. В этом ожидании я наблюдал и иную девушку, что делала странные пассы над головами гостей. У меня, например, этими пассами она вынула из левого уха какую-то медузу. По всей видимости, это был специальный термин, сестра чакр и энергетических хвостов. Знаешь, так и живу теперь — без медузы.
В первый момент жизнь без медузы мало чем отличалась от жизни с медузой — тем более медуза после извлечения оставалась невидимой. Но потом произошло то, что навело меня на мысли об участии Бога в моей жизни.
Я к чему тебе всё это рассказываю? Дело в том, что несколько лет назад я ухаживал за одной барышней. Несмотря на платоничность отношений, я серьёзно задумывался тогда о том, понравилось ли бы ей пить со мной кофе по утрам. Надо сказать, эта девушка была красива, а ум её обладал известной живостью. Однако это было несколько лет назад, и вот, наконец, я встретил её в дачной местности.
Так вот, после того как из меня вынули медузу, я вдруг обнаружил, что в другом конце стола сидит страшная тётка. Такое приключается в венгерских фильмах, которые мы с тобой так любили в нашем пионерском детстве, в тех детских фильмах, в которых принц, оттоптав свои железные сапоги и миновав все препятствия, сжимает в объятьях принцессу. Но та внезапно превращается в злобную ведьму.
Очень я удивился этому превращению. Видимо, Господь спас меня тогда от утреннего кофе и сохранил для какого-то другого испытания. Более страшного…
Наши друзья пробыли внутри магазина полгода и наконец выкатились оттуда с десятью пакетами. В зубах у Рудакова был зажат холодный чебурек.
Надо было глотнуть противного тёплого пива, а потом решительно признаться друг другу в том, что мы не знаем, что делать.
Спас всех, как всегда, я. Увидев знакомую фигуру на площади у автобусов, я завопил:
— Ва-аня!
Знакомая фигура согнулась вдвое, и за ней обнаружились удочки.
Рудаков ловко свистнул по-разбойничьи, и из человека выпал и покатился зелёный круглый предмет, похожий на мусорную урну.
Фигура повернулась к нам. Это был Ваня Синдерюшкин собственной персоной.
Но чья-то безжалостная рука начала отнимать у меня стакан.
Оказалось, что я давно сплю, а Гольденмауэр трясёт нас с Рудаковым, схватив обоих за запястья. Мы вывалились, крутя головами, на перрон.
— Чё это? Чё? — непонимающе бормотал Рудаков.
— Приехали, — требовательно сказал Гольденмауэр. — Дорогу показывай.
— Какая дорога? Где? — продолжал Рудаков кобениться. — Может тебе пять футов твои показать?
Потом, правда, огляделся и недоумённо произнёс:
— А где это мы? Ничего не понимаю.
— Приехали куда надо. Это ж Бубенцово.
На здании вокзала действительно было написано «Бубенцово», но ясности это не внесло.
— А зачем нам Бубенцово? — вежливо спросил Рудаков.
— Мы ж на дачу едем.
— Может, мы куда-то и едем, да только при чём тут это Бубенцово-Зажопино? Позвольте спросить? А? — Рудаков ещё добавил в голос вежливости.
Мы с мосластой развели их в стороны, и, всё ещё придерживая, задумались. Никто не помнил, куда нам нужно и, собственно, даже какая нам нужна железнодорожная ветка. Спроси нас кто про ветку — мы бы не ответили. А сами мы были как железнодорожное дерево, были мы пропитаны зноем, будто шпала — креозотом или там бишофитом каким. Отступать, впрочем, не хотелось — куда там отступать.
— А пойдём пива купим? — вдруг сказала мосластая.
Я её тут же зауважал. Даже не могу сказать, как я её зауважал.
Мы подошли к стеклянному магазину и запустили туда Рудакова с мосластой.
Мы с Лёней закурили, и он, как бы извиняясь, сказал:
— Ты знаешь, я не стал бы наседать так — ни на тебя, ни на Рудакова, но очень хотелось барышню вывести на природу. А ведь дачи — всегда место не только романтическое, но и многое объясняющее. Мне на дачах многое про женщин открывается. Как-то я однажды был в гостях у своего приятеля. Назвал приятель мой друзей в свой загородный дом, а друзья расплодились, как тараканы, да и принялись в этом доме жить. Я даже начал бояться, что приятель мой поедет в соседний городок и позовёт полицаев — помогите, дескать, бандиты дом захватили. Разбирайся потом, доказывай…
Гольденмауэр сделал такое движение, что можно было бы подумать, будто он провёл всю молодость по тюрьмам и ссылкам.
— …Но как-то все, наконец, устали и собрались домой. Лишь одна гостья куда-то делась, в последний раз её видели танцующей под «Хава нагилу» под дождём на пустых просеках. Мы стали её ждать и продолжили посиделки. В этом ожидании я наблюдал и иную девушку, что делала странные пассы над головами гостей. У меня, например, этими пассами она вынула из левого уха какую-то медузу. По всей видимости, это был специальный термин, сестра чакр и энергетических хвостов. Знаешь, так и живу теперь — без медузы.
В первый момент жизнь без медузы мало чем отличалась от жизни с медузой — тем более медуза после извлечения оставалась невидимой. Но потом произошло то, что навело меня на мысли об участии Бога в моей жизни.
Я к чему тебе всё это рассказываю? Дело в том, что несколько лет назад я ухаживал за одной барышней. Несмотря на платоничность отношений, я серьёзно задумывался тогда о том, понравилось ли бы ей пить со мной кофе по утрам. Надо сказать, эта девушка была красива, а ум её обладал известной живостью. Однако это было несколько лет назад, и вот, наконец, я встретил её в дачной местности.
Так вот, после того как из меня вынули медузу, я вдруг обнаружил, что в другом конце стола сидит страшная тётка. Такое приключается в венгерских фильмах, которые мы с тобой так любили в нашем пионерском детстве, в тех детских фильмах, в которых принц, оттоптав свои железные сапоги и миновав все препятствия, сжимает в объятьях принцессу. Но та внезапно превращается в злобную ведьму.
Очень я удивился этому превращению. Видимо, Господь спас меня тогда от утреннего кофе и сохранил для какого-то другого испытания. Более страшного…
Наши друзья пробыли внутри магазина полгода и наконец выкатились оттуда с десятью пакетами. В зубах у Рудакова был зажат холодный чебурек.
Надо было глотнуть противного тёплого пива, а потом решительно признаться друг другу в том, что мы не знаем, что делать.
Спас всех, как всегда, я. Увидев знакомую фигуру на площади у автобусов, я завопил:
— Ва-аня!
Знакомая фигура согнулась вдвое, и за ней обнаружились удочки.
Рудаков ловко свистнул по-разбойничьи, и из человека выпал и покатился зелёный круглый предмет, похожий на мусорную урну.
Фигура повернулась к нам. Это был Ваня Синдерюшкин собственной персоной.

 Кстати, а вот никто не занимался ли цветочной литературных персонажей-цветочниц(ков) — в том смысле, что продаёт карамзинская Лиза ("Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами") Элиза Дулитл продаёт фиалки.
Какова была семантика? Почему фиалки? Они не вяли? И откуда в центре Лондона фиалки?
(Лиза жила на станции метро Автозаводская, там, понятно дело, ландышей пруд пруди было, но это ведь узкосезонный цветок, да?
Понятно, что она" весною рвала цветы, а летом брала ягоды — и продавала их в Москве". Но вот вопрос — что летних цветов не продавали? А если проодавали, то какие? Не оранжерейные, в смысле).
А кто, кстати, ещё цветами торговал?
Кстати, а вот никто не занимался ли цветочной литературных персонажей-цветочниц(ков) — в том смысле, что продаёт карамзинская Лиза ("Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами") Элиза Дулитл продаёт фиалки.
Какова была семантика? Почему фиалки? Они не вяли? И откуда в центре Лондона фиалки?
(Лиза жила на станции метро Автозаводская, там, понятно дело, ландышей пруд пруди было, но это ведь узкосезонный цветок, да?
Понятно, что она" весною рвала цветы, а летом брала ягоды — и продавала их в Москве". Но вот вопрос — что летних цветов не продавали? А если проодавали, то какие? Не оранжерейные, в смысле).
А кто, кстати, ещё цветами торговал?
 Первый мой телефон был Nokia 6100 — он был прост и незатейлив. Потом я съездил с ним в Латинскую Америку, и другой мой добрый товарищ Леонид Александрович дивился, увидев, что внутри аппарат оброс какой-то восхитительной зелёной плесенью. Я тут же купил точно такой же.
А потом началась пора коммуникаторов и понеслось.
Мне, как человеку, чрезвычайно любящему всякие гаджеты, всё это было по сердцу, и большие коммуникаторы, которые многие ругали за размер, мне пришлись удивительно по сердцу. При моей комплекции мне было легко прятать их в складках тела. Итак, мир совершенствовался и прогресс наступал.
Оттого, после изучения Nokia E7 я считаю своим долгом написать некие соображения по поводу этого аппарата и развития коммуникаторов вообще. E7 — вполне хороший прибор, сохранивший выезжающую клавиатуру (или же — снабжённый отъезжающим активным экраном). Специально для тех, кто любит радужные отчёты, я расскажу свою любимую историю про академика Крылова. Академик-кораблестроитель Крылов на защите чьей-то диссертации сказал: «Выступая здесь оппонентом, я хотел бы напомнить, что это слово в Древнем Риме означало человека, что бежал за колесницей триумфатора и выкрикивал ему хулу, чтобы тот не слишком возгордился". Экран большой, всё решительно прекрасно, но я всё же рассматриваю этот аппарат как переходный.
И вот почему:
Первый мой телефон был Nokia 6100 — он был прост и незатейлив. Потом я съездил с ним в Латинскую Америку, и другой мой добрый товарищ Леонид Александрович дивился, увидев, что внутри аппарат оброс какой-то восхитительной зелёной плесенью. Я тут же купил точно такой же.
А потом началась пора коммуникаторов и понеслось.
Мне, как человеку, чрезвычайно любящему всякие гаджеты, всё это было по сердцу, и большие коммуникаторы, которые многие ругали за размер, мне пришлись удивительно по сердцу. При моей комплекции мне было легко прятать их в складках тела. Итак, мир совершенствовался и прогресс наступал.
Оттого, после изучения Nokia E7 я считаю своим долгом написать некие соображения по поводу этого аппарата и развития коммуникаторов вообще. E7 — вполне хороший прибор, сохранивший выезжающую клавиатуру (или же — снабжённый отъезжающим активным экраном). Специально для тех, кто любит радужные отчёты, я расскажу свою любимую историю про академика Крылова. Академик-кораблестроитель Крылов на защите чьей-то диссертации сказал: «Выступая здесь оппонентом, я хотел бы напомнить, что это слово в Древнем Риме означало человека, что бежал за колесницей триумфатора и выкрикивал ему хулу, чтобы тот не слишком возгордился". Экран большой, всё решительно прекрасно, но я всё же рассматриваю этот аппарат как переходный.
И вот почему:
 Во-вторых, налицо странная история с аккумулятором. Аккумулятора в рабочем режиме мне хватает на сутки. Ну много жрёт большой экран и всё остальное.
Есть с чем сравнивать — предыдущий E90 значительно дольше жил. Те есть, у моей Е90 было — 1500 мАч, а у Е7 — 1200 мАч — и это при возросшем энергопотреблении.
Особенностью этой Nokia стал неизвлекаемый аккумулятор. То есть, везде написано, что его может вынуть (разобрав корпус) специалист — но это понятный маркетинговый ход, не диктующий, но подталкивающий к покупке потом, спустя года два-три нового телефона. Этот ход мне понятен,
Но тут есть некоторая деталь: на второй день работы машинка зависла. Я при этом жду важного звонка. На E90 я бы выключил её, а если не помогает, то вынул-вставил аккумулятор. Тут я жму на клавишу выключения (я довольно долго жал, но мне подсказали, что может быть недостаточно долго — говорят больше десяти секунд надо — но это подсказка товарищам), а машина не реагирует.
То есть — никак. На экране горит застывшая страница телефонной книжки, и ничего не происходит. И что, спрашивается, делать? Ждать, пока зарядка сядет? Из положения я вышел, что не отменяет проблемы. И, может, это не беда, но всё же — это называется не-friendly. (Я, кстати, думаю, что всё уже придумано, но мы, пользователи, разберёмся в этой мелкой моторике как раз в тот момент, когда придёт пора кардинально новой модели).
В-третьих, такие вещи не-friendly есть в любом телефоне — тут важно соблюсти баланс. Чему-то человек учится, а что-то должно быть понятным и не гению. Не имбецилу, но всё же не сумасшедшему геймеру.
Например, я там долго бился, чтобы телефон не подключался к домашней сети без спроса. А то он норовит подсосаться как алкоголик — бьёшь по рукам, а он всё лезет. Я уж и выставил «ручное подключение», пытался найти «отключить поиск WLAN» (не нашёл сразу) — ну и всё такое.
Но машина-то хорошая, спору нет — наследница по прямой. Только уже стоящая на пороге качественно иного состояния.
В-четвёртых, (и в самых интересных) мы сталкиваемся со следующей проблемой.
На E7 неудобен набор больших текстов — как и вообще на прочих малоклавиатурниках. Он не для этого. Собственно, для меня открытым остаётся вопрос — зачем там вообще слайд-клавиатура. Если для англоязычного набора она худо-бедно годится, то в кириллице исключена буква "ё". Буква «ё»! А буквы "Х", "Э", "Ъ" зашифтованы под комбинацию клавиш, а сами клавиши стали меньше.
Это плата за уменьшение размера клавиатуры — и сколько не говори "халва-халва", она удобнее от уменьшения не становится. Площадь клавиатуры на Nokia Е90 125x53=6519 мм — на E7 — 99x25=2475 мм. 65 кв. сантиметров против 25. О чём говорить-то?
То есть, можно переучиться на быстрый набор с нажатиями дополнительных клавишах — но зачем, если экранный аналог умещает там все буквы (тут происходит извечная борьба за минимизацию — чтобы клавиатура стала более удобной она должна быть больше, а маркетологи думают, что чем меньше телефон, тем он лучше).
Но тут есть и другая проблема — поскольку выдвижная клавиатура находится под активным экраном, пальцы, если они недостаточно миниатюрны (мой закрывает шесть клавиш) задевают за экран с понятным результатом перескакивания).
Я начал думать, не стоит ли работать с емкостным стилусом — но он стоит $40.
Резюмирую — я сталкиваюсь с печальной тенденцией уничтожения коммуникаторов как субноутбуков. Поскольку меня уже начали упрекать, в том, что я описываю исключительно негативные черты аппарата, так я для непонятливых ещё раз скажу — это патриотический nokia-пост. Мне не безразлично, что со всем тим будет) Итак (сейчас будет учёное слово) — рудиментация клавиатуры — это тенденция не Nokia, (она-то как раз была островком в этом селевом потоке, державшимся дольше прочих), а тенденция мировая. То есть, из коммуникатора вымывается возможность набрать текст больше двойной SMS.
В этом ничего удивительного — такой спрос, таковы геологические изменения в мире букв. А спорить с геологическим процессом — что против ветра плевать. Либо решаешь, что "на наш век хватит", либо приспосабливаешься.
Вышеупомянутый Слава Сорокин, побывавший компьютерным начальником в разнообразных представительствах, говорил, что стратегия одна — иметь планшетник и маленький туповатый телефон для звонков. Я ему доверяю, но, как говорится, возможны варианты.
То есть, какое-то время мы попрыгаем, подёргаемся на новых моделях, а потом уйдём на комбинацию планшетник с симкой + блютус гарнитура в ухе, или будем таскать с собой два прибора.
Во-вторых, налицо странная история с аккумулятором. Аккумулятора в рабочем режиме мне хватает на сутки. Ну много жрёт большой экран и всё остальное.
Есть с чем сравнивать — предыдущий E90 значительно дольше жил. Те есть, у моей Е90 было — 1500 мАч, а у Е7 — 1200 мАч — и это при возросшем энергопотреблении.
Особенностью этой Nokia стал неизвлекаемый аккумулятор. То есть, везде написано, что его может вынуть (разобрав корпус) специалист — но это понятный маркетинговый ход, не диктующий, но подталкивающий к покупке потом, спустя года два-три нового телефона. Этот ход мне понятен,
Но тут есть некоторая деталь: на второй день работы машинка зависла. Я при этом жду важного звонка. На E90 я бы выключил её, а если не помогает, то вынул-вставил аккумулятор. Тут я жму на клавишу выключения (я довольно долго жал, но мне подсказали, что может быть недостаточно долго — говорят больше десяти секунд надо — но это подсказка товарищам), а машина не реагирует.
То есть — никак. На экране горит застывшая страница телефонной книжки, и ничего не происходит. И что, спрашивается, делать? Ждать, пока зарядка сядет? Из положения я вышел, что не отменяет проблемы. И, может, это не беда, но всё же — это называется не-friendly. (Я, кстати, думаю, что всё уже придумано, но мы, пользователи, разберёмся в этой мелкой моторике как раз в тот момент, когда придёт пора кардинально новой модели).
В-третьих, такие вещи не-friendly есть в любом телефоне — тут важно соблюсти баланс. Чему-то человек учится, а что-то должно быть понятным и не гению. Не имбецилу, но всё же не сумасшедшему геймеру.
Например, я там долго бился, чтобы телефон не подключался к домашней сети без спроса. А то он норовит подсосаться как алкоголик — бьёшь по рукам, а он всё лезет. Я уж и выставил «ручное подключение», пытался найти «отключить поиск WLAN» (не нашёл сразу) — ну и всё такое.
Но машина-то хорошая, спору нет — наследница по прямой. Только уже стоящая на пороге качественно иного состояния.
В-четвёртых, (и в самых интересных) мы сталкиваемся со следующей проблемой.
На E7 неудобен набор больших текстов — как и вообще на прочих малоклавиатурниках. Он не для этого. Собственно, для меня открытым остаётся вопрос — зачем там вообще слайд-клавиатура. Если для англоязычного набора она худо-бедно годится, то в кириллице исключена буква "ё". Буква «ё»! А буквы "Х", "Э", "Ъ" зашифтованы под комбинацию клавиш, а сами клавиши стали меньше.
Это плата за уменьшение размера клавиатуры — и сколько не говори "халва-халва", она удобнее от уменьшения не становится. Площадь клавиатуры на Nokia Е90 125x53=6519 мм — на E7 — 99x25=2475 мм. 65 кв. сантиметров против 25. О чём говорить-то?
То есть, можно переучиться на быстрый набор с нажатиями дополнительных клавишах — но зачем, если экранный аналог умещает там все буквы (тут происходит извечная борьба за минимизацию — чтобы клавиатура стала более удобной она должна быть больше, а маркетологи думают, что чем меньше телефон, тем он лучше).
Но тут есть и другая проблема — поскольку выдвижная клавиатура находится под активным экраном, пальцы, если они недостаточно миниатюрны (мой закрывает шесть клавиш) задевают за экран с понятным результатом перескакивания).
Я начал думать, не стоит ли работать с емкостным стилусом — но он стоит $40.
Резюмирую — я сталкиваюсь с печальной тенденцией уничтожения коммуникаторов как субноутбуков. Поскольку меня уже начали упрекать, в том, что я описываю исключительно негативные черты аппарата, так я для непонятливых ещё раз скажу — это патриотический nokia-пост. Мне не безразлично, что со всем тим будет) Итак (сейчас будет учёное слово) — рудиментация клавиатуры — это тенденция не Nokia, (она-то как раз была островком в этом селевом потоке, державшимся дольше прочих), а тенденция мировая. То есть, из коммуникатора вымывается возможность набрать текст больше двойной SMS.
В этом ничего удивительного — такой спрос, таковы геологические изменения в мире букв. А спорить с геологическим процессом — что против ветра плевать. Либо решаешь, что "на наш век хватит", либо приспосабливаешься.
Вышеупомянутый Слава Сорокин, побывавший компьютерным начальником в разнообразных представительствах, говорил, что стратегия одна — иметь планшетник и маленький туповатый телефон для звонков. Я ему доверяю, но, как говорится, возможны варианты.
То есть, какое-то время мы попрыгаем, подёргаемся на новых моделях, а потом уйдём на комбинацию планшетник с симкой + блютус гарнитура в ухе, или будем таскать с собой два прибора.
 Мужчина и женщина, американцы вышли на него через посредника. Сперва у Сталкера было впечатление, что всё это психологические штучки. Совет психолога для сбережения брака, или ещё что-то.
Он не вдавался в подробности — не его это дело.
Мужчина сказал, что ему нужно убить кровососа. Убить и всё, именно кровососа и только его. Американец был очень высокого роста, очень хорошо сложен, если рост баскетболиста не считать недостатком. У него были тёмные волосы, аккуратно подстриженные как у офицера. Сталкер отметил, что клиент кажется очень молодым — вряд ли ему больше тридцати пяти. Сама по себе охота на кровососа была не наказуемой.
Обычно богачи оформляли себя как независимых исследователей-зоологов — за деньги можно было сделать всё. Наказуемым актом был вывоз за пределы Периметра живого материала, или живого, ставшего мёртвым.
Эрик тогда стоял в сторонке, а учёные пили горилку за другим столом. На одном столе лежал разрезанный труп, а люди в белых халатах резали сало и хлестали водку за другим, стоявшим рядом. Это Эрик одобрял — цинизм спасает разум.
Учёные при этом спорили, как кровососы размножаются — и характерен ли для них гермафродитизм или нет. Причём и те, и другие спорщики время от времени тыкали пальцем в труп, лежавший у них за спиной. Видимо, он подтверждал одновременно разные их версии.
Как хороший сталкер-проводник, Эрик знал повадки всякой твари, охотно рассказывал о них туристам, но понимал, что всё в Зоне условно.
К примеру, кровосос очень любил комнатную (или близкую к комнатной), температуру — потому что его тело собственной постоянной температуры не имело и подстраивалось под окружающую среду. Но однажды он увидел кровососа, спокойно прогуливающегося по снегу и явно не очень страдавшего от холода.
Сталкер собрал группу из трёх человек и через некоторое время они были готовы отправиться в путь.
Но вдруг всё осложнилось.
Американка пришла к Сталкеру в номер, когда они остановились в гостинице при баре «Пилав». Гостиница пустовала, но условия там были очень хорошие.
Причина сложностей была в том, что американец ужасно трусил, он начал трусить уже на подходе, задолго даже до того, как они встретились. Жена им была чрезвычайно недовольна, ей было стыдно перед людьми, стыдно перед собой, перед прожитой с мужем-трусом жизнью. И, видимо, чтобы отомстить, пришла в номер к Сталкеру — всё равно её муж оплачивал обе комнаты.
Она пришла и отомстила.
Сталкер Эрик Калыньш отнёсся к этому равнодушно, он и не такое видел.
А теперь она думала, что между ними возникало какое-то напряжение. Плохо было то, что Американец это заметил, и ему было не всё равно. Но Эрику было это интересно только с той точки зрения, не начнётся ли у них взаимная истерика. Истерика может помешать, а дуться они могут сколько угодно.
Американец, который заснул ненадолго, после того как перестал думать о кровососах, проснулся и понял, что жена ушла. Он пролежал без сна два часа, а потом жена скрипнула дверью и долго принимала душ. Он спросил её, где она была, хотя сам уже догадался. Жена ответила, что выходила покурить. «Ну и подышать воздухом», добавила она.
— Шлюха! Шлюха! Шлюха! — и голос его сорвался.
— А ты — трус. Вот так-то.
Это был мощный аргумент, жена попала в самое яблочко, так что они начали ругаться. У них давно было всё плохо, и насчёт семейного психиатра Эрик был прав. Они ругались, и Американка говорила, что хочет спать, а потом Американец говорил, что хочет спать и завтра тяжёлый день, но они не могли остановиться, и обменивались репликами ещё час.
А Эрик Калыньш по прозвищу Сталкер спал спокойно, вовсе не думая о женщине, что была у него. Если будешь думать о таких мелочах, то на работу останется мало времени. Он думал о кровососе, который сейчас тоже не спит в своём убежище, а может, и спит, чтобы утром выйти и искать себе подругу — если не врут те из учёных, кто считает, что им нужны подруги. Кровосос, до которого он хотел добраться, сидел в развалинах, а днём должен выйти на большой луг перед ними. Лучше всего, конечно, было выманить кровососа на открытое пространство, где Американец, вероятно, смог бы пострелять их с меньшим риском.
Ему не хотелось охотиться с Американцем ни на кровососов, ни на какого другого монстра, но он был профессионал, и контракт, пусть и устный, был для него законом. Если они завтра найдут кровососа, то сделают своё дело быстро, и даст Бог, всё обойдётся. А вот если они будут искать кровососа долго, то может произойти невесть что. Этот трусливый бедняга закончит свою опасную забаву, и, может быть, все обойдется. С этой женщиной он больше не будет связываться, а вчерашнее Американец тоже переварит. Ему, надо полагать, не впервой. Бедняга. Он, наверно, уже научился переваривать такие вещи. Сам виноват.
Плохо только одно — она переспала с ним до основного дела, а не после. После — это часто бывало, когда туристы возвращались обратно, но их ещё трепал адреналиновый шторм. Они тут же напивались, и мужчины часто напивались сильнее своих женщин.
Эрик знал свою клиентуру — веселящаяся светские львы и львицы, спортсмены-любители из всех стран, их женщины, которым кажется, что им недодали чего-то за их деньги, если они не переспят на этой койке со сталкером. Он презирал их, когда они были далеко, но пока он был с ними, многие из них ему очень нравились. И этих своих клиентов, как ему казалось, он вычислил. Это такой очень стабильный союз, который он не раз видел. Союз, в котором мужчина и женщина похожи на зомби и наперегонки выедают мозг друг другу. Красота жены была залогом того, что муж никогда с ней не разведется; а богатство мужа было залогом того, что жена никогда его не бросит.
Так или иначе, они давали ему кусок хлеба, и пока он был нанят, их мерки были его мерками.
И он перестал думать об этой супружеской паре и принялся думать о гипножабе. Он всегда думал перед сном о гипножабе, то есть о Чернобыльском Земноводном Контролёре, потому что поймать Земноводного Контролёра — было главной мечтой его жизни.
Мужчина и женщина, американцы вышли на него через посредника. Сперва у Сталкера было впечатление, что всё это психологические штучки. Совет психолога для сбережения брака, или ещё что-то.
Он не вдавался в подробности — не его это дело.
Мужчина сказал, что ему нужно убить кровососа. Убить и всё, именно кровососа и только его. Американец был очень высокого роста, очень хорошо сложен, если рост баскетболиста не считать недостатком. У него были тёмные волосы, аккуратно подстриженные как у офицера. Сталкер отметил, что клиент кажется очень молодым — вряд ли ему больше тридцати пяти. Сама по себе охота на кровососа была не наказуемой.
Обычно богачи оформляли себя как независимых исследователей-зоологов — за деньги можно было сделать всё. Наказуемым актом был вывоз за пределы Периметра живого материала, или живого, ставшего мёртвым.
Эрик тогда стоял в сторонке, а учёные пили горилку за другим столом. На одном столе лежал разрезанный труп, а люди в белых халатах резали сало и хлестали водку за другим, стоявшим рядом. Это Эрик одобрял — цинизм спасает разум.
Учёные при этом спорили, как кровососы размножаются — и характерен ли для них гермафродитизм или нет. Причём и те, и другие спорщики время от времени тыкали пальцем в труп, лежавший у них за спиной. Видимо, он подтверждал одновременно разные их версии.
Как хороший сталкер-проводник, Эрик знал повадки всякой твари, охотно рассказывал о них туристам, но понимал, что всё в Зоне условно.
К примеру, кровосос очень любил комнатную (или близкую к комнатной), температуру — потому что его тело собственной постоянной температуры не имело и подстраивалось под окружающую среду. Но однажды он увидел кровососа, спокойно прогуливающегося по снегу и явно не очень страдавшего от холода.
Сталкер собрал группу из трёх человек и через некоторое время они были готовы отправиться в путь.
Но вдруг всё осложнилось.
Американка пришла к Сталкеру в номер, когда они остановились в гостинице при баре «Пилав». Гостиница пустовала, но условия там были очень хорошие.
Причина сложностей была в том, что американец ужасно трусил, он начал трусить уже на подходе, задолго даже до того, как они встретились. Жена им была чрезвычайно недовольна, ей было стыдно перед людьми, стыдно перед собой, перед прожитой с мужем-трусом жизнью. И, видимо, чтобы отомстить, пришла в номер к Сталкеру — всё равно её муж оплачивал обе комнаты.
Она пришла и отомстила.
Сталкер Эрик Калыньш отнёсся к этому равнодушно, он и не такое видел.
А теперь она думала, что между ними возникало какое-то напряжение. Плохо было то, что Американец это заметил, и ему было не всё равно. Но Эрику было это интересно только с той точки зрения, не начнётся ли у них взаимная истерика. Истерика может помешать, а дуться они могут сколько угодно.
Американец, который заснул ненадолго, после того как перестал думать о кровососах, проснулся и понял, что жена ушла. Он пролежал без сна два часа, а потом жена скрипнула дверью и долго принимала душ. Он спросил её, где она была, хотя сам уже догадался. Жена ответила, что выходила покурить. «Ну и подышать воздухом», добавила она.
— Шлюха! Шлюха! Шлюха! — и голос его сорвался.
— А ты — трус. Вот так-то.
Это был мощный аргумент, жена попала в самое яблочко, так что они начали ругаться. У них давно было всё плохо, и насчёт семейного психиатра Эрик был прав. Они ругались, и Американка говорила, что хочет спать, а потом Американец говорил, что хочет спать и завтра тяжёлый день, но они не могли остановиться, и обменивались репликами ещё час.
А Эрик Калыньш по прозвищу Сталкер спал спокойно, вовсе не думая о женщине, что была у него. Если будешь думать о таких мелочах, то на работу останется мало времени. Он думал о кровососе, который сейчас тоже не спит в своём убежище, а может, и спит, чтобы утром выйти и искать себе подругу — если не врут те из учёных, кто считает, что им нужны подруги. Кровосос, до которого он хотел добраться, сидел в развалинах, а днём должен выйти на большой луг перед ними. Лучше всего, конечно, было выманить кровососа на открытое пространство, где Американец, вероятно, смог бы пострелять их с меньшим риском.
Ему не хотелось охотиться с Американцем ни на кровососов, ни на какого другого монстра, но он был профессионал, и контракт, пусть и устный, был для него законом. Если они завтра найдут кровососа, то сделают своё дело быстро, и даст Бог, всё обойдётся. А вот если они будут искать кровососа долго, то может произойти невесть что. Этот трусливый бедняга закончит свою опасную забаву, и, может быть, все обойдется. С этой женщиной он больше не будет связываться, а вчерашнее Американец тоже переварит. Ему, надо полагать, не впервой. Бедняга. Он, наверно, уже научился переваривать такие вещи. Сам виноват.
Плохо только одно — она переспала с ним до основного дела, а не после. После — это часто бывало, когда туристы возвращались обратно, но их ещё трепал адреналиновый шторм. Они тут же напивались, и мужчины часто напивались сильнее своих женщин.
Эрик знал свою клиентуру — веселящаяся светские львы и львицы, спортсмены-любители из всех стран, их женщины, которым кажется, что им недодали чего-то за их деньги, если они не переспят на этой койке со сталкером. Он презирал их, когда они были далеко, но пока он был с ними, многие из них ему очень нравились. И этих своих клиентов, как ему казалось, он вычислил. Это такой очень стабильный союз, который он не раз видел. Союз, в котором мужчина и женщина похожи на зомби и наперегонки выедают мозг друг другу. Красота жены была залогом того, что муж никогда с ней не разведется; а богатство мужа было залогом того, что жена никогда его не бросит.
Так или иначе, они давали ему кусок хлеба, и пока он был нанят, их мерки были его мерками.
И он перестал думать об этой супружеской паре и принялся думать о гипножабе. Он всегда думал перед сном о гипножабе, то есть о Чернобыльском Земноводном Контролёре, потому что поймать Земноводного Контролёра — было главной мечтой его жизни.
 …Группу разогнали, заместитель Маракина Трухин попал в больницу, а потом и вовсе уволился — по собственному желанию», конечно. Потом он сгинул где-то в одном из трёх научных городков на Периметре Зоны. А так-то ему насчитали за нецелевое расходование средств тыщ триста ущерба для страны. А это лет пятнадцать отсидки.
…Группу разогнали, заместитель Маракина Трухин попал в больницу, а потом и вовсе уволился — по собственному желанию», конечно. Потом он сгинул где-то в одном из трёх научных городков на Периметре Зоны. А так-то ему насчитали за нецелевое расходование средств тыщ триста ущерба для страны. А это лет пятнадцать отсидки.
