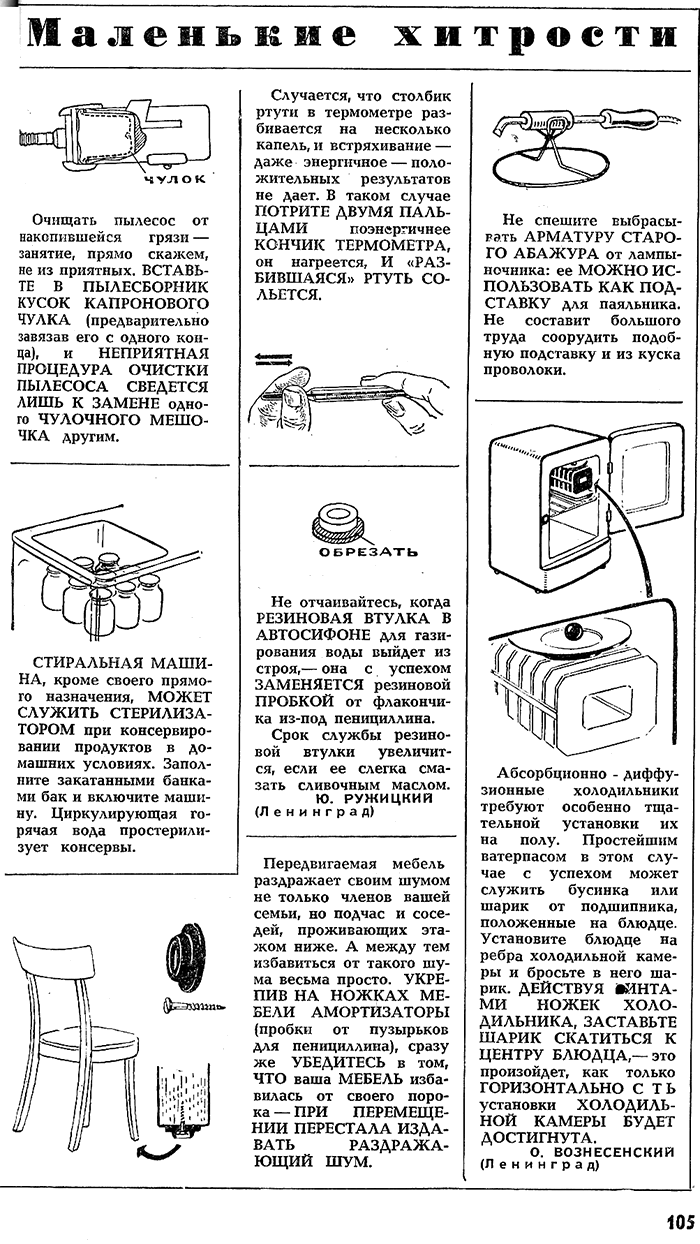2015
Новый год (1 января) (2015-01-02)

Ностальгия — вот лучший товар после смутного времени, все на манер персонажей Аверченко будут вспоминать бывшую еду и прежние цены. Говорить о прошлом следует не со стариками и не с молодыми, а с мужчинами, только начавшими стареть — вернее, только что понявшими это. Они ещё сильны и деятельны, но вдруг становятся встревоженными и сентиментальными. Они лезут в старые папки, чтобы посмотреть на снимок своего класса, обрывок дневника, письмо без подписи. Следы жухлой любви, вперемешку с фасованным пеплом империи — иногда в тоске кажется, что у всего этого есть особый смысл.
Но поколение катится за поколением, и смысл есть только у загадочного течения времени — оно смывает всё, и ничьё время не тяжелее прочего.
Меня окружал утренний слякотный город с первыми, очнувшимися после новогодней ночи прохожими. Они как бойцы, выходящие из окружения, шли разрозненно, нетвёрдо ставя ноги. Автомобиль обдал меня веером тёмных брызг, толкнула женщина с ворохом праздничных коробок. Что-то беззвучно крикнул продавец жареных кур, широко открывая гнилой рот.
Бородатый старик в костюме Деда Мороза прошмыгнул мимо. Печальна была его фигура. Впрочем, он всегда был таким — меня с детства угнетали открытки, где Дед Мороз изображался вместе со своим внучком, Новым годом. Внучок был в точно таком же красном зипуне, только коротком. И всё маскировало простую мысль о том, что дедушка-то под бой курантов сдох.
Срок его жизни был короток.
И вот он улыбается и пляшет, чтобы скрыть страх. Мальцу-то простительно, он глуп по возрасту.
Город отходил, возвращался к себе, на привычные улицы, и первые брошенные ёлки торчали из мусорных баков. Ветер дышал сыростью и бензином. Погода менялась — теплело.
Я свернул в катящийся к Москве-реке переулок и пошёл, огибая лужи, к стоящему среди строительных заборов старому дому. Там, у гаражей, старуха выгуливала собаку. Собака почти умирала — небедные заботливые хозяева к таким собакам приделывают колёсико сзади, и тогда создаётся впечатление, что собака впряжена в маленькую тележку.
Но тут она просто ползла на брюхе, подтягиваясь на передних лапах. Колёсико ей не светило.
Мало что ей светило в этой жизни, подумал я, открывая дверь подъезда.
Я шёл в гости к Евсюкову, что квартировал в апартаментах какого-то купца-толстопуза. Богач давно жил под сенью пальм, а Евсюков уже не первый год, приезжая в Москву, подкручивал и подверчивал что-то в чужой огромной квартире с видом на храм Христа Спасителя.
Мы собирались там раз в пятый, оставив бой курантов семейному празднику, а первый день Нового года мужским укромным посиделкам. Это был наш час, ворованный у семей и праздничных забот. Мир впадал в Новый год, вваливался в похмельный январский день, бежали дети в магазины за лекарством для родителей, а мы собирались бодрячками, храня верность традиции.
Было нас шестеро — егерь Евсюков, инженер Сидоров, буровых дел мастер Рудаков, во всех отношениях успешный человек Раевский, просто успешный человек Леонид Александрович — и я.
И вот я отворил толстую казематную дверь, и оттуда на меня сразу пахнуло каминным огнём, жаревом с кухни и вонючим кальянным дымом.
В гигантской гостиной, у печки с изразцами, превращённой купцом в камин, уже сидели Раевский и Сидоров, пуская дым колечками и совершенно не обращая на меня внимания.
— …Тут надо договориться о терминологии. У меня к Родине иррациональная любовь, не основанная на иллюзиях. Это как врач, который любит женщину, но как врач он видит венозные ноги, мешки под глазами (почки), видит и всё остальное. Тут нет «вопреки» и «благодаря», это как две части комплексного числа, — продолжал Раевский.
— У меня справка есть о личном общении, — ответил Сидоров. — У меня хранится читательский билет старого образца — синенькая такая книжечка, никакого пластика. Там на специальной странице написано: «Подпись лица, выдавшего билет: Родина».
Они явно говорили давно, и разговор нарос сосулькой ещё с прошлого года. Раевский сидел в кресле Геринга. Мы всё время подтрунивали над отсутствующим хозяином квартиры, что гордился своим креслом Геринга. На многих дачах я встречал эти кресла, будто бы вывезенные из Германии. Их была тьма — может, целая мебельная фабрика работала на рейхсмаршала, а может, были раскулачены тысячи дворцов, где всего по разу бывал толстый немец: посидит Геринг минуту, да пересаживается в другое кресло, но клеймо остаётся навсегда: «кресло Геринга».
Отсутствующий хозяин действительно вывез это кресло с какой-то проданной генеральской дачи под Москвой.
Участок был зачищен, как вражеская деревня, дом снесён (на его месте новый хозяин сделал пруд), а резная мебель с невнятной историей переместилась в город.
Чтобы перебить патриотический спор, я вспомнил уличную сценку:
— Знаете я, кажется, видел Ляпунова.
— Того самого? Профессора?
— Ну, да. Только в костюме Деда Мороза.
— Поутру после Нового года и не такое увидишь, — Сидоров подмигнул. Сидоров был человек простой, и в чтении журнала «Nature» замечен не был. Теорию жидкого времени Ляпунова он не знал и знать не хотел.
Меж тем Ляпунов был загадочной личностью, знаменитым физиком. Сначала он высмеивал теорию жидкого времени, потом вдруг стал яростным её адептом, а потом куда-то пропал. Говорили, что это давняя психологическая травма — у Ляпунова несколько лет назад пропал сын-подросток, с которым они жили вдвоём.
Ляпунов пропал, может, сошёл с ума, а может, просто опустился, как многие из тех, кто считал себя академической солью земли, а потом доживал в скорби. Были среди них несправедливо обиженные, а были те, чей срок разума истёк. Ничего удивительного в том, что я мог видеть профессора в костюме Деда Мороза. Любой дворник сейчас может на день надеть красный полушубок вместо оранжевой куртки.
— Ну, дворники разные бывают, — возразил Раевский. — Я вот живу в центре Москвы, в старом доме. На первом этаже там живут дворники-таджики. Не знаю, как с ними в будущем обернётся, но эти таджики мне ужасно нравятся — очень аккуратно всё метут, тихие, дружелюбные и норовили мне помочь во всяких делах. Однажды пришёл в наш маленький дворик пьяный, стал кричать, а когда его принялись стыдить из окон, он отвечал разными словами — удивительно в рифму. Так вот таджики его поймали и вежливо вразумили, после чего убрали всё то, что он намусорил битыми бутылками.
— Я уверен, что если ночью постучать к твоим таджикам, то ты станешь счастливым владельцем коробка анаши, — не одобрил этого интернационализма Сидоров. (Я почувствовал, что они сейчас снова свернут на русскую государственность) — Говорят, что таджикские дворники на самом деле непростой народ. Помашут метлой, вынут из кармана травы. Вот я поздно как-то приехал домой — смотрю, толкутся странные люди у дворницкого жилья. И везде, куда заселили восточную рабочую силу, я всегда вижу наркоманических людей.
— В Москве сейчас много загадочного. Вот строительство такое загадочное…
— Ой, блин, какое загадочное! — На этих словах из кухни, отряхивая мокрые руки, вылез буровых дел мастер Рудаков. — Золотые купола над бассейнами, туда-сюда. У нас ведь, как всегда, две крайности: то тиграм мяса не докладывают, бутылки вмуровывают в опорные сваи, то наоборот. Вот как-то пару раз мы попадали — то ли на зарывание денег, то ли ещё что. Мы сажаем трубы, двенадцать миллиметров, десять метров вниз, два пояса, анкера, всё понятно. Трубы — двенадцать метров глубиной, шаг — метр по осям, откапывают полтора метра, заливается бетонная подушка с нуля ещё метра полтора — что это?
Я слушал эту музыку сфер с радостью, потому что я понял, кого мне в этот момент напоминает Рудаков. А напоминал он мне актёра, что давным-давно орал со сцены о своей молодости, изображая бывшего стилягу. Он орал, что когда-то его хотели лишить допуска, а теперь у него две мехколонны и пятьдесят бульдозеров. В тот год, когда эта реприза была особенно популярна, мы были молоды по-настоящему, слово допуск было непустым, но вот подумать, что мы будем относиться к этому времени с такой нежностью, как сейчас, мы представить не могли. Я почувствовал себя лабораторным образцом, что отправил профессор Ляпунов в недальнее прошлое, залив его сжиженным, ледяным временем.
Мы все достигли разного и, кажется, затем и были нужны друг другу — чтобы хвастаться.
Но сейчас было видно, что ни славянофилы, ни западники ответить Рудакову не могут.
Я, впрочем, тоже.
Поэтому буровых дел мастер Рудаков сам ткнул пальцем в потолок:
— Что это, а? Стартовый стол ракеты? Так он и чёрта выдержит, не то что ракету. А ведь через год проезжаешь — стоит на этом месте обычный жилой дом. Ну, не обычный, конечно, с выпендрёжем, но, зная его основание, я вам могу сказать — десять таких домов оно выдержит. С лихвой! На хрена?
Раевский всё же вставил своё слово:
— Легенд-то много, меня-то удивляет другое — насколько легенды близки к реальности.
— Много легенд, да — мы вот на Таганке бурили, там, где какой-то офисный центр стоит. Так нас археологи неделю, наверное, доставали. Сначала пытались работу останавливать, но потом поняли — нет, бесполезно. Трое пришло мужиков средних лет, а при них двое шестёрок, пацаны такие, лет по девятнадцать. Рылись в отвале — а ведь там черепки кучами. Они шурфы отрыли, неглубокие, правда, по полметра, наверное. До хрена — до хрена, много этих черепков-то. Я перекурить пошёл, к ним подхожу: «Ну, чего?». Смотрю, у них там одна фанерка лежит — это двенадцатый век, говорят, на другой фанерине тринадцатый век лежит — весь в узорах. Четырнадцатый и пятнадцатый опять же, а так ведь и не скажешь, что пятнадцатый по виду. Ну там пятьдесят лет назад расколотили этот горшок.
— Удивительно другое, — вздохнул Раевский. — Несмотря на волны мародёров огромное количество вещей до сих пор находится в домах. Какие-нибудь ручки бронзовые.
— Да что там ручки! Было одно место в Фурманном переулке. Сначала мы приехали, стоял там старый дом, только потом его стали сносить. Такой крепкий дом старой постройки, трёхэтажный. Сидел там сторож — мы приходим как-то к нему, а он довольно смурной и нервный. Явилась ночью компания, говорит, три или четыре человека, лет по сорок, серьёзные. А там ведь как темнеет, а темнеет летом поздно, на все старые дома, как муравьи на сахар, лезут всякие кладоискатели, роют-ковыряют.
Этот дом действительно старый, восемнадцатого, может, века, там уже даже рам не осталось — стены да лестницы. И вот как стемнеет, этот дом гудел — по одному и компаниями.
Сторож этот пришельцев гонял, а тут… Тоже хотел шугануть, но эти серьёзные люди ему что-то колюще-режущее показали и говорят, сиди, дескать, нам нужен час времени. Через час можешь что хочешь делать — милицию сна лишать, звонить кому-нибудь, а сейчас сиди в будке и кури. Напоследок дед, правда, бросил им: «Ничего не найдёте, здесь рыщено-перерыщено». Мужики говорят: «Иди, дед. Мы знаем, чё нам надо».
Ну, через час он вышел, честно так вышел, как и обещал, пошёл смотреть. На лестничной площадке между вторым и третьим этажами вынуто несколько кирпичей, а за ними ниша, здоровая. Пустая, конечно.
Было там что, не было ли — хрен его знает. Да сломали давно уж.
На этом месте я пошёл на кухню слушать Евсюкова. Однако ж, Евсюков молчал, а вот Леонид Александрович как раз рассказывал про какого-то даосского монаха.
Евсюков резал огромные узбекские помидоры, и видно было, что Леонид Александрович участвовать в приготовлении салата отказался. Наверняка они только что спорили о женщинах — они всегда об этом спорили — потомственный холостяк Евсюков и многажды женатый Леонид Александрович.
— Так вот этот даос едет на поезде, потому что собирал по всей провинции пожертвования. Вот он едет, лелеет ящик с пожертвованиями, смотрит в окно на то, как спит вокруг гаолян и сопки китайские спят, но его умиротворение нарушает вдруг девушка, что входит в его купе.
Она всмотрелась в даоса и говорит:
— Мы тут одни, отдайте мне ящик с деньгами, а не то я порву на себе платье и всем расскажу, что вы напали на меня. Сами понимаете, что больше вам никто не то что денег не подаст, но и из монахов вас выгонят.
Монах взглянул на девушку безмятежным взглядом, достал из кармана дощечку и что-то там написал.
Девушка прочитала: «Я глухонемой, напишите, что вы хотите».
Она и написала. Тогда даос положил свою дощечку в карман, и, всё так же благостно улыбаясь, сказал:
— А теперь — кричите…
— Вот видишь, — продолжил Евсюков какой-то ускользнувший от меня разговор, — а ты говоришь уход и забота…
Мне всучили миску с салатом, а Евсюков с Леонидом Александровичем вынесли гигантский поднос с бараниной:
— Ну, всё. Стол у нас не хуже, чем на Рублёвском шоссе.
Рудаков скривился:
— Знавал я эту Рублёвку, бурил там — отвратительный горизонт. Чуть что — поползёт, грохнется.
Мы пили и за старый год, угрюмо и неласково, ибо он был полон смертей. И за новый — со спокойной надеждой. Нулевые годы катились под откос, и оттого, видимо, так чётко вспоминались отдаляющиеся девяностые.
У каждого из нас была обыкновенная биография в необыкновенное время. И мы, летя в ночи в первый день нового года над темнеющим городом, принялись вспоминать былое, и все рассказы о былом начинались со слов «на самом деле». А я давно знал, и знал наверняка, что всё самое беспардонное враньё начинается со слов «На самом деле…». Говорили, впрочем, об итогах и покаянии.
Слишком многие, из тех, кого мы знали, не просто любили прошлое, но и публично каялись в том, что сделали что-то неприличное в период первичного накопления капитала. Я сам видел очень много покаяний моих друзей — и все они происходили в загородных домах, на фоне камина, с распитием дорогого виски. Под треск дровишек в камине, когда все выпили, но выпили в меру, покаяния идут очень хорошо.
Есть покаяния другие — унылые покаяния неудачников, в нищете и на фоне цирроза печени. Очень много разных форм покаяний, что заставляют меня задуматься о ревизии термина.
— Мы тоже сидим у камина, — возразил Раевский, — по-моему, наличие дома или нищеты для покаяния не очень важно. Покаяние, если это не диалог с Богом, это диалог между человеком и его совестью. Камин или жизнь под забором — обстоятельства, не так важные для Бога и для совести. Важно, что человек изменился и больше не совершит какого-то поступка. Совесть — лучший контролёр.
— Ну, да. Ему это не нужно. К тому же есть такая штука — некоторых искушений просто уже нет по их природе. То, что человек мог легко сделать в девяностые годы, сейчас он легко не сделает. Зачем садиться снова на Боливара, что не вывезет двоих, можно сказать. «Мне очень жаль, но пусть он платит по один восемьдесят пять. Боливар не снесёт двоих» — и ему действительно, действительно очень жаль. Но по один восемьдесят пять уже уплачено. Не верю я в эти покаяния. Если они внутренние, то они, как правило, остаются внутренними и не выплёскивается на застольных друзей, газеты или в телевизор. А если выплёскиваются, то это что-то вроде публичного сжигания своего партбилета в прямом эфире.
— А что, рубануть по пальцу топором, бросить всё и отправиться в странствие по Руси? Сильный ход.
— Не знаю, ребята. А вот нравственное покаяние, когда жизнь обеспечена, и деньги — к деньгам — вещь куда более сложная для этического анализа.
— Я вот что скажу — все написанные слова — фундамент нынешнего благосостояния. Это такие мешки с долларами, что покрадены с того паровоза, что остановился у водокачки. Как в этом каяться — ума не приложу, вынимать ли из фундамента один кирпич, разбирать ли весь фундамент.
Нет, по мне сжигание партбилета особенно, когда за это не сажают — чрезвычайно некрасивый поступок, но покаяние без полной переборки фундамента тоже нечто мне отвратительное. Это ведь очень давно придуманная песня, старая игра в пти-жё: я украл три рубля, а свалил на горничную, а я девочку развратил, а я в долг взял и не отдал, а я написал говно и деньги взял. И начинается игра в стыд, такое жеманничанье. Друзья должны вздохнуть, налить ещё вискаря в низкие, до хруста вымытые стаканы и выпить. А потом кто-то ещё что-то расскажет — про то, как попилил бабла, и что теперь немного, конечно стыдно — но все понимают, что если бы не попилил, то мы бы не сидели на Рублёвке, и после бани не пили хороший виски. И вот все кивают головами и говорят, да-да, какой ты чуткий, братан, тебе стыдно, и это так хорошо. И стыд хорошо мешается с виски, как запах дров из камина со льдом в стакане. Как-то так.
— Да сдалось тебе благосостояние! Тебе кажется, что поводом для раскаяния может быть только поступок, за который получены деньги! Понятно, сидя перед камином сетовать, что пилил бабло, как-то нехорошо. Но ведь и не говорить — нельзя. Я вот никогда не пилил бабла, — возразил просто успешный человек Леонид Александрович. — Причём тут твоё благосостояние? Мне, например, про твоё благосостояние ничего не известно. И деньги тут тоже ни при чём, вернее, они (если говорить об уравнениях) только часть схемы «деньги — реноме — деньги-штрих». Более того, я вообще сложно отношусь к проблеме распила: ведь мы все получали деньги от тех же пильщиков. Но благосостояние тут очень даже причём — наша система довольно хорошо описана многими литераторами и философами, которые говорили о грехе и покаянии в церковном смысле. Меня-то интересует очень распространённый сейчас ритуал раскаяния, смешанный с ностальгией — которая не собственно сожаление, а такая эстетическая поза: грешил я, грешил… а потом отпил ещё.
То есть, понятно, что и у меня есть вещи, которых я бы сейчас делать не стал, но вспомнить их, скорее, приятно. А есть вещи, которые и делать бы не стал, и вспоминать очень неприятно. Последние, как правило, завязаны на чувство вины: «вот, поди ж ты, какие у этого были печальные последствия».
— Ну да, ну да. Но я как раз повсеместно наблюдаю сейчас стадию «сладкого воспоминания о грехе» — поэтому-то и сказал, что задумываюсь о сути самого понятия. Вот дай нам машину времени, то как мы поступим?
Я слушал моих друзей и вспоминал, как жарким летом уходящего года совершил такое же путешествие во времени — я вернулся лет на двадцать назад, и это был горький опыт. В общем, это было очень странное путешествие. В том месте — среди изогнутой реки, холмов, сосен и обрывов над чёрной торфяной водой, я впервые был лет пятнадцать назад — и потом ездил туда раз в год, пропустив разве раз или два — когда жил в других странах.
Ежегодно там гудел день рождения моего приятеля, но первый раз я приехал в другом раскладе: с одноклассником. Он только что отбил жену у приятеля, и вот теперь объезжал с ней, усталой, с круглым помидорным животом, дорогие сердцу места, оставляя их в прошлом, прощаясь. Одноклассник уже купил билеты на «Эль-Аль» и Обетованная земля ждала их троих. И я тогда был не один, да.
И вот за эти ушедшие, просочившиеся через тамошний песок годы на поляне, где я ночевал, ушлые люди вырастили ели, потом топорами настучали ёлкам под самый корешок, расставили их по московским домам, и вот — теперь там было поле, синее от каких-то лесных фиалок. Самым странным ощущением было ощущение от земли, на которой ты спал или любил. Вот ты снова лежишь в этом лесу, греешь ту же землю своим телом, а потом ты уходишь — и целый год на это место проливаются дожди, прорастает трава, вот эта земля покрывается снегом, вот набухает водой, когда снег подтаивает. И вот ты снова ложишься в эту ямку, входишь в этот паз — круг провернулся как колесо, жизнь, почитай, катится с горки. Но ты чувствуешь растворённое в земле и листьях тепло своего и её тела. У меня было немного таких мест, их немного, но они были — в крымских горах, куда не забредают курортники, в дальних лесах наверху, где нет шашлычников. Или в русских лесах, где зимой колют дрова и сидят на репе, и звезда моргает от дыма в морозном небе. И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли да пустое место, где мы любили. Теперь и там, и где-то в горах, действительно пустое место. А когда-то там стояла наша палатка, и мы любили у самой кромки снега. С тех пор много раз приходили туда снега, выпадая, а потом стекая вниз. На той площадке, сберегавшей нас, теперь без нас сменяются сезоны, там пустота, трава да ветер, помёт да листья, прилетевшие из соседнего леса. Там, и здесь, в этом подмосковном лесу без меня опадала хвоя и извилисто мимо текла река, и всё никогда не будет так же — дохнёт свинцовой гарью цивилизация, изменит русло река, а останется только часть тепла, частица. Воздух. Пыль. Ничто.
И время утекло водой по горным склонам, по этой реке, как течёт сейчас в нашем разговоре, когда мы пытаемся вернуть наши старые обиды, а сами уплываем по этой реке за следующий поворот.
— Машина времени нам бы не помешала, — вдруг сказал я помимо воли.
— Ты знаешь, я о таких машинах регулярно смотрю по телевизору. Засекреченные разработки, от нас скрывали, скручивание, торсионные поля… Сапфировый двигатель, опять же.
— Хм. Сапфировый двигатель случайно не содержит нефритовый ротор и яшмовый статор?
— Вова! — скорбно сказал Раевский. — Ты ведь тоже ходил к Ляпунову на лекции… Тут всё просто — охладил — время сжалось, нагрел — побежало быстрее.
— Не всё просто: это вернее простая теория — охладить тело до абсолютного нуля, — 273º по Цельсию, и частицы встанут. Но если охлаждать тело дальше, то они начнут движение в обратном направлении, станут колебаться, повторяя свои прошлые движения — и время пойдёт вспять. Да только всё это мифы, газета «Оракул тайной власти», зелёные человечки сообщают…
— А Ляпунов? — спросил Сидоров.
— Ляпунов — сумасшедший, — быстро ответил успешный во всех отношениях человек Раевский. — Вон, Володя его в костюме Деда Мороза сегодня видел.
— Тут дело не в этом, — сказал просто успешный человек Леонид Александрович. — Ну вот попадаешь ты в прошлое, раззудись плечо, размахнись рука, разбил ты горячий камень на горе, начал жизнь сначала. И что ты видишь? Ровно ничего — есть такой старый анекдот про то, как один человек умер и предстал перед Господом. Он понимает, что теперь можно всё, и поэтому просит:
— Господи, — говорит он, — будь милостив, открой мне, в чем был смысл и суть моей жизни?
Тот вздыхает и говорит:
— Помнишь ли ты, как двадцать лет назад тебя отправили в командировку в Ижевск?
Человек помнит такое с трудом, но на всякий случай кивает.
— А помнишь, с кем ехал?
Тот с трудом вспоминает каких-то двоих в купе, с кем он пил, а потом отправился в вагон-ресторан.
— Очень хорошо, что ты помнишь, — говорит Господь и продолжает:
— А помнишь ли ты, как к вам женщина за столик подсела?
Человек неуверенно кивает, и действительно, ему кажется, что так оно и было. (А мне в этот момент стало казаться, что это всё та же история про китайского монаха с ящиком для пожертвований и девушку, что я уже сегодня услышал. Просто это будет рассказано с другой стороны).
— А помнишь, она соль попросила тебя передать…
— Ну и?
— Ну и вот!
Никто не засмеялся.
— Знаешь, это довольно страшная история, — заметил я.
— Я был в Ижевске, — перебил Сидоров. — Три раза. В вагоне-ресторане шесть раз был, значит. Точно кому-то соль передал.
— А я по делам в Ижевске был. Жил там год, — невпопад вмешался Евсюков. — В Ижевске жизнь странна. За каждым забором куют оборону. Так вот, на досуге я изучал удмуртов и их язык. Обнаружил в учебнике, что мурт — это человек. А уд-мурт — житель Удмуртии.
— Всяк мурт Бога славит. Всяко поколение. — Просто успешный человек Леонид Александрович начал снова говорить о поколении, его слова отдалялись от меня, звучали тише, потому что я вспомнил, как однажды мне прислали пафосный текст. Этот текст сочился пафосом, он дымился им, как дымится неизвестная химическая аппаратура на концертах, которая производит пафосный дым для тех мальчиков, что поют, не попадая в фонограмму.
Этот текст начинался так: «Удивительно как мы дожили до нынешних времен! Мы ведь ездили без подушек безопасности и ремней, мы не запирали двери и пили воду из-под крана, и воровали в колхозных садах яблоки». Дальше мне рассказывали, как хорошо рисковать, и как скучно и неинтересно новое поколение, привыкшее к кнопкам и правилам. Прочитав всё это, я согласился.
Я согласился со всем этим, но такая картина мира была не полна, как наш новогодний, тоже вполне помпезный обед не завершён без диггестива или кофе, как восхождение, участники которого проделали всё необходимое, но не дошли до вершины десяток метров. Я бы дописал к этому тексту совсем немного: то, как потом мы узнали, что в некоторых сибирских городах пьющие воду из кранов и колонок, стремительно лысеют и их печень велика безо всякого алкоголизма, что их детское небо не голубого, а оранжевого цвета, как молча дерутся ножами уличные банды в городах нашего детства, и то, как живут наши сверстники, у которых нет ни мороженого, ни пирожного, а есть нескончаемая узбекская хлопковая страда, и после нескольких школьных лет организм загибается от пестицидов. Ещё бы я дописал про то, как я работал с одним человеком моего поколения. Этот человек в дороге от одного немецкого города до другого рассказывал мне историю своего родного края. Во времена его давнего детства навалился на этот край тяжёлый голод. И даже в поменявшем на время своё название, а знаменитом городе Нижнем-Горьком-Новгороде стояли очереди за мукой. Рядом, в лесной Руси, на костромскую дорогу ложились мужики из окрестных деревень, чтобы остановился фургон с хлебом. Фургон останавливался, и тогда крестьяне, вывалившись из кустов и канав, связывали шофёра и экспедитора, чтобы тех не судили слишком строго и вообще не судили. А потом разносили хлеб по деревням.
Именно тогда одного мальчика бабушка заставляла ловить рыбу. То есть летом ему ещё было нужно собирать грибы и ягоды, а вот зимой этому мальчику оставалось добывать из-подо льда рыбу. Рано утром он собирался и шёл к своей лунке во льду. Он шёл туда и вспоминал свой день рождения, когда ему исполнилось пять лет, и когда он в последний раз наелся. С тех пор прошло много времени, мальчик подрос, отслужил в десантных войсках, получил медаль за Чернобыль, стал солидным деловым человеком и побывал в разных странах.
Каждая история требовала рассказа, каждая деталь ностальгического прошлого требовала описания — даже устройство троллейбусных касс, что были привинчены под надписью «Совесть — лучший контролёр!»…
Как-то, напившись, он рассказал мне своё детство в помпезном купе, в которое охранники вряд ли бы пропустили молодую девушку. Мы везли ящики с не всегда добровольными пожертвованиями, и оттого в вагон-ресторан не отлучались. Глаза у моего приятеля были добрые, хорошие такие глаза — начисто лишённые ностальгии.
Рыбную ловлю, кстати, он ненавидел.
И ещё бы дописал немного к тому пафосному тексту: да, мы выжили, для разного другого. И для того в частности, чтобы Лёхе отрезали голову. Он служил в Гератском полку и домой вернулся в цинковой парадке. Это была первая смерть в нашем классе.
Саша разбилась в горах. То есть не разбилась — на неё ушёл по склону камень. Он попал ей точно в голову. Что интересно — я должен был идти тогда с ними, из года в год отправляясь с ними вверх, я пропустил то лето.
Боря Ивкин уехал в Америку — он уехал в Америку, и там его задавила машина. В Америке… Машина. Мы, конечно, знали, что у них там машин больше, чем тараканов на наших кухнях. Но что бы так — собирать справки два года и — машина.
Миронова повесилась — я до сих пор поверить не могу, как она это сделала. Она весила килограмм под сто ещё в десятом классе. Соседка по парте, что заходила к её родителям, говорила, что люстра в комнате Мироновой висит криво до сих пор, а старики тронулись. Они сделали из её комнаты музей и одолевают редакции давно мёртвых журналов её пятью стихотворениями — просят напечатать. Мне верится всё равно с трудом — как могла люстра выдержать центнер нашей Мироновой.
Жданевич стал банкиром, и его взорвали вместе с машиной, гаражом и дачей, куда гараж был встроен. Я помню эту дачу — мы ездили к нему на тридцатилетие и парились в подвальной сауне. Его жена всё порывалась заказать нам проституток, но как-то все обошлись своими силами. Жена, кстати, не пострадала, и потом следы её потерялись между внезапно нарезанными границами.
Вову Прохорова смолотило в Новый Год в Грозном — он служил вместе с Сидоровым, был капитан-лейтенантом морской пехоты, и из его роты не выжил никто. Наши общие друзья говорили, что под трупами на вокзале были характерные дырки — это добивали раненых, и пули рыхлили мёрзлый асфальт.
Даша Муртазова села на иглу — второй развод, что-то в ней сломалось. Мы до сих пор не знаем, куда она уехала из Москвы.
И Ева куда-то исчезла. Её искали несколько лет, и, кажется, сейчас ищут. Это мне нравится, потому что армейское правило гласит — пока тело не найдено, боец ещё жив.
Сердобольский попал под машину — два ржавых, ещё советских автомобиля столкнулись на перекрёстке проспекта Вернадского и Ломоносовского — это вам не Америка. Один из них отлетел на переход, и Сердобольский умер мгновенно, наверное, не успев ничего понять.
Скрипач Синицын спился — я видел его года три назад, и он утащил меня в какое-то кафе, где можно было только стоять у полки вдоль стены. Так бывает — в двадцать лет пьёшь на равных, а тут твой приятель принял две рюмки и упал. Синицын лежал как труп, еле выйдя из рюмочной. Я и решил, что он труп, но он пошевелил пальцами, и я позорно сбежал. Было лето, и я не боялся, что он замёрзнет. К тому же, даже в таком состоянии, Синицын не выпускал из рук футляра со скрипкой. Жизнь его была тяжела — я вообще не понимаю, как можно быть скрипачом с фамилией Синицын? Потом мне сказали, что у него были проблемы с почками и через год после нашей встречи его сожгли в Митино.
Разные это всё были люди, но едино — вслед давно мертвому поэту, я бы сказал, что они не сумели поставить себя на правильную ногу. И я не думаю, что их было меньше, чем в прочих поколениях — так что не надо никому надувать щёки.
Мы были славным поколением — последним, воспитанным при Советской власти. Первый раз мы поцеловались в двадцать, первый доллар увидели в двадцать пять, а слово «экология» узнали в тридцать. Мы были выкормлены Советской властью, мы засосали её из молочных пакетов по шестнадцать копеек. Эти пакеты были похожи на пирамиды, и вместо молока на самом деле в них булькала вечность.
В общем, нам повезло — мы вымрем, и никто больше не расскажет, как были устроены кассы в троллейбусах и трамваях. Может, я ещё успею.
— Ладно, слушайте, — сказал я своим воображаемым слушателям. Нет, не этим друзьям за столом, они высмеяли бы меня на раз, а невидимым подросткам, — Кассы были такие — они состояли из четырехугольной стальной тумбы и треугольного прозрачного навершия. Через него можно было увидеть серый металлический лист, на котором лежали жёлтые и белые монеты. Новая монета рушилась туда через щель, и надо было — опираясь на совесть — отмотать себе билет сбоку, из колодки, чем-то напоминающей короб пулемёта «Максим».
Теперь я открою главную тайну: нужно было дождаться того момента, когда, повинуясь тряске трамвая или избыточному весу меди и серебра, вся эта тяжесть денег рухнет вниз, и мир обновится.
Мир обновится, но старый и хаотический мир каких-то бумажных билетиков и разрозненной мелочи исчезнет — и никто, кроме тебя не опишет больше — что и где лежало рядом, как это всё было расположено.
Но было уже поздно, и мы вылезли на балкон разглядывать пульсирующие на уровне глаз огни праздничного города.
Мы принялись смотреть, как вечерняя тьма поднимается из переулка к нашим окнам. Тускло светился подсвеченный снизу храм Христа Спасителя, да горел купол на церкви рядом. Сырой ветер потепления дул равномерно и сильно.
Время нового года текло капелью с крыш.
Время — вот странная жидкость, текущая горизонтально по строчке, вертикально падающая в водопаде клепсидры — неизвестно каким законом описываемая жидкость. Присмотришься, а рядом происходит удивительное: пульсируя, живет тайная холодильная машина, в которой булькает сжиженное время, отбрасывая тебя в прошлое, светится огонек старинной лампы на дубовой панели, тускло отсвечивает медь трубок, дрожат стрелки в круглых окошках приборной доски. Ударит мороз, охладится временная жидкость — и пойдет все вспять. Сгустятся из теней по углам люди в кухлянках, человек в кожаном пальто, офицеры и академики.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
02 января 2015
Кошачий король (Рождество. 7 января) (2015-01-07)
Памяти Мэтью Льюиса

В тёмную и мерзкую полночь, московскую, со слякотным снегом в свете редких фонарей полночь, ту полночь, от которой бегут прочь на иное, заграничное место жительства фальшивые евреи и программисты, светские дамы и непонятые поэты, полночь, в которую, не отнимая стекла от губ, лечится от тоски водкой простой человек, которому бежать уже некуда — именно в этот час Наталья Александровна Весина вышла на улицу.
Садовое кольцо было пустынно. Наступило (благодаря московской высокой широте и зимнему мраку, наступило давно) Рождество.
Наталья Александровна вышла из чужого дома и пошла, ловко маневрируя между грязными сугробами, к машине. Наталья Александровна ругала себя за то, что так поздно засиделась на празднике.
Разные люди бывали на этом странном празднике в запутанной коммунальной квартире на Садовом кольце.
Первым Весиной под ноги попался маленький вьетнамец Донг, похожий на деловитого серьёзного лягушонка.
За ним в проёме двери, из глубины квартиры появилась жена Сидорова — с серьезными, печальными глазами страдающей мадонны, и молча улыбнулась запоздавшей гостье. Из кухни сразу же раздались приветственные крики Сидорова, который, однако, никак не мог вылезти из-за стола, зажатый со всех сторон гостями. Помог ей раздеться другой её одноклассник, тонкими музыкальными пальцами подхватывая все многочисленные детали — лёгкие и пушистые — весинской верхней одежды.
Сидоров был благообразен и не махал руками (в основном потому, что было тесно). Его свободы в кругу друзей хватало лишь на то, чтобы вычесывать крошки из бороды. Он приглаживал её, сегодня на удивление аккуратную, и улыбался всем сидящим — изящной художнице с пепельными волосами, высокому мужчине, занятому только своей женой, каким-то восточным людям, чёрные одинаковые головы которых еле поднимались над столом. Какой-то наголо стриженый толстый очкарик, наклонив голову, внимательно разглядывал присутствующих. Приехал и отец Михаил, и теперь, сидя в своём штатском — чёрном свитере и простом пиджаке, не выказывая своего сана, спокойно, но не без интереса, слушал весь этот гомон.
— Бог ты мой, Наташа! Это ты! Как я рад! Ну и ну! — заорал Сидоров, увидев Весину. Он взмахнул-таки руками. Что-то обрушилось с полки и покатилось под столом. Пламя многочисленных свечей заколебалось.
Не то, чтобы Весиной было особенно приятно посетить чужой дом, совсем нет. За несколько лет, прожитых с мужем сначала в Прибалтике, а потом в Японии, она успела отвыкнуть от своего шумного бородатого одноклассника. Они никогда не были близки, хотя в школе она считала день, когда он не рвался донести ей портфель до подъезда, ненормальным и удивительным.
С Сидоровым было приятно поболтать — и только.
Наталья Александровна, слава Богу, себе цену знала. С детства она жила в особом мире потомков отцовских друзей. На Ломоносовском проспекте, в квартире отца-академика каждый день бывали солидные люди, уединявшиеся с хозяином в кабинете, откуда неслась невнятная японская речь. Солидные люди приводили с собой сыновей, красивых мальчиков со стальными мускулами, натренированными каратэ. Мальчики садились в уголок и пожирали дочь хозяина глазами.
Глаза эти были испуганными, почти восторженными. Они как бы говорили: «Прекрасна! — и даже очень»! Но и тогда Наталья Александровна знала себе цену. Потом, спустя годы она встречала некоторых из них, потасканных, обрюзгших к сорока годам, вызывавших в ней слабую брезгливость, а, впрочем, нет, не вызывавших ничего.
Ей уже тогда было неуютно в компаниях молодых людей, называвших такси оскорбительно простонародными словами — какими-нибудь тачкой или мотором, и что-то пьяно кричавших шофёру с заднего сиденья. Даже на академической даче в Лысогорье ей не приходило в голову как-то сблизиться со сверстниками, что буйным сытым стадом носились по окрестностям на родительских машинах и собственных мотоциклах.
Она с великолепным презрением — термин, не нами придуманный, относилась к своим университетским сокурсникам, к хатам и студенческим попойкам. На третьем курсе Наталья Александровна начала заниматься арабистикой. Отец не очень одобрил измену фамильной теме и не тянул её, но мягко устранял с её пути, как он выражался, «необязательные трудности».
Был, впрочем, один случай. Даже не случай, а особое настроение минуты, помрачение рассудка.
На том же третьем курсе, когда её в числе многих студенток их немужского факультета повезли на картошку, она сразу отметила в толпе высокую фигуру некоего старшекурсника. Наталья Александровна, тогда ещё просто Наташенька, уже встречала в коридорах этого высокого, странно выделявшегося среди её слабосильных сверстников и девиц на выданье.
Они познакомились в первый же вечер, в полутёмной палате пионерского лагеря, в котором их поселили. Высокий старшекурсник, отбрасывая со лба прядь волос, пел протяжные песни под гитару.
Наталья Александровна, казалось, потеряла рассудок. Ей вдруг показалось, что это знакомство перевернет её жизнь, она покинет внезапно надоевшую отцовскую квартиру, и начнётся что-то новое, освящённое нет, может, и не любовью, но надёжностью и верой, собравшейся воедино в этом полуночном гитаристе.
Перед ноябрьскими праздниками она сама пришла в его квартиру, впервые в жизни не отдавая себе отчёта, что будет дальше.
Старшекурсник, сидевший один в накуренной кухне, очень ей обрадовался, и, заварив кофе, начал с юмором описывать свои летние приключения. В кухне, как и в той пионерской палате, было полутемно, и в этой темноте Наталья Александровна, наконец, протянула свою тонкую и красивую руку к его, покойно лежащей на столе, руке.
Острая боль вдруг пронзила ладонь Наташи — тогда она была всего лишь Наташей. Она случайно коснулась зажжённой сигареты. Наталья Александровна не успела испугаться, как в прихожей тренькнул звонок, и хозяин, извинившись, исчез. Наталья Александровна хорошо слышала из кухни клацанье замка, скрип двери и вдруг услышала:
— Серёга! Когда приехал? Прямо ко мне? Снимай шинель! Звонить надо, а то… Сейчас я тебя в ванную!..
Услышав это, Наталья Александровна прокралась в прихожую, достала из-под сваленной амуниции свою сумочку, и, на ходу накидывая шубку, выскочила за дверь.
И это был всего лишь случай, отнюдь не нарушивший строй весинского мироздания. Случай потому, что уже в лифте Наталья Александровна поняла бессмысленность и, что страшнее, забавность происшествия. Она сделала лёгкое усилие над собой, и — всё забыла.
Так или иначе, к диплому она знала три языка, и защита, а затем и экзамены в аспирантуру превратились в формальность. Нет, это была не протекция, а просто разумное устранение неконструктивных трудностей.
Когда она, в очередной раз встретив знакомых, театрально всплеснула руками — «Мир тесен!» — отец обнял её за плечи и назидательно сказал: «Не мир тесен, дочь, а слой тонок…»
Отец сначала удивился, что мужа Наташа выбрала не из их академической среды. Зять ему достался скорее из коммерсантов, а может и из политиков. Международные экономические дороги увели новоиспечённого зятя, а с ним и Наталью Александровну, из дома на Ломоносовском. Постаревший академик, пребывавший теперь вместо состояния войны с другой научной школой в состоянии «дзен», примирился с волевым и талантливым бизнесменом, и уже с удовольствием получал объёмистые международные посылки.
Занятие, в которое погрузилась теперь Наталья Александровна целиком, — было семья, то есть муж, которого нужно было поддержать, и дом, который нужно было держать. Супруг Натальи Александровны всё своё время отдавал работе, и поэтому приезжала в Россию она, как правило, одна, останавливаясь на зимней отцовской даче. Дача была достаточно уютна, а машина сокращала расстояние до подруг и знакомых.
По правде сказать, Наталья Александровна без большой охоты садилась за руль, но на Родине надо было со многим мириться.
Одно из немногих воспоминаний о прошлой жизни, с которыми ей было жаль расставаться, были одноклассники и те встречи в доме на Садовом кольце, о которых мы рассказали выше.
Итак, Наталья Александровна с любопытством разглядывала гостей (место было не вполне удобное, на уголку, но Наталья Александровна была не суеверна, да и всё для неё давно исполнилось). Мешали ей лишь громкие взрывы хохота и какой-то предмет, подкатившийся под ногу.
Немного подумав, она быстро наклонилась и нащупала небольшой полосатый цилиндр, похожий на карандаш губной помады. Цилиндрик был покрыт чёрно-белыми полосами, и нигде не было видно на нём стыка или шва. Чем-то он напоминал флакон духов, исполненный под восточную старину. Едва она задумалась над его предназначением, как с ней заговорил сидящий рядом Захаров, давний её знакомый и поклонник. Захаров был особенно шикарен в этот вечер (по мнению Сидорова), и довольно забавен (по мнению самой Весиной). Невзначай Наталья Александровна опустила безделушку в сумочку, сама не зная зачем. Было бы наивно полагать, что столь солидная дама может быть подвержена клептомании.
Слово за слово, и они с Захаровым разговорились, а, разговорившись, Наталья Александровна незаметно попала в центр общей беседы, всё более и более изящной и светской, но при этом непринуждённой. Сидоровский вечер был, что называется, пущен. Опомнилась Наталья Александровна лишь к полуночи, и теперь, пробираясь к машине, ругала себя за столь позднее возвращение домой. Смертельно захотелось Наталье Александровне сразу переместиться домой, поближе к камину, в теплую постель… В этот момент она даже примирилась с присутствием на даче отцовского японского кота
— единственного постоянного жителя — работница была приходящей.
Машина завелась сразу, настоящее качество изощрённого восточного ума. Она, улыбнувшись, вспомнила, как в былые времена Раевский, по её просьбе, бегал к её «Жигулям», чертыхаясь, прогревать мотор.
Наталья Александровна поудобнее устроилась на сиденье, воздух в салоне умная техника нагрела загодя, скинула шубку. Машина мягко тронулась, несколько раз качнувшись на снежных буграх, и выехала на проезжую часть. Весина решила сократить путь и свернула на Матвеевское.
Пустынно было в этот час на московских улицах. Снег перестал, и заметно потеплело. Машина ушла вниз, в овраг, чёрный и пустой, — лишь на той стороне беззвучно вспыхивала в полгоризонта неоновая реклама азиатского монстра, производящего всё — от батареек до этого её автомобиля.
Дорога свернула в лес. Какая-то тревога посетила Наталью Александровну. Нехорошее это было чувство, неудобное.
И точно. Едва въехав в лес, машина начала терять скорость, а, как только Весина нажала на газ, мотор чихнул и заглох совсем. Внезапно стало тихо и очень тоскливо. Наталья Александровна представила, каково ей сейчас вылезать из теплой машины и добираться до телефона. Она закутывалась и вспоминала, кто бы мог её выручить. Стаховский был в отпуске, Иванова не отпустит жена, да и древняя его машина стоит наверняка у дома, превратившись в снежный сугроб. Всё же стоит дозвониться до Сидорова — Раевский сидит у него, и он, пожалуй, единственный, кто не станет долго думать и долго напоминать об этой услуге.
Телефон мигнул экраном и хамски сообщил, что в овраге нет связи.
Она заперла дверцу. Опять пошёл снег.
Путеводная звезда, дорога к чуду, отсутствовала в тёмном небе, но Наталья Александровна быстро перебирала ножками в теплых пуховых сапогах. За деревьями мелькнули огоньки широкого шоссе, и Весина решила срезать путь к нему через опушку, но только она сделала несколько шагов, как поскользнулась и кубарем полетела в лощину.
Это окончательно рассердило Наталью Александровну. Сердита она была на предметы одушевлённые и не очень.
Например, на застолье, на сентиментальное настроение, в конце концов, породившее все эти неудобства, сердилась на свою машину и, наконец, на самое себя.
В довершение, снег попал ей в самые уязвимые части туалета, да и не было ситуации глупее — оказаться одной, ночью, в каком-то лесу, без надежды на помощь…
Она начала выбираться наверх, проклиная всё и вся. Проваливаясь по колено, она двинулась к огням, и тут выяснилось, что свет исходит не со стороны дороги, а, наоборот, от ближних деревьев. Мягкое серебристое сияние освещало протоптанную тропинку, ведущую вглубь леса. Наталья Александровна машинально сделала несколько шагов по ней и моментально очутилась на небольшой полянке.
Посередине поляны стоял дуб. Вероятно в десять раз старше берёз и прочей смешанной растительности, составлявшей лес, он был в три раза выше каждого дерева. Это был огромный, в четыре обхвата дуб, с обломанными чьей-то рукой или временем сучьями, и корой, покрытой всяческими наростами.
С огромными своими раскоряченными ветвями — руками и пальцами, он старым, сердитым и злобным уродом стоял между окружающими деревьями в мягком мерцании загадочного света.
Но вот что удивительно: сияние исходило изнутри древесного гиганта.
Крадучись, почему-то приставными шагами, Наталья Александровна приблизилась к дубу. Мощное его тело было разделено огромным дуплом. Весина осторожно заглянула туда.
В это мгновение снег остановился в воздухе, сверкнув серебряными искорками, и послышалась тихая музыка, негромкое стройное пение…
Однако то, что Наталья Александровна увидела внутри дупла, так потрясло её, что, не разбирая дороги, она кинулась назад, продираясь сквозь торчащие из-под снега кусты…
Весина выскочила на дорогу как раз вовремя. Вдали, у поворота, сверкнули фары, и через мгновение сноп света ослепил её. В другое время, она, славная своей осмотрительностью, никогда не стала бы останавливать первую попавшуюся машину, но тут всё же был особый случай. Она отчаянно замахала рукой, машина плавно остановилась, и Наталья Александровна просто ввалилась в салон, еле переводя дыхание.
Только спустя некоторое время, когда машина тронулась, Наталья Александровна сообразила, что забыла указать дорогу, договориться, осмотреться… Она обвела глазами внутренность автомобиля, казавшегося даже издали, в темноте, внушительным и старинным, и что же увидела она?
На переднем сиденье сидел бесстрастный водитель в фуражке, обшитой золотым шнуром. Похож он был на памятного Наталье Александровне по дачным лысогорским годам невозмутимого соседского бульдога с большим лбом над влажными глазами. Бульдог никогда не тявкал. Слюнявый рот его раскрывался лишь при зевке. Но, глядя на неподвижную щёку шофёра, нельзя было и подумать, что он способен зевнуть.
Рядом с шофёром, поглядывая на заднее сиденье, расположился молодой красавец с медальным профилем и преданными собачьими глазами.
Там, на подушках расшитого золотом красного сафьяна, находились двое (не считая Натальи Александровны, с ужасом озирающейся вокруг).
Один из этих двоих, благообразный старичок с аккуратной белой бородой, в каком-то кафтане, и, казалось, припудренный, сидел, сложив руки на извилистой трости. Ножки старичка, обутые в татарские сапожки, были крепко сжаты. Второй, также в возрасте, но подвижный, завитой, и оттого напоминавший пуделя, облачённого в старомодный сюртук, с трубкою в руке, внимал седобородому старичку. Несмотря на смеющиеся глаза пуделя, было заметно его глубокое уважение к собеседнику.
Старичок, видимо продолжая разговор, медленно говорил, тщательно выговаривая каждый слог:
— Eh bien, mon prince. Non, je vous préviens, que si vous ne me dites pas, que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) — je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami…
Он говорил на слишком изысканном языке, казалось выдуманном, но сразу внушившем мысль о значительности старичка. Такой язык она помнила у старух с французской кафедры, ускользнувших когда-то от революционных матросов.
Вся эта сказочная картина (теперь Весина воспринимала её на удивление спокойно) освещалась недрожащим пламенем свечей, укреплённых в медных подсвечниках на отделанных мореным дубом простенках автомобиля.
Старичок прервался и осторожно повернул голову к Весиной.
— Je vois que je vous fais peur, — произнёс он, видимо констатируя факт, но, несколько повысив интонацию в конце, что придало фразе вопросительный оттенок.
В этот момент Весина сообразила, что все три языка, включая французский, улетучились из её памяти. Она с зубным стуком захлопнула рот, а старичок, пожевав губами, продолжил:
— Да Вы совсем продрогли, сударыня! Я надеюсь, что Вы не откажетесь от чашечки кофе.
— Виктор, — старичок взглянул на доселе молчавшего красавца на переднем сиденье. — Чашечку кофе нашей гостье.
В руках у того сейчас же оказалась белое блюдечко с такой же чашечкой. Наталья Александровна негнущимися пальцами приняла его и снова открыла рот. Мимика эта, вид полного недоумения, часто помогало ей в этой жизни. Надо признаться, это её даже красило, да и многие замечали эту удивительную женскую особенность.
— Я понимаю, сударыня, ваше удивление… Надеюсь, что здоровье вашего супруга не внушает больше опасений… Я знаю, как опасна инфлюэнца, особенно на новом месте… Но теперь, думается, всё миновало?
— Да, — ответила, подавившись горячим кофе, Весина.
— Надеюсь так же, что мы не вызвали Вашего неудовольствия. Поверьте, мы, конечно, нанесли бы Вам визит с соблюдением необходимых формальностей, но, увы, обстоятельства…
— Да, да, — вступился завитой старичок, взмахнув незажжённой трубкой.
Все они закивали головами — белобородый медленно, а остальные быстрее. Лишь один шофёр продолжал бесстрастно вести авто.
— Я надеюсь, сударыня, — продолжал старичок, — что Вы не восприняли всерьез то, что видели сейчас… Там, в лесу…
Князь считает меня человеком консервативного склада, но, поверьте мне, любой непредвзятый наблюдатель счёл бы всё это дешёвым фиглярством… Да. Хотя сам он, как мне кажется, настроен к этой пиесе более… Гм… Резко.
Веселый человек-пудель в углу сделал гримасу, показав совершенно нечеловеческие зубы.
— Вы, сударыня, случайно оказались вовлечённой в эту историю, и с Вашей же помощью мы сумеем придать ей естественный ход. Так вот, к несчастью, не имея довольно времени, чтобы вести далее столь приятную беседу (ведь мы уже скоро будем, да?) — тут уж закивали все — шофёр один раз, медленно, весельчак — два раза, уважительно, а бравый молодец на переднем сиденье — быстро-быстро.
— Наталья Александровна, дорогая, к Вам, ну, разумеется, случайно, попал Магистерский Жезл, и мы, все здесь собравшиеся, покорнейше просим передать его нам.
Весина несколько раз взмахнула ресницами, ничего не понимая, но молодец, перегнувшись в щель между креслами, зашептал:
— Умоляю Вас, быстрее… Ну, быстрее… Ну, откройте же сумочку!
Он, казалось, даже тявкнул. От первого же движения, из сумочки посыпались какие-то ненужные бумажки, бумажки нужные, бумажная труха, косметика, записная книжка, кредитные карточки…
И загадочный предмет, подобранный в сидоровском доме. Все сидевшие в машине ещё более оживились, и даже старичок развёл свои губы в улыбке. Наталья Александровна вдруг поняла, что её находка уже находится в руках старика, хотя твёрдо помнила, что он не шевельнулся. Не то, что протянул руку, а и бровью не повёл.
— Прекрасно, — произнёс он и спрятал улыбку в бородку. — А вот мы и приехали.
Молодой человек засуетился, хлопая дверцами, и помог выйти Наталье Александровне, которая, находясь в очаровании этого странного сна, вовсе не хотела с ним (этим сном) расстаться. Но тут она всмотрелась, и — то была её дача. Оглянувшись, Весина увидела лишь исчезающие вдали красные огоньки.
Наталья Александровна проснулась поздно. В соседней комнате уже горел камин — праздник продолжался.
Камин на даче разжигала домработница отца. Она была незаметной, серой женщиной со стёртыми временем чертами. Наталья Александровна, надо признать, прислуги в доме не терпела, и отец просто сказал, что дочь никого не заметит на даче.
Так и было. В тот год подскочили цены на газ, и водонагреватель почти не работал. Топили дровами — от такого Наталья Александровна давно отвыкла. Впрочем, в семье камином пользовались независимо от отопления.
Но не до того, что горело в камине, было сейчас Наталье Александровне, осоловело глядящей вокруг себя. Не до наглого и мерзкого отцовского кота, важно расхаживающего по комнатам. Не до своего даже утреннего туалета.
Машина. Свечи в канделябрах… Лесные тропинки… Дуб…
Все мешалось в её голове… Надо было позвонить Раевскому, чтобы он, по старой памяти, отогнал машину с лесной дороги, но она медлила.
Окно было разрисовано морозом, но рассеянный взгляд Натальи Александровны упал на припорошенное свежим снегом японское чудо на колёсах.
— Так это, — облегченно, но немного разочарованно вздохнула Наталья Александровна.
Домработница исчезла окончательно, оставив после себя свертки с продуктами. Посвятив некоторое время приготовлению завтрака, Наталья Александровна решила позвонить кому-нибудь.
Ещё со времён Университета у неё и её подруг-однокурсниц была традиция утренних разговоров по телефону. Сварив кофе, они, тогдашние студентки, обменивались новостями до обеда. Время текло медленно, предопределённо и заканчивалось поздним вставанием.
И сейчас, ностальгически перелистав записную книжку, она выбрала единственный телефон из всех возможных, тот, по которому можно было позвонить, не вдаваясь в подробности прошлого. Это был телефон Леночки Элсхендер.
Наталья Александровна набрала номер, и после недолгой болтовни начала пересказывать свой сон.
Удивительно уютно было в доме — на улице наперекор ночной оттепели был мороз, а тут потрескивал настоящий камин. Кофе у Натальи Александровны был свой, привезённый, а потому отличный. Всё это очень сочеталось со всей дачной обстановкой, с японскими циновками, коврами и даже с отъевшимся дачным котом, казалось, внимательно слушающим саму хозяйку.
— Так вот, — говорила Наталья Александровна, — я скорее пошла на огонёк. Но когда я заглянула в дупло… Да, да, там было дупло. Этакий шедевральный провал. Так вот, представляешь, в дупле было что-то вроде церкви, и там кого-то хоронят…
Я слышала пение! Да, пение!.. Я слышала пение, видела гроб и факелы. И знаешь, кто нёс факелы? Но, нет, ты мне всё равно не поверишь…
Тут Наталья Александровна отхлебнула кофе, чтобы перевести дух, и с удовлетворением услышала кудахтанье подруги.
— Поверь мне, — продолжала Наталья Александровна Весина, — всё то, что я говорю, чистая правда. Гроб и факелы несли коты, а на крышке гроба были нарисованы корона и скипетр!
Больше ничего она не успела добавить, ибо чёрный кот вскочил со своего места и крикнул:
— О небо! Значит, старый дурак подох, и теперь я Повелитель котов! Теперь дело за Магистерским Жезлом!
Тут кот прыгнул в камин и исчез навсегда.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
07 января 2015
Роковые шары (День работника прокуратуры, 12 января) (2015-01-09)

Тягуча и страшна летняя ночь в Москве, когда жаркая тьма накрывает город.
Сон в такую ночь тяжёл, будто перина не в меру заботливой бабушки. А перина эта тяжелее плащпалаток бронзовых солдат на постаментах вокруг этого города.
В такую жаркую ночь, под тонкий писк кондиционера, Наталья Александровна плыла по реке тяжелого, страшного сна.
Сон нёс её над городом, и сон этот был страшен, от него нельзя было отвязаться, как нельзя отвязаться от контролёра в троллейбусе. Ей снился длинный коридор, по бокам которого стоят клетки с теми мёртвыми зверями, что ставят в парках и скверах на страх детям. Пряли ушами гипсовые зайцы, ворочал головой белый лев, а гипсовый слон рыл пол клетки бивнями. Коридор был освещён странным светом, и Наталье Александровне хотелось притронуться к лампе под потолком, как к запретному яблоку в райском саду.
«Огонь, огонь, иди за мной», — шепчет Наталья Александровна, а её тело, находясь на поверхности сна, на грани реальной жизни, ворочалось беспокойно в кровати, комкая простыню. Однако в том сне огонь действительно шёл за ней, катился как шар, рассыпая холодные блики по стенам. Наконец она попала в смутно знакомый огромный зал бильярдного клуба, где повсюду на зелёном сукне рассыпаны белые шары, похожие на кладку яиц неизвестного чужого существа.
Вместо призрачного света у неё за спиной уже стоял старичок-маркёр. Наталья Александровна узнала его — полгода назад она видела этого старичка в ресторане. Там она была вместе со своим сердечным другом, бильярдистом Макаровым. Маркёр возник из ниоткуда и забормотал что-то Макарову в ухо, будто вокзальный сумасшедший. Потом выяснилось, что в те дни Маркёр он действительно тронулся рассудком.
Тогда застрелился проигравший ему банковскую ссуду молодой менеджер. Красное смешалось с зелёным, и согласно законам цветосложения, мир Маркёра стал чёрным.
Но теперь, беззвучно разводя руками, старик заглядывает ей в лицо и грозит пальцем: слушай внимательно, сейчас я покажу что-то важное, — и, сделав неуловимое движение, он вдруг достаёт откуда-то из затылка бильярдный шар.
— Смотри: я вынул из головы шар, я вынул из головы шар, я вынул из головы шар…
Но тут же кто-то невидимый, но страшный, приказывает ему:
— Ну и положь его обратно, ну и положь его обратно, ну и положь его обратно…
Маркёр хитро улыбается и засовывает шар в рот.
Наталья Александровна проснулась и, выпучив глаза, стала глядеть в потолок. Она спустила ноги с кровати, и забормотала бессмысленно, точь-в-точь как Старый Маркёр: «Ненавижу шары. Ненавижу. Никаких шаров. Прочь-прочь».
И, держась за стены, пошла на кухню.
Там, за огромным окном край города уже сбрызнуло солнцем. Внизу, у подножия её огромного дома-башни, начинал ворочаться огромный просыпающийся город. Желтая полоса захватывала один дом за другим. «Огонь, огонь, иди…» — шепчет Наталья Александровна и осекается. Её обжигает неожиданное касание, будто пушистый шар беззвучно подкатился к ноге — но это всего лишь кошка по прозванию Мышка деликатно тронула её белой лапкой.
Наталья Александровна начала сыпать в фарфоровую миску сухой корм — бездумно и без остановки. Коричневые шарики звенели и подпрыгивали в миске, пока не заполнили её полностью.
Жизнь, можно сказать, удалась. В ней было всё — и оргазм на пляже (в виде напитка и в виде приключения), пальмы да Майорка, и белая фата под сводами главного храма Москвы. От второго мужа осталась эта квартира — но та лошадь кончилась, и пора было пересаживаться на следующую.
Кроме квартиры она унаследовала от него скромную риэлтерскую контору и небольшой счёт в банке — на чёрный день.
Теперь Наталья Александровна знала тысячу ненужных ей вещей: сколько нужно дать тем или этим, как ведёт себя литой бетон при усадке, куда расселяют пятиэтажки из центрального округа и когда ожидать падение небоскрёбов-новостроек.
И ещё она знала — заснуть больше не удастся.
Поэтому сейчас она курила тонкие цветные сигареты и пила несладкий кофе.
Жизнь почти прожита, потому что не надо уже врать о вечных «тридцати» — кому это важно, про это даже не спрашивают. Наталья Александровна точно знала, что хочет от жизни, и потому ей было немного грустно. Всё желаемое — случайно.
Неслучайна лишь уборщица, что придёт в девять, и аппетит кошки. Увиденный сон понемногу терял свой чёткий рисунок и отступал в угол кухни, как утренняя тень.
В окно дохнуло первым утренним жаром, кошка продолжала раскапывать пирамиду кормовых шариков.
В этот момент Наталье Александровне позвонил Петерсен.
Петерсен был парный поклонник. Наталья Александровна сама придумала это выражение. Парные поклонники уравновешивают друг друга — они, как планеты-спутники, образуют равновесную систему и держат дистанцию. Будь такой поклонник один — с ним пришлось бы объясниться, сказать проигрышное «нет» или рисковое «да», а это утомительно. Парные поклонники должны знать друг о друге (ошеломляющие открытия неуместны и часто выводят людей из равновесия), соперничать, но не бороться друг с другом.
По сути, таким людям тоже нравится эта неопределённость — иначе им пришлось бы отвечать на неприятный вопрос «да», меняющее в корне жизнь и привычки, или «нет», лишающее встреч.
У Натальи Александровны было два давних поклонника — еврей Макаров и швед Петерсен. Петерсен был молод, мускулист и красив, но беден и беспутен. Макаров же богат, но, по её меркам, староват.
По повадкам он принадлежал к тем младшим братьям шестидесятников, что вместе с семьями ходили в байдарочные походы и нестройно пели дурные песни у костра. На лицах этих людей проступали, как тавро, номера двух или трёх московских школ, то была пародия на немецкое корпоранство. А сейчас в свободное от бизнеса время Макаров служил кантором в синагоге.
Его так и звали иногда — Кантор. Как-то Наталья Александровна спросила, почему — «кантор» и Петерсен ответил со значением: «Потому что он — кантор». Больше она не спрашивала, и так много чудного она видела в жизни, занимаясь чужим жильём. Её не удивляло и то, что Макаров — еврей. Как-то у неё был роман с доктором Лейдерманом, так он был русский — ничего особенного, и это отмечали даже классики.
Петерсен был тип иностранца, давно прижившегося в России, и в совершенстве овладевшего не только языком, но и ухватками русского плейбоя. Он давно работал в газете, подмётном листке, что лежал стопкой в каждом клубе, где сидели иностранцы.
Макаров и Петерсен сопровождали её в нынешней жизни как два Тристана, которым был не нужен меч.
Они, держа дистанцию, всё понимали и так.
Иногда она думала, не попробовать ли с ними с обоими — Петерсен будет неутомим, а Макаров — нежен. Но она боялась их спугнуть. Ведь при неудаче в головах поклонников что-то навсегда сломается, а как друзья и поверенные в делах они ей дороже.
Макаров и Петерсен появились в её жизни так же, как большинство прочих мужчин, — нечаянно. Шлейф поклонников всегда тянулся за Натальей Александровной, как шлейф духов за отчаянной стюардессой. Сама того не желая, Наталья Александровна охотилась на мужчин повсюду — в зоопарке, в дорожных пробках, среди яхтсменов и в бильярдных клубах. Это происходило не из жадности или гордости, а для того, чтобы не утерять навык, — так спортсмен тренируется, рассчитывая вернуться в большой спорт.
Мужчины следовали за ней, как рыбы за кораблём, понемногу теряя надежду, а, значит, и скорость.
Но двух парных поклонников Наталья Александровна выделяла из толпы. В отличие от блестящего бильярдиста, игрока (но сейчас преследуемого разорительными проигрышами), меланхоличного Макарова, Петерсен был весельчак и так себе игрок, но недавно неожиданно начал выигрывать.
С этими выигрышами и проигрышами была странная история — Макарову, казалось, были и не нужны потерянные деньги, а Петерсен был напуган удачей.
Как-то они оба признались, что последнее время Петерсен играл в одной команде с председателем бильярдного клуба, а Макаров — против этого председателя с подходящей профессии фамилией Шаров.
Шаров был личностью демонической, с тёмным прошлым — состояние он составил ещё в советское время перепродажей антикварных книг. На книжных толкучках Кузнецкого моста и Китай-города до сих пор помнят его чёрную бороду и восточный профиль. Один контуженый ветеран афганской войны, продававший наследную библиотеку, уверял, что Шаров вовсе не коренной москвич, а пакистанский князь, хозяин города Магита, знающий секрет бессмертия. Но никто не поверил бывшему солдату, тем более что, торгуясь, он вдруг начинал биться в падучей, ронял свои инкунабулы и пускал губами пузыри.
Ружейный ствол как будто пряник,
Рождает он смертельный финик
Печальный шар, как будто циник
Злодей попрятал то — в другое.
Другое он засунул в третье.
Спастись от шара может киник,
Поймавши зайца за ошейник.
Ломай, круши, не плачь, охотник
Тебя убьёт вегетарианец.
Азарта чуждый, странный сплетник.
Вот ты старик, что верен чести,
Ты съешь себя почти без соли
Зато спасёшь себя от боли
Без рук, без ног катится в поле
Шарообразное бесчестье…
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
09 января 2015
История про то, что два раза не вставать (2015-01-12)
Только что посмотрел очередную серию «Элементарно» — американского варианта Шерлока Холмса, где Холмс — бывший наркоман, а Ватсон — его бывшая патронажная сестра.
Сериал этот вовсе не так хорош, каким казался в первом сезоне, но дело в другом.
Там есть очень американская деталь — Холмсу нужно ходить на собрания Анонимных Алкоголиков — вернее, их аналог для наркоманов. То есть, из серии в серию на индивидуальность Холмса давит совершенно американское, с притопами и прихлопами общество. Русскому человеку довольно неловко видеть эти вставки — и вовсе не оттого, что я поэтизирую русское пьянство. Вовсе нет, я его ненавижу.
То есть, это не то, чтобы наивная, а неуниверсальная методика, многократно высмеянная — «Мне тридцать семь лет, и я алкоголик», (не знаю. Что там наркоманы в этом месте говорят) и как произнесёшь эту фразу, так будет первое чудо, но чуда нет, а есть только надежды.
Фрагменты сюжета «Элементарно» вокруг этих бывших наркоманов вызывают у меня, стороннего наблюдателя, лёгкое недоумение.
В техниках американской манипуляции есть что-то от тех тестов, что глуповатые эйчары (Шишков, прости, не знаю, как перевести — не «кадровики» же), спрашивают на собеседованиях — каковы представления о вашем месте в компании через пять лет, ваши сильные качества и прочая лабуда.
Одним словом, выходит так, что с одной стороны существует гений (по начальным условиям задачи о Шерлоке Холмсе), а с другой стороны — неуклюжая система, заточенная под среднего человека (она-то ему, в общем, и нужна, наверное).
Но признаться в этом сценаристам нельзя, нельзя даже в смягчённом виде, потому что сценаристов отпиздят продюсеры, если продюсеров не отпиздят все эти фонды и ассоциации, включая самих NA и ААА.
И вот каждую серию сценарий балансирует на грани — Холмс не может вслух сказать, что все идиоты, и он попал в неэффективную систему, а его подельники из секты нудят: «Ты опять пропустил собрание, нельзя пропускать собрания, очень плохо, что ты пропускаешь собрания, а когда приходишь, молчишь».
Для меня это очень любопытный казус пресловутой «свободы творчества» — всякий понимает, что она не безгранична, но часто обсуждаются слишком явные примеры, замешенные на крови.
А тут, всё-таки, только бухло и наркота.
Извините, если кого обидел.
12 января 2015
Диалог CCLXVI (2015-01-22)
— Надо чаще выходить в свет, легко мазурку танцевать или дать объявление в газету «одинокий кракадил…»
— Одинокого кракадила по этим объявлениям норовят запрячь на строительные работы.
— Зато можно с интересными женщинами познакомиться. Правда, одна немолода, а другая — резиновая. Но главное — есть выбор!
— Вопрос в том, нужно ли кракадилу долгое знакомство. Пригласил кого на ужин — и всё.
— А как же начало большой дружбы?
— Ну дружба-то до ужина. Что дружить с объедками?
— А что же после ужина — опять с одной только трубочкой вечер коротать?
— А что? Насытился — и на боковую. Зачем полуночничать-то? Не спит лишь голодный, а там — новый день. Будет день, будет и пища.
Извините, если кого обидел.
22 января 2015
Захер (День инженерных войск. 21 января) (2015-01-22)

Я начал навещать дом этой старухи гораздо чаще после её смерти. То есть, раньше я бывал там два-три раза в год — всего раз семь-восемь, наверное. А за одну неделю после похорон я те же семь раз поднялся по её лестнице.
Но обо всём по порядку.
Итак, я заходил к ней в московскую квартиру — подъезд был отремонтирован, и там сидел суровый консьерж, похожий на отставного майора, но в самой квартире потолок давно пошёл ветвистыми трещинами. Елизавета Васильевна появлялась там как призрак, облако, знак, замещающий какое-то былое, давно утраченное понятие, что-то растворившееся в истории.
Она двигалась быстро, но, именно как облачко серого дыма, по коридору к кухне, не касаясь ногами пола. Квартира была огромна, количество комнат не поддавалось учёту, но во всех царил особый стариковский запах. Я помню этот запах — вечно одинаковый, хотя квартиры моих знакомых стариков были разные. Везде пахло кислым и чуть сладковатым, пыльным запахом одиночества.
Время тут остановилось. За окнами стреляли, город превратился в подобие фронтира, когда новые герои жизни с переменным успехом воевали с шерифами и держали в страхе гражданское население. Время от времени герои менялись местами с шерифами или ложились на кладбища под одинаковые плиты, где, белым по чёрному, они были изображены в тренировочных штанах на фоне своих автомобилей.
Однажды под окнами Елизаветы Васильевны взорвали уважаемого человека — владельца публичного дома. Но стёкла в окнах Елизаветы Васильевны отчего-то уцелели, так что старуха ничего не заметила. Это был удивительный социальный эксперимент по существованию вакуума вокруг одного отдельно взятого человека. Так, в этом вакууме, она и доживала свой век.
Мы несколько раз заходили к Елизавете Васильевне с Раевским. Это было какое-то добровольное наказание — для нас, разумеется.
Мой друг, правда, писал какую-то книгу, где в качестве массовки пробегал на заднем плане генерал инженерных войск, покойный муж нашей старухи. Этот генерал, прошёл в боях от волжский степей до гор Центральной Европы, то взрывая переправы, то вновь наводя мосты. Он уберёгся от всех военных опасностей. Неприятность особого свойства подкараулила его через несколько лет после Победы.
Он уже приступил к чему-то ракетно-трофейному и несколько раз скатался на завоёванный Запад, а также на место нового строительства. Случилась ли какая-то интрига или были сказаны лишние слова — об этом лучше знал Раевский. Так или иначе, генерал поехал чуть южнее — почти в направлении своего нового строительства, только теперь без погон и ремня.
Мне кажется, что его прибрали вместо командующего, его непосредственного начальника. В деле появились какие-то трофеи, описи несметных трофейных картин и резной мебели. Уже беззубого генерала изъяли из казахстанской степи в начале пятидесятых, вернули квартиру и дачу, однако карьера его пресеклась. Генерал умер, не закончив даже мемуары. Более того, дошёл он в них только до казавшегося ему забавным эпизода, когда он в числе прочих трибунальцев вывел Верховного правителя к иркутской проруби, где заключённые стирали своё бельё. Сорок последующих лет его биографии провалились в небытие — задаром.
Мебель, впрочем, от него осталась. Часть этой резной мебели я видел — когда дачу отобрали, морёный немецкий дуб так и остался стоять в комнатах огромной, срубленной на века русской избы. Такими же, как и прежде, этот дуб вкупе с карельской берёзой генерал с женой обнаружили через десять лет своего отсутствия. Такими же мы их видели с Раевским, когда помогали забирать в город что-то из вещей из жалованного правительством угодья.
В каком-то смысле генералу повезло — если бы у дачи появился какой-то конкретный хозяин, то генерал бы никогда не вернулся туда. А так, то же ведомство, что изъяло генерала, вернуло его и заодно вернуло несколько опустевший дом рядом со столицей.
Прошло совсем немного его вольного времени, и инженерный генерал схватился за сердце, сидя в своём кресле-качалке. Газета с фотографией Гагарина упала на пол веранды — с тех пор его вдова за город не ездила.
Как-то мы с Раевским даже поехали на эту дачу чинить забор. Забор образца сорок шестого года истлел, повалился, и дерево сыпалось в руках. Кончилось всё тем, что мы просто натянули проволоку по границам участка, развесив по ней дырявые мешки от цемента. В сарае там врос в землю боевой "виллис" генерала, так и не починенный, а оттого не востребованный временными хозяевами. Цены бы ему сейчас не было, не было бы — если сарай лет двадцать назад не сложился как карточный домик, накрыв машину. Доски мгновенно обросли плющом, и мне иногда казалось, что автомобиль мне только почудился.
В эти времена Елизавета Васильевна уже окончательно выжила из ума — страхи обступали её, как пассажиры в вагоне метро. Она не дала нам ключей от дачного дома — видно, боялась, что мы его не запрём, или запрём не так, или вовсе сделаем что-то такое, что дом исчезнет — с треском и скандалом.
Сначала я даже обиделся, но, поглядев на Раевского, понял, что это тоже часть кармы. Это надо избыть, перетерпеть. Раевский, впрочем, не терпел — он отжал доску, скрылся в доме, а потом вылез с таким лицом, что я понял: снаружи гораздо лучше, чем внутри.
Мы курили на рассохшейся скамейке, а вокруг струился запах засыпающего на зиму леса. Дачники разъехались, только с дальней стороны, где стояло несколько каменных замков за высокими заборами, шёл дым от тлеющих мангалов.
Там жили постоянно, но жизнь эта была нам неведома. Вдруг что-то ахнуло за этими заборами, и началась пальба, от которой заложило в ушах. Небо вспыхнуло синим и розовым, и стало понятно, что это стреляют так, понарошку. Салютуют шашлыку и водке.
На следующий год Елизавета Васильевна умерла — меня в ту пору не было в городе, и я узнал об этом на следующий день после похорон. Квартира была как-то стремительно оприходована невесть откуда взявшимися родственниками. Клянусь, среди десятков фотографий на стенах, этих лиц не было. Однако Раевский с ними как-то сговорился, и ему дали порыться в архивах. Он вообще напоминал мне трактирщика в салуне, который является фигурой постоянной — в отличие от смертных героев и шерифов.
И я аккуратно, день за днём в течение недели, навещал дом покойницы, помогая Раевскому грузить альбомы, где офицеры бесстрашно и глупо смотрели в дула фотографических аппаратов, и перебирать щербатые граммофонные пластинки, паковать старые журналы, сыпавшиеся песком в пальцах.
Хитрый Раевский, впрочем, предугадал всё, и то, что не унёс тогда, он забрал ещё через пару дней из мусорного контейнера. Мы набили обе машины — и мою, и его — письмами и фотографиями.
Он позвонил мне через три дня и заехал.
— Ты знаешь, что такое Захер?
Я глупо улыбнулся.
— Нет, ты не понял. Про Захер писал ещё Вольфганг Тетельбойм в «Scharteke». Захер — это сосредоточение всего, особое состояние смысла. Захер — слово хазарское, значит примерно то же, что и multum in pavro…
— Э-э? — спросил я, но он не слушал:
— Захер — это прессованное время ничегонеделания. Да будто ты сам никогда в жизни не говорил «захер»…
Я наклонился к нему и сказал:
— Говорил. У нас в геологической партии был такой Борис Матвеевич Захер. Полтундры обмирало от восторга, слыша его радиограммы «Срочно вышлите обсадные трубы. Захер».
— Смешного мало. А вот Захер существует. И теперь понятно, где. Я, только я, знаю — где.
Я сел к нему в машину, и первое, что увидел — тусклый ствол помпового ружья, небрежно прикрытый тряпкой. Тогда я сообразил, что дело серьёзное — не сказать, что я рисковал стать всадником без головы, но всё же поёжился. Итак, мы выехали из города заполночь и достигли генеральской дачи ещё в полной темноте. Но тьмы на улице не было — на дачной улице сияли белым лагерным светом охранные прожектора. Я обнаружил, что за год сама дача совершенно не изменилась. Изменилась, правда вся местность вокруг — дом покойной Елизаветы Васильевны стоял в окружении уродливых трёхэтажных строений с башенками и балкончиками. Часть строительного мусора соседи, недолго думая, сгребли на пустынный участок покойницы.
Мы с Раевским пробрались к дому и мой друг, как и год назад, поддел доской дверь. Что-то скрипнуло, и дверь открылась.
Мы ступили в затхлую темноту.
— Сторож не будет против? Может, не будем огня зажигать?
— Огня ты тут не найдёшь. Тут никакого огня нет, — хрипло ответил Раевский. — И сторожа, кстати, тоже.
Теперь мы находились на веранде, заваленной какими-то ящиками.
В комнате нас встретила гигантская печь с тускло блеснувшими изразцами.
Чужие вещи объявили нам войну, и при следующем шаге моя голова ударилась о жестяную детскую ванночку, висевшую на стене, потом нам под ноги бросился велосипед, потом Раевский вступил ногой прямо в ведро с каким-то гнильём.
Снаружи светало.
Рассеянный утренний свет веером прошил комнату.
Вот, наконец, мы нашли люк в подвал и ступили на склизлые ступени.
И я тут же налетел на Раевского, который, сделав несколько шагов, остановился как вкопанный. Помедлив, он прижался к стене, открыв мне странную картину. Прямо на ступени перед нами лежал Захер.
Он жил на этой ступени своей вечной жизнью, как жил много лет до нас, и будет жить после нашей смерти.
Захер сиял равнодушным сиянием, переливался внутри себя из пустого в порожнее.
Можно было смотреть на этот процесс бесконечно. Захер действительно создавал вокруг себя поле отчуждения, где всё было бессмысленно и легко. Рядом с ним время замедлялось и текло как мёд из ложки. И мы долго смотрели в красное и фиолетовое мельтешение этого бешеного глобуса.
Когда мы выбрались из подвала, то обнаружили, что уже смеркается. Мы провели рядом с Захером целый день, так и не заметив этого.
Потом Раевский подогрел в таганке супчик, и мы легли спать.
— Ты знаешь, — сказал мой друг, — найдя Захер, я перестал быть сам собой.
Я ничего не ответил. В этот момент я представлял себе, как солдаты таскают трофейную мебель, и вдруг задевают углом какого-нибудь комода о лестницу. Захер выпадает из потайного ящичка, и, подпрыгивая, как знаменитый русский пятак, скатывается по ступеням в подвал. И с этого момента гибель империи становится неотвратимой.
Бессмысленность начинает отравлять огромный организм, раскинувшийся от Владивостока до Берлина, словно свинцовые трубы — римских граждан. Всё дело в том, что трофейное не идёт в прок. Трофейное замедляет развитие, хотя кажется, что ускоряет его.
В «Летописи Орды» Гумилёва я читал о том, что хан Могита, захватывая города, предавал их огню — и его воины были приучены равнодушно смотреть, как сгорает всё — и живое и мёртвое. В плен он не брал никого, и его армия не трогала ни одного гвоздя на пожарищах. В чём-то хан был прав.
Раевский продолжал говорить, и я, очнувшись, прислушался:
— …Первая точка — смысл вещей, а это — полюс бессмысленности. В одном случае — всмотревшись в светящуюся точку, ты видишь отражение всего сущего, а, вглядевшись в свечение Захера, ты видишь тщетность всех начинаний. Там свет, здесь тень. Знаешь, Тетельбойм писал об истории Захера, как о списке распавшихся структур, мартирологе империй и царств.
Я снова представил себе радиоактивный путь этого шарика, и какого-нибудь лейтенанта трофейной службы, что зайдя в разбитую виллу, указывает пальцем отделению ничего не подозревающих солдат — вот это… и это… И комод поднимают на руки, тащат на двор к машине… И всё, чтобы лишний раз доказать, что трофейное, за хер взятое — не впрок. Сладкая вялость от этого шарика распространяется дальше и дальше, жиреют на дачных скамейках генералы, и элита страны спит в вечном послеобеденном сне.
Мы провели несколько дней на этой даче, как заворожённые наблюдая за вечной жизнью Захера. Наконец, обессиленные, мы выползли из дома, чтобы придти в себя.
Мы решили купить эту дачу. Ни Раевский, ни я не знали ещё зачем — мы были будто наркоманы, готовые заложить последнее ради Главной Дозы. Мы были убеждены, что нам самое место здесь — вдали от разбойной столицы, от первичного накопления капитала с ковбойской стрельбой в банках и офисах. Идея эта была странная, эта сельская местность чуть не каждый вечер оглашалась пальбой — и было не очень понятно, салют это или дом какого-нибудь нового хозяина жизни обложил особый и специальный милицейский отряд.
Раевский долго уговаривал родственников, те жались и никак не могли определиться с ценой.
Однако Раевский уломал их, и, уплатив задаток, мы снова поехали в дачный кооператив.
Когда мы выруливали на дачную дорогу с шоссе, то поразились совсем иному ощущению.
Теперь время вокруг вовсе не казалось таким затхлым и спрессованным, как тем зимним утром. Впрочем, настала весна, и солнце пьянило не хуже спирта.
Мы, треща камешками под покрышками, подъехали к даче Елизаветы Васильевны.
Но никакой дачи уже не было. Рычала бетономешалка, и рабочие с неподвижными азиатскими лицами клали фундамент.
Посредине участка был котлован с мёртвой весенней водой.
Я разговорился со сторожем.
Обнаружились иные, какие-то более правильные родственники, и оказалось, что дача была продана ещё до того, как мы впервые ступили на лестницу, ведущую в её подвал.
Новый владелец был недоволен грунтом (а так же вялыми азиатскими строителями) и стал строить дом на другом месте, а старое отвёл под пруд.
— Восемь машин вывез, — сказал сторож. — Восемь. Не шутка.
Чего тут было шутить — коли восемь машин мусора.
Тем более что, как только мусор вывезли, работа заспорилась, строители оживились, и дело пошло на лад.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
22 января 2015
Встреча выпускников (Татьянин день. 25 января) (2015-01-25)

Мы встретились в метро. Договорились-то мы, по старой привычке, попрекая друг друга будущими опозданиями, в три. Володя пришёл ровно в половине четвёртого, я — через две минуты, и через минуту подошёл Миша. Раевский, правда, сказал, что подъедет отдельно. Никто никого не ждал, и все остались довольны, хотя сначала смущённо глядели в пол.
Мы вышли из метро и двинулись вдоль проспекта. Сквозь морозный туман горел, как священный меч перед битвой, золотой шпиль Главного здания. Володя сказал, что сегодня мы должны идти так, как ходили много лет тому назад — экономя деньги и не пользуясь автобусом. Это был наш персональный праздник, Татьянин день, совмещённый с годовщиной выдачи дипломов — потому что учились мы не пять, как все остальные факультеты, а пять с половиной лет. Мы шли навстречу неприятным новостям, потому что поколение вступило уже в возраст смертей, что по недоразумению зовутся своими, но мы знали, что в Москве один Университет, и вот мы шли, чтобы вернуться в тот мир дубовых парт и тёмных панелей в коридорах, огромных лифтов факультета, которым исполнилось больше полувека, и огромных пространств между корпусами.
Мы стали более циничными, и только Володя сейчас горячился, вспоминал множество подробностей нашей давней жизни и, двигаясь мимо высокой ограды, махал и крутил руками, как мельница.
— Сколько радости в этом человеке, — сказал, повернувшись ко мне, Бэтмен. — Так и не поверишь, что это начальник. Начальник должен быть толст и отстранён от жизни — как Будда.
Бэтмена прозвали Бэтменом за любовь к длинным плащам. Серёжей его перестали звать, кажется, ещё на первом курсе. За десять лет ничего не изменилось — он шёл посередине нашей компании, в своём шикарном заграничном плаще до пят. Плащ был расстёгнут и хлопал на ветру.
Бэтмен уехал сразу после выпуска — даже нельзя было сказать, что он живёт в Америке. Он жил во всём мире, и я, переписываясь с ним, иногда думал, что он просто существует внутри Интернета. Володя, впрочем, говорил, что между дегустацией каких-то волосатых бобов и ловлей бабочек в Кении он умудряется писать свои статьи. Я статей этих не читал и читать не собирался — достаточно было того, что я читал про них, и даже в глянцевых журналах. Я
подумал, что Бэтмен был бы через двадцать лет вполне вероятным кандидатом на Нобелевскую премию. Для нас десять лет назад она была абстракцией — ан нет, вот он — кандидат. Под рукой, так сказать. А ведь мы занимали у него деньги и ездили вместе в Крым. И вот звенели на мировом ветру его суперструны, в которых мы все, даже Володя, ровно ничего не понимали. Рылеев завидовал Бэтману, а я — нет. Слишком давно я бросил науку и не чувствовал ни в ком соперника.
По дороге на факультет мы вспоминали девочек. Судьба девочек нас не радовала — в науке никто не остался, браки были неудачны, химия жизни растворила их свежесть, и (Рылеев хихикнул) нужно посмотреть теперь, когда подходит к сорока пяти и появляются ягодки.
А тогда, двадцать лет назад, на физфак шли люди, вовсе не намеревавшиеся свалить за океан. Те, кого посещала эта мысль, были либо сумасшедшими, либо… Нет, именно сумасшедшими. Это потом остаться здесь научным сотрудником в голодный год стало именно диагнозом неудачника. Это потом денег ни на что не было, а преподаватели после лекций торговали пивом в ларьках. Впрочем, Володя остался и теперь, кажется, преуспевал — но он был не физик, а скорее администратор. Он всегда был администратором, и самое главное — хорошим. У Володи было удивительное свойство: люди доверяли ему деньги, и он их никогда не обманывал. Другое дело, что он мгновенно пускал их в рост, не забывая и себя, но ни разу никого не подвёл. Олигарха бы из него никогда не получилось — слишком ему нравились мелкие и средние задачи.
Рядом с Володей шёл Дмитрий Сергеевич по прозвищу Бериллий. Бериллий работал на оборону, и с ним всё было понятно. Бериллий был блестящим специалистом, жутко секретным, и, кажется, вполне в тематике своей работы следовал прозвищу. Впрочем, на расспросы он лишь загадочно улыбался.
Но у всех, кроме Бэтмена, всё вышло совсем иначе, нежели мы тогда думали.
Мы шли на встречу однокурсников и боялись её, потому что десять лет — не шутка. На тебя начинают смотреть, как в спектрометр: преуспел ты или нет — и совершенно непонятно, по каким признакам собеседник принимает решение. Поэтому я с недоверием относился к сайтам, что позволяли найти одноклассников и однокурсников: увидеть то, как располнели девушки-недотроги, которых ты провожал до общежития — не самое большое счастье. Тем более, у нас был очень сплочённый курс, многие и так не теряли друг друга из виду. А наша компания, как и ещё несколько, пришла из физматшколы, тогда случайных школьников среди абитуры почти не было. К тому же тогда физика уходила как бы в тень химиков и биологов, мир рукоплескал этим ребятам. И хоть мы знали, что правда на нашей стороне, время физиков в почёте и баталовских улыбок из фильма «Девять дней одного года» кончалось.
Мы стояли в начале нового мира, ещё помня силу парткома и райкома, комсомольских собраний и советского воспитания. На самом деле мы были молоды и никакого гнёта, кроме безденежья, не ощущали. С деньгами было не всё так просто — те, кто уходил в бизнес, попадали в какой-то новый космический мир. Деньги валялись там под ногами. Скоро площадка перед факультетом была забита аспирантскими машинами, а среди них сиротливо стоял велосипед нашего инспектора курса.
Теперь мы встретились снова и вот уже сидели в студенческой столовой, которая стала куда более чистой и приличной. Официальная часть стремительно кончилась, и мы не менее стремительно напились.
Тогда мы пошли курить на лестницу, и вдруг Володя пихнул меня локтем в бок.
Снизу, из цокольного этажа поднимался с сигареткой в зубах наш Васька.
Васька был легендой факультета. Говорили, что он как физик был сильнее, чем Бэтмен, но зарыл свой талант в землю. Занимался он сразу десятком задач, и у меня было подозрение, что на его результатах защитилось несколько докторских, не говоря уж о кандидатских. Потом он куда-то пропал, и мне казалось, что он должен был уехать. Но, зная Ваську, этого представить было нельзя. Нельзя было представить и того, что его засекретили: любой генерал сошёл бы с ума от его методов работы.
А вот сейчас Васька стоял с бутылкой пива перед нами. Будто и не было десяти лет — он был всё тот же, в синем халате, но совершенно седой. Он пыхнул сигареткой и улыбнулся.
Время пошло вспять. Мы снова были вместе — это была старая идея идеального Университета. Все мы ходили на школу юного физика и вместо танцев решали задачки из «Кванта». На этом и была построена особая связь между мальчишками. Я думаю, что нам здорово запудрили мозги в начале восьмидесятых наши учителя. Они, оглядываясь, приносили на семинары самиздат, который мы, школьники, глотали, как тогда появившуюся кока-колу. Мы решали задачки по химии у костра, собравшись кружком вокруг наставника, будто апостолы вокруг Спасителя. Клянусь, мы так себя и ощущали. Наши учителя были бородаты и нечёсаны, но они понимали, что продолжатся в учениках, и не экономили времени. Мы действительно любили их больше истины. Их слово было — закон, а эстетические оценки непререкаемы.
А когда нам выдали дипломы, мы встали у начала новой страны, нового прекрасного мира. Я больше других таскался на митинги, и даже вышел с рюкзаком из дома, чтобы защищать Белый дом. Повсюду веяло какой-то свежестью, и казалось, что протяни руку — и удача затрепещет на ладони, как пойманная птичка. А потом пришла обида — и мы первым делом обиделись не на себя, а на наших бородатых учителей, которые по инерции ещё ходили с плакатами на площади. Ничего лучше, чем погрузиться в науку, нельзя было придумать — но мы разбрелись по жизни, отдавая дань разным соблазнам.
Идеальной школы не получилось — она существовала только в головах наших учителей, которых в семидесятые стукнуло по голове томиком Стругацких. Жизнь оказалась жёстче и не простила нам ничего — ни единой иллюзии, никакой нашей детской веры: ни в торную дорогу творчества, ни в добрых демократических царей, ни в нашу избранность.
Мы спустились с Васькой сначала в цокольный этаж, а потом в подвал. Тут было всё по-прежнему — так же змеились по потолку кабели, и было так же пусто.
В лаборатории, как и раньше, было полно всякого хлама. Васька был, как Пётр Первый — сам точил что-то на крохотном токарном станке, сам проектировал установку, сам проводил эксперименты и сам писал отчёты. Идеальный учёный Ломоносовских времён. Или, скажем, петровских.
Но больше всего в васькиной лаборатории мне понравилась железная дверь рядом со шкафом. На ней было огромное колесо запирающего механизма, похожее на штурвал. Рядом кто-то нарисовал голую женщину, и я подозревал, что это творчество хозяина.
— А что там дальше?
— Дальше — бомбоубежище. Я туда далеко забирался — кое-где видно, как метро ходит.
Залезть в метро — это была общая студенческая мечта, да только один Васька получил её в награду.
— И что там?
— Там — метро. Просто метро. Но в поезд всё равно не сядешь, ха. Да ничего там нет. Мусор только — нашёл гигантскую кучу слипшихся противогазов. Несколько тысяч, наверное. И больше ничего. Там ведь страшновато — резиновая оплётка на кабелях сгнила, ещё шарахнет — и никто не узнает, где могилка моя.
Мы расселись вокруг лабораторного стола, и Бэтмен достал откуда-то из складок своего плаща бутылку виски, очень большую и очевидно дорогую. Как Бэтмен её скрывал, я не понял, но на то он был и Бэтмен.
Васька достал лабораторную посуду, и Володя просто завыл от восторга. Пить из лабораторной посуды — это было стильно.
— Широко простирает химия руки свои в дела человеческие, — выдохнул Бэтмен. — Понеслось.
И понеслось.
— Студенческое братство неразменно на тысячи житейских мелочей, — процитировал Васька — и снова запыхал сигареткой. У него это довольно громко получалось, будто он каждый раз отсасывал из сигареты воздух, а потом с шумом размыкал губы. — Вот так-то!
Слово за слово, и разговор перешёл на научных фриков, а от них — к неизбежности мировых катастроф и экономическим потрясениям.
Вдруг Васька полез куда-то в угол, размотал клубок проводов, дёрнулся вдруг, и про себя сказал: «Закон Ома суров, но справедлив». Что-то затрещало, мигнула уродливая машина, похожая на центрифугу, и загорелось несколько жидкокристаллических экранов.
— Сейчас вы все обалдеете.
— А это что? Обалдеть-то мы и так обалдели.
— Это астрологическая машина.
Володя утробно захохотал:
— Астрологическая? На торсионном двигателе!
— С нефритовым статором!
— С нефритовым ротором!
Васька посмотрел на нас весело, а потом спросил:
— Ну кто первый?
Все захотели быть первыми, но повезло Володе. На него натянули шлем, похожий на противогаз и даже на расстоянии противно пахнущий дешёвой резиной.
Васька подвинулся к нему со странным прибором-пистолетом — я таких ещё не видел.
— Сначала надо взять кровь.
— Ха-ха. Я так и знал, что без крови не обойдётся. Может, тебе надо подписать что-то кровью?
— Подписать не надо, давай палец.
— Больно! А! И что? Кровь-то зачем?
— Мы определим код…
Это был какой-то пир духа. «Мы определим код»! Васька сейчас пародировал сразу всех научных фриков, что мы знали — с их информационной памятью воды и определением судьбы по группе крови. Предложи нам сейчас для улучшения эксперимента выбежать в факультетский двор голышом, это бы прошло «на ура». Мы влюбились в Ваську с его фриковой машиной. Жалко, далеко было первое апреля, а то я бы пробил сюжет у себя на телевидении. Васька меж тем, объяснил:
— Знаешь, есть такие программки — «Узнай день своей смерти»? Их все презирают, но все в сети на них кликают. Так везде — презираю, не верят, а кликают.
— Чё-то я не понял. А если мне скажут, что я умру завтра?
— Ты уже умер, в 1725 году, спасая матросов на Неве.
— Рылеев твоя фамилия, известно, что с тобой будет.
— А ты — Бериллий, и номер твой четыре. Молчи уж.
Каждый из нас, захлёбываясь от смеха, читал своё прошлое и будущее на экране. Читали, однако, больше про себя, не раскрывая подробностей. Один я не стал испытывать судьбу, да Васька и не настаивал — только посмотрел, понимающе улыбнулся и снова запыхтел сигаретой.
Астрологическая машина была довольно кровожадной, но смягчала свои предсказания сакраментальными пожеланиями бросить курить или быть аккуратнее на дорогах.
Мы ржали как кони — и будто был снова восемьдесят девятый, когда мы обмывали синие ромбы с огромным гербом СССР в гранёных стаканах, украденных из столовой.
— Ну всё ребята, вечер. У меня самое рабочее время, мне ещё десять серий сделать надо, — сказал вдруг Васька.
Мы почему-то мгновенно смирились с тем, что нас выпроваживают, и Васька добавил:
— К тому же сейчас режим сменится.
— Что, не выпустят?
— Я выпущу, но начальнику смены звонить придётся, а мы уже напились.
Но и тут никто не был в обиде — человек работает, и это правильно.
Мы уже поднялись на целый марш вверх по лестнице, как Бэтмен остановился:
— А кто Ваське сказал про мою жену?
— Какую жену? Я вообще не знал, что ты женат.
— Сейчас не женат, но… — Бэтмен обвёл нас взглядом, и нехороший это был взгляд. Какой-то оценивающий, будто он нас взвешивал. Какая-то скорбная тайна была в нём потревожена. — Он, кажется, за мной следил. Там какие-то подробности о моей жизни в результатах были, которые я никому не рассказывал.
— И у меня тоже, — сказал Володя. — Там про гранты было, я про гранты ещё ничего не решил, а тут советы какие-то дурацкие.
— Да ладно вам глупости говорить. Сидит человек в Интернете, ловит нас Яндексом… — я попытался примирить всех.
— Этого. Нет. Ни. В. Каком. Яндексе, — отчеканил Бэтмен. — Не городи чушь.
Мои друзья стремительно мрачнели — видать много лишнего им наговорила предсказательная машина. И только сейчас, когда хмель стал осаждаться где-то внутри, в животе, а его хмельные пузыри покидали наши головы, все осознали, что только что произошло что-то неприятное. Я им даже сочувствовал — совершенно не представляю себе, как бы я жил, если бы знал, когда умру.
Мы постояли ещё и только собрались продолжить движение к выходу, как Бериллий остановился:
— Стоп. Я у Васьки оставил записную книжку, вернёмся.
Мы вернулись и постучали в васькину дверь. Её мгновенно открыла немолодая женщина, в которой я узнал старую преподавательницу с кафедры земного магнетизма. Ей и тогда было за пятьдесят, и с тех пор она сильно сдала, так что вряд ли Васька нас выгнал для амурного свидания.
— Мы к Васе заходили только что, я книжку записную забыл.
Женщина посмотрела на нас как на рабочих, залезших в лабораторию и нанюхавшихся эфира. Был такой случай лет двадцать назад.
— Когда заходили?
— Да только что.
— Да вы что, молодые люди? Напились? Он два года как умер.
— Как — умер?
— Обычно умер. Как люди умирают.
— В сорок лет?!..
— Его машиной задавило.
— Да мы его только что…
Но дверь хлопнула нас почти что по носу.
— Чёрт, — а записная книжка-то вот она. В заднем кармане была. — Бериллий недоумённо вертел в руках потрёпанную книжку. — Глупости какие-то.
Он обернулся и посмотрел на нас. Мы молча вышли вон, на широкие ступени перед факультетом, между двух памятников, один из которых был Лебедеву, а второй я никак не мог запомнить, кому.
На улице стояла жуткая январская темень.
Праздник кончался, наш персональный праздник. Это всегда был, после новогоднего оливье, конечно, самый частный праздник, не казённый юбилей, не обременительное послушание дня рождения, не страшные и странные поздравления любимых с годовщиной мук пресвитера Валентина, которому не то отрезали голову, не то задавили в жуткой и кромешной давке бунта. Это был и есть праздник равных, тех поколений, что рядами валятся в былое, в лыжных курточках щенята — смерти ни одной. То, что ты уже летишь, роднит с тем, что только на гребне, за партой, у доски. И вот ты как пёс облезлый, смотришь в окно — неизвестно кто из списка, на манер светлейшего князя, останется среди нас последним лицеистом, мы толсты и лысы, могилы друзей по всему миру, включая антиподов, Миша, Володя, Серёжа, метель и ветер, время заносит нас песком, рты наши набиты ватой ненужных слов, глаза залиты, увы, не водкой, а солёной водой, мы, как римляне после Одоакра, что видели два мира — до и после — и ни один из них не лучше. Голос классика шепчет, что в Москве один Университет, и мы готовы согласиться с неприятным персонажем — один ведь, один, другому не бысти, а всё самое главное записано в огромной книге мёртвой девушки у входа, что страдала дальнозоркостью, там, в каменной зачётке на девичьем колене записано всё — наши отметки и судьбы, но быть тому или не быть, решает не она, а её приятель, стоящий поодаль, потому что на всякое центростремительное находится центробежное. Чётвёртый Рим уже приютил весь выпуск, а век железный намертво вколотил свои сваи в нашу жизнь, проколол время стальными скрепками, а мы пытаемся нарастить на них своё слабое мясо, а они в ответ лишь ржавеют. Только навсегда над нами гудит в промозглом ветру жестяная звезда Ленинских гор, спрятана она в лавровых кустах, кусты — среди облаков, а облака так высоко, что звезду не снять, листву не сорвать, прошлого не забыть, холодит наше прошлое мрамор цокольных этажей, стоит в ушах грохот дубовых парт, рябят ярусы аудиторий, и в прошлое не вернуться.
«С праздником, с праздником, — шептал я, спотыкаясь, поскальзываясь на тёмной дорожке и боясь отстать от своих товарищей. — С нашим пронзительным и беззащитным праздником».
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
25 января 2015
История про то, что два раза не вставать (2015-01-28)
Меня очень занимала передача «Искатели», что я видел в телевизоре. Это такая специальная передача, где собаки лают, и руины, понимаешь, говорят.
Давно известно, что и по каналу «Культура» теперь можно услышать каких-нибудь уфологов и узнать про тайны воды — ну так последние времена настают, чего ж стесняться. Но пока мир не кончился, мне хотелось бы записать про сам стиль этой передачи — там ведь как: есть какое-нибудь примечательное место, про которое ходят слухи, что там — сокровище. Ну, или там болото целебное. Или фашисты ворованный иконостас святой матроны замуровали. И вот туда приезжают суровые ребята из Москвы на хорошем джипе (Джип этот много раз показывают — как он едет по каким-нибудь окрестностям таинственного места).
Потом ведущий становится в кадре в полный рост и рассказывает о том, что тут — Тайна.
— Мы обратились к местному краеведу…
В этот момент подручные вытаскивают из кустов краеведа, держа его с двух сторон и тихо суя кулаками ему поддых. Но краевед и так-то не в себе, головку не держит, и видно уже обмочился.
— Ведь здесь у вас — Тайна? — спрашивает ведущий.
— Тайна… — шелестит краевед.
— Попробуем в неё проникнуть! — угрюмо говорит суровый ведущий, и все лезут в канализационный колодец, который, по счастью оказывается всё в тех же кустах. Начинается съёмка дрожащей камерой и прочий фон Триер.
— Стена! — удовлетворённо говорит ведущий. — Кирпичная! Не пройти. Но, наверняка за ней что-то есть!
Они сверлят стену дрелью, но та не поддаётся.
Приходят канализационные рабочие и всем дают пизды.
Ведущий, отряхиваясь, радостно говорит:
— Нам помешали спецслужбы. Мы, конечно, не может говорить ничего определённого, но ведь никто не доказал, что никакой Тайны тут нет. Может, она тут была. А? Может, была?!
Собственно, про ведущего я рассказал вот здесь.
И даже не про него одного, а ещё и про другого.
Извините, если кого обидел.
28 января 2015
(обратно)
Диалог СCCXСIII (2015-01-30)
— Сейчас стало опасно наказывать детей. То и дело угрожают звонками в специальные службы.
— Да чего-там. Если раз и навсегда уяснят, что в детдоме интернета нет, то дальнейшее просто. Хоть верёвки вей.
— Щас их знаешь как в ментовке колят? Могут вай-фай пообещать, следаки, они же бессердечные.
— Но это только когда ломка, а так-то все понимают, что сдавать дилера — последнее дело.
Извините, если кого обидел.
30 января 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-01-30)
И
я уже рассказывал о передаче «Искатели» — так вот ведёт её настоящий путешественник.
Надо сказать, что мне очень нравится Андрей И, который эту передачу и ведёт — это такой брутальный мужчина, я его видел очень давно, и тогда он рассказывал, что шрамирован шаманами. Меня это тогда восхитило, хоть он майку не задирал и результатов не показывал. Вообще он в ту пору занимался художественным кино и рассказывал, что вот хочет снять фильм с настоящим убийством, и вот может себе это позволить. Его спрашивали, не боится ли он ментов, а он многозначительно говорил, что знает, что говорит. И казалось, что у него припасён не просто специально милицейский человек, а какой-то шаман, который дунет-плюнет, и все менты разведут руками: «Да ну, на хуй это дело! Что, у нас жмуров мало, что ли?!»
В 1993 Андрей И году снял фильм «Конструктор красного цвета», а потом, в 1996-м снял ещё «Научную секцию пилотов» — я её смотрел, потому что он был про метро, а метрополитен меня всегда интересовал.
С «Конструктором», вообще говоря, произошла очень интересная история — тогда общественность была ещё непривычна к передачам в телевизоре типа «Тайный глаз» и «От нас скрывали».
Когда шпионская женщина Анна Чапмен, вернувшись с холодка стала вести какую-то передачу о паранормальном, я было удивился. Было какое-то разочарование, вроде того, как от того, как я читал биографии советских разведчиков, и обнаруживал, что человек, скрывавшийся от гестаповцев на явках в Брюсселе и Париже стал простым школьным учителем.
Но потом я понял, что паранормальное и тайны ГМО куда круче всего ПГУ КГБ.
Можно сказать, что тайны воды кроют империалистический заговор, как бык овцу.
И с «Конструктором красного цвета» история как раз в том, что он предвосхитил все эти многочисленные фильмы о тайнах советских лабораторий и прочих «от нас скрывали».
Конечно, за год до «Конструктора» сняли «Два капитана 2» — но там-то был Гребенщиков, Курёхин и Дебижев, одновременно существовали всякие некрореалисты-романтики, о которых помнят сейчас только киноведы, а тут чистое «от нас скрывали».
[1]
Это сейчас-то только включи Рен-Тв, так тебе покажут, как советский профессор из обезьян людей делал, а в секретных лабораториях познали тайны Катода и Анода. А тогда «Конструктор красного цвета» прозвучал, и его много обсуждали.
Правда, там была известная позиция «Лучший физик среди бардов, лучший бард среди физиков», которая позволяет ловко отбрехиваться от упрёков, отчего не защитил диссертацию и почему не попадаешь в ноты — то есть, есть возможность маневрировать для выставления итоговой оценки. «Конструктор красного цвета», будто живой, когда получал плюх за режиссуру, то притворялся документальным, а когда получал плюх за историзм, то переводился в позицию «кинематограф».
Ныне этот путешественник что-то делает в республике Саха, организовал там креативное агентство, делал какие-то сериалы, но это не очень мне интересно.
Есть, правда, молодая смена.
Извините, если кого обидел.
30 января 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-02-02)
Я только-что рассказал о
своём преклонении перед Андреем И.
[2]
Но тема, как говорится, шире
передачи "Искатели".
Извините, если кого обидел.
02 февраля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-02-07)
В них перемешаны люди, постоянно общающиеся в жизни, лично знакомые и постоянно общающиеся только в Сети. Но в зазоре между этими классами есть люди, что когда-то добавили друг друга в друзья, или даже вовсе не добавили, просто между ними установился односторонний контакт.
Всех друзей и подписчиков не сочтёшь, и вот человек день изо дня читает в ленте бытовые подробности другого человека (если тот достаточно откровенен). Он привыкает к мельтешению этих новостей, среди которых — взросление чужого ребёнка, мучительный выбор, где покататься на горных лыжах размолвка с первым мужем, развод, новый муж, дружба со свекровью, встреча одноклассников, и многое другое, что прорвётся через барьеры конфиденциальности. И вот человек уже считает эти новости частью своей жизни, вот он уже ощущает себя чем-то вроде друга дома, и, наконец, встречается с этим своим незнакомым знакомцем.
И вот сюжет — он знает всё: кличку собаки, отметки детей, проблемы с отоплением на даче и привычки чужого начальника. Но оказывается в положении героя фантастического фильма (это распространённый сюжет для путешественника во времени), что пристал к женщине на улице, и вываливает перед ней всю её подноготную, а она только хлопает глазами: кто этот сумасшедший? Откуда он это знает? Почему мы знакомы? Да нет, мы не знакомы вовсе, впервые я его вижу, но откуда он знает, что у Бобика глисты?
А тот бьётся в ужасе, как такой же герой, которому нужно предупредить о смертельном автобусе или там о цунами.
Была в моей жизни история про девушку, что работала в какой-то конторе в девяностые. Ну, бизнес там, деньги зашелестели. Появились тогда новые привычки — корпоративные пьянки. А те, кто в чистоте работал, пили по-другому, почище, значит. И вот девушка эта, про которую я рассказываю, тоже в них не крайняя была. Возвращается, значит, она как-то домой, машины у неё тогда не было, выходит из метро и ждёт троллейбуса. Троллейбуса всё нет, время идёт, и тут она решает, что живём однова, работает она в офисе и поймает машину.
Ну, вышла на полосу, руку протянула, и останавливается перед ней успешное авто. Он всё ж немного пьяна была, оттого не сразу поняла, что и водитель был хорош. Он был пьян куда больше и не падал оттого, что держался за руль. Со знакомой моей хмель мгновенно слетел — ветер свистит, машина летит, а водила ей про жизнь рассказывает.
Про то, как на брата Лёху наехали менты, и надо б откупиться, да не поймёшь как.
Или вот сестра залетела, да непонятно, делать аборт или нет. Залетела она от начальника, и, может, что срастётся. Ну и сам-то он думает, как с правами быть — права-то он потерял, и хрен поймёшь — ездить так, или что другое придумать.
Девушка сидит не жива, не мертва, и, как её довезли, дрожа вылезает прочь. Машина газует, и, стукнув урну, исчезает.
Однако ж прошёл месяц, и настала пора нового корпоратива. В этот раз она едет домой совершенно пьяная, какой там троллейбус — надо ловить, как тогда ещё по инерции говорили — частника.
Поймала.
Едет.
Но вдруг понимает, что в тот же час, в том же месте поймала ровно того же мужика.
Только он теперь трезвый и её, очевидно, не помнит.
Да она-то все разговоры запомнила, и заходит с козырей:
— А Лёха-то как? Откупился от ментов?
Тот с ужасом на неё смотрит.
— А сеструха-то как? Я бы ребёнка оставила! Вот режь меня, ешь, а оставила бы.
А водила-то уж покрылся крупным потом.
Ну, и, наконец, она про права спросила. Строго так — с правами, дескать, едем? А? А?!
Её довозят до подъезда, не взяв никаких денег, разумеется, и, сбив урну, уезжают.
Извините, если кого обидел.
07 февраля 2015
(обратно)
Царь обезьян (День российской науки. 8 февраля) (2015-02-08)

Ветер свистел в пустых клетках питомника.
Заведующий второй лабораторией (первой, впрочем, давно не существовало) смотрел через окно, как сотрудники перевязывают картонные коробки и укладывают их в контейнер. Собственно, и второй лаборатории уже не было, заведовать стало нечем. Сейчас они вывозили только самое важное — то, чем предстояло отчитываться за чужие деньги. Заведующий понимал, что это не просто графики и цифры — для кого-то это будущая работа за океаном и папки в коробках станут для кого-то залогом будущего.
А пока он сидел с заместителем и, пользуясь служебным положением, пил виноградный самогон из лабораторной посуды. Самогон было достать куда проще, чем спирт, и запас был велик.
Ещё один человек наблюдал за погрузкой, казалось, не шевелясь.
Старик-сторож сидел на лавочке и смотрел, как запирают и пломбируют контейнер на грузовике. Точно так же смотрели на происходящее обезьяны из своих клеток.
Он всю жизнь состоял при этих обезьянах, причём сначала думал, что это обезьяны состояли при нём.
Старик стал сторожем давным-давно, когда вернулся в этот приморский город со странным грузом. С тех пор он видел обезьян больших и маленьких, умных и глупых. Он видел, как они рождаются и как умирают — и он жёг их, умерших своей смертью или павших жертвой вивисекции и точно так же исчезнувших в большой муфельной печи.
Старик был ветераном — в разных смыслах и оттенках этого слова. Вернее, во всех — когда-то его отец поднял красный флаг над домом губернатора, а затем они вместе ушли в Красную гвардию. Отца убили через месяц, а вот он воевал ещё долгие годы, пока не вернулся сюда, в родной город. Старик был ветераном и потому, что на истлевшем пиджаке у него болталась специальная ветеранская медаль, и потому что был он изувечен в сраженьях, о которых забыли все историки.
Теперь начиналась новая война, и старик знал, что её не переживёт. Он жил долго, как и полагалось горцу, но подходил его срок, и теперь он вспоминал прошлую жизнь, её мелочи и трагедии, всё чаще и чаще.
Что было главным? То, как они с отцом, скользя по мокрой от осеннего дождя крыше, лезли к флагштоку? То, когда родился его сын, который стал героем и начальником пароходства и которого он теперь пережил? Вся остальная жизнь была монотонной и подчинялась режиму жизни Питомника.
Нет, всё это было не то, и медали звякали впустую. Поэтому он возвращался к давней истории, когда его вызвали в политотдел Туркестанского военного округа и велели идти за кордон, сняв военную форму…
Но тут пришёл заведующий. Старик любил этого русского — потому что тот не был похож на русского. Заведующий был похож на англичанина, а англичан старик знал хорошо. Если воюешь с кем-то треть жизни, всегда узнаёшь его хорошо.
Заведующий пришёл со своим товарищем, который (и старик это знал) увозил за границу научный архив. Старик понимал, что архив не вернётся, не вернутся и эти русские в белых халатах, и вообще — наука уйдёт из его города. Он отмечал про себя, что это не вызывает в нём ненависти — войны окончились, и эти люди в белых халатах не казались ему предателями. Учёных всегда забирали победители — и военный трофей не предаёт своего бывшего хозяина, на то он и трофей.
Старик знал, что и армии часто состояли из побеждённых, взятых победителем как добыча.
Заведующий лабораторией, меж тем, говорил со своим приятелем о чудесах.
Старик слышал только обрывки разговора:
— …Это не очень страшно — вчитывать. Я только за чёткое понимание, где и что вчитал. Известно, например, что и иконы, вырезанные из советского «Огонька», могут мироточить. Наука умирает, когда кто-то начинает писать, что эманация духовности или торсионные поля сохраняют информацию о гении мастера посредством красочной локализации, и прочая, и прочая.
— Ладно тебе, — отвечал заместитель, — ты бы вспомнил ещё фальшивые письма махатм… Или специально для нас — история про войну собак и котов, в которой люди только разменные фигуры: статьи были с картинками ДНК и ссылками на академиков…
Они оба пожали руку старику, и заведующий спросил:
— Ну, что, отец, будет ещё хуже?.. Так вот, сегодня мы выпускаем обезьян.
Старик пожевал губами. Он знал, что это произойдёт — уже неделю не было электричества, и два дня обезьянам не давали корма.
— Как думаешь, отец?
— Я сторож, — ответил старик. — Что я могу думать? Уйдут обезьяны, и я буду никто.
— Далеко не уйдут. Могут погибнуть.
— Это мы можем погибнуть, а они — нет.
— Не боишься ты за них, старик, — сказал второй русский, засмеявшись.
— За себя бойся, — каркнул, как ворон, старый сторож, каркнул зло и презрительно. — Всё началось с того, что несколько обезьян съели — не думаю, что из-за голода. Голода по-настоящему ещё не было, и это сделали из озорства. Вы тогда удрали в Москву, а я видел, что тогда делали те обезьяны, что убежали сами.
Они собрались вокруг, расселись на ветках и молча смотрели, как из их товарищей делали шашлык. Их было немного, и люди хохотали, тыкали в них пальцами, веселились.
А вот веселиться не надо было.
Русские ушли, а он остался на лавке. Кислый дым старого табака стелился над питомником, и где-то хлопала дверца пустой вольеры.
Пошёл тяжёлый снег, влажный от дыхания близкого моря.
Старик посмотрел на снег и вспомнил экспедицию в Тибет.
Вот оно, главное.
Тогда его вызвали в политотдел и, не объясняя ничего, велели подчиняться красивому черноусому чекисту. Кроме него и переодетых красноармейцев вместе с караваном двигался сумасшедший художник. Он был прикрытием экспедиции, и оттого ему прощалось многое: художник разговаривал с горами, молился на выдуманных языках и писал картины на привалах. Мошки вязли в сохнущей краске, как мухи в янтаре.
Чекист время от времени исчезал — европейское платье он сменил сначала на таджикский халат, а потом стал одеваться, как уйгур. Чекист потом часто покидал их караван, притворяясь то иранским коммерсантом, то британским журналистом. Когда ему встретился настоящий журналист из Англии, то чекист, не моргнув глазом, зарезал его прямо посреди разговора.
В составе экспедиции было несколько красных китайцев из отряда, воевавшего на Дальнем Востоке. Один из китайцев менял махорку на разговор — молодому красноармейцу из прибрежного города было не с кем поговорить. Китаец и рассказал о Сунь Укуне, Царе обезьян, что сначала был на небе конюхом, а потом садовником.
Это была очень запутанная история, да и китаец плохо владел русским языком.
Непонятно было даже, как звали царя обезьян — из рассказа китайца выходило, что он имел сотни имён. Китаец с раздражением отрицал, что царь обезьян мог быть индусом или японцем. Наоборот, однажды Сунь Укун со своим войском напал на японскую армию и перерезал всех, взяв в качестве трофея целый отряд снежных обезьян-асассинов.
Снежные обезьяны стали личной гвардией царя — они были воины, и им всё равно было, кому служить.
Индусов Царь обезьян победил каким-то другим способом.
Потом китаец свернул на то, что Царь обезьян с его войском очень пригодился бы делу Мировой революции, и его собеседник спокойно уснул, поняв, что имеет дело с сумасшедшим прожектёром.
Всё это было скучно. Красноармеец видел много сумасшедших, лишённых разума от исчезновения старого мира, а потом взбудораженных Гражданской войной, оттого сострадание в нём кончилось. И прожектёров он видел много — они приходили в штабы и райкомы со своими планами изменения климата и чертежами машины времени, они таскались повсюду со своими вечными двигателями и смертельными лучами. Кончалось всё тем, что им давали усиленный паёк, и они успокаивались.
Теперь все видели, кроме чекиста и художника, как китайцы смеются над мистиком с этюдником, смеются над странными пейзажами и магическими кругами, что этот мистик рисует на стоянках. Смеялись и китайцы, и носильщики в бараньих шапках. И тем и другим забавы взрослого человека напоминали о детях, оставшихся дома. А несколько красноармейцев, что были раньше буддийскими монахами, говорили, что художник всё время пишет священные знаки с ошибками.
Претерпев многое, они подошли к отрогам великих гор.
Люди здесь жили другие — со стоптанными плоскими лицами, и в их домах были нередки чудеса, которые Чекист объяснял атмосферным электричеством, а художник — велениями махатм.
Но красноармеец, который ещё не стал стариком, хлебнул солдатской жизни и давно научился подавлять в себе страх и удивление. Он видел каналы в Восточной Пруссии, видел Северное Сияние под Мурманском и качался в седле верблюда близ Волги.
Теперь экспедиция поднималась вверх по горной дороге, и, наконец, достигла снежной кромки.
Проводники затосковали, и их оставили в промежуточном лагере.
И вот на огромной скальной стене они увидели множество пещер. Пещерный город курился дымами, в надвигающейся темноте моргали огоньки.
В виду цели их путешествия, они остановились на ночёвку. Обшитые мехом палатки не спасали от холода, но, хуже всего, у него разболелась голова. Чекист объяснил, что это горная болезнь, да только у молодого красноармейца она наложилась на контузию, полученную под Спасском.
Утром художник накрыл на тропе стол с подарками и стал ждать — согласно местному обычаю. Чекист с помощниками стояли неподалёку. Блестящее и стеклянное на столе предназначалось для первых подарков, но ими дело не должно было ограничиться — рядом стояли два ящика с винтовками в заводской смазке.
Однако вместо старшего стражника ворот к ним вышла огромная хромая обезьяна, перепоясанная ржавым японским мечом. Они долго беседовали о чём-то втроём — обезьяна, художник и чекист, после чего обоих людей пригласили в пещерный город.
С собой начальники взяли двух китайцев, и обещали вернуться на следующий день.
Однако они вернулись посередине ночи, и красноармеец увидел, как художник с чекистом быстро что-то запихивают в широкий деревянный ящик. Они сразу же снялись с места и, бросив палатки, двинулись вниз.
Но как только рассвело, они обнаружили погоню.
Прямо над ними на горную тропу высыпали обезьяны и по всем правилам тактики стали обстреливать отряд из своих трубок острыми, как иголки, сосульками. Амуниция их была японская, как на плакатах про самураев, что угрожали Дальнему Востоку, и красноармеец понял, что китаец не врал. Один из носильщиков схватился руками за горло, упал другой — ящик пришлось тащить самим.
Молодой красноармеец почувствовал укол в сердце — и обнаружил, что сосулька на излёте пробила толстый ватный халат и поцарапала кожу.
Чекист отстал и принялся, стоя, как в тире, стрелять по безмолвным обезьянам с духовыми трубками. Сосульки рыхлили тропу прямо у его ног, но магазинная винтовка делала своё дело лучше духовых трубок.
На стоянке художник открыл крышку ящика, чтобы проверить содержимое, и носильщики увидели угрюмую морду обезьяна и повязку с непонятным иероглифом на лбу.
Красноармеец потом долго учился звать его обезьяной, а не обезьяном — мужской род упрямо проламывался через русский язык.
А тогда первыми спохватились носильщики.
— Сунь Укун! Сунь Укун! — кричали они, разбегаясь. Но это, конечно, был никакой не Сунь Укун, царь обезьян — как мог сам Царь обезьян потерять свою силу? Не из-за детской же ворожбы сумасшедшего художника?
Так или иначе, чекист мгновенно прекратил бунт, прострелив голову одному из носильщиков. Остальные роптали, но не посмели бежать — особенно после того, как чекист для примера убил из винтовки птицу, казавшуюся только точкой в небе. Когда убитого ворона принесли, носильщики увидели, что винтовочная пуля попала ей точно в голову.
Носильщики ещё колебались, чья сила тут крепче, но волшебство Сунь Укуна, в которое они верили, оставалось всё дальше и дальше за спиной. С ними был только деревянный ящик, в котором скреблась обезьяна. А вот сила и жестокость белого человека путешествовала бок о бок с ними.
Спускаясь в долину, молодой красноармеец смотрел на крышку ящика — из доски выпал большой сучок и образовалась аккуратная дырочка, в которой шевелился и блестел живой, почти человечий глаз.
И давно было понятно, что чекист украл обезьяну, а теперь носильщики тащили ящик, будто паланкин. Обезьян угрюмо глядел в светлеющее небо сквозь дырку от сучка.
Но бесчисленные дороги и время смыли из жизни будущего старика и этих носильщиков, и носильщиков, нанятых позднее — как смыло из его памяти сотни и тысячи людей, которых он видел в своей жизни.
Через три месяца они довезли трофей до берега Чёрного моря, и там, в родном городе ещё не состарившегося старика, появился Питомник. А он сам из сопровождающего груз превратился в сторожа.
Ну, раньше это называлось куда более красиво, но суть всегда была одна.
Чекист пропал, он булькнул в небытие, как упавший в воду камень. О нём ходили разные слухи, но такие, что никакой охоты узнавать подробности ни у кого не было. Художник отправился в новую экспедицию, да так и остался жить на границе снегов. О нём, как раз, говорили и писали много, но всё время врали, и врали так, что старик и вовсе перестал интересоваться художником.
— Сейчас будем открывать. Уходи, отец, — сказал один из русских. — Война будет.
— Мой дед тут воевал, отец воевал, я тут воевал. Тут всегда воюют.
Старик не стал помогать русским — они сами открывали клетки, но обезьяны не торопились уходить. Только когда с горы спустился тощий шимпанзе и позвал своих, обезьяны зашевелились и вышли на волю.
Старик долго смотрел, как, проваливаясь в снегу, поднимается вверх по склону обезьяний народ, а потом пошёл пить с заведующим и его заместителем.
Все русские уехали — остались только эти двое. Что-то им было нужно, и вечерами они сидели втроём: старик молчал, а двое учёных обсуждали какие-то очень странные вопросы. Иногда он думал, что учёным просто было некуда податься — их никто не ждал в России, а с другими краями они ещё не договорились.
— Меня недавно спросили, — сказал Заведующий, — счастлив ли я. Я начал мычать, шевелить ушами, подмигивать — в общем, ушёл от ответа. С другой стороны, я уж точно не являюсь несчастным, но и социализация моя не достигла высокого градуса. Почему бы и не жить здесь? Меня многие люди раздражают, мне неприятно то, что они говорят или пишут. А, поскольку мне их исправлять не хочется, да это и не нужно, я хочу отойти в сторону. Что и делаю с великим усердием, чтобы разглядывать других, более интересных. Но более интересных — меньше, а раздражающих — больше. А у тебя, поди, всё иначе. Тебе нужен дом — полная чаша, успех, благоденствие, благосостояние, мир в человецах и радость сущих. Я уверен.
— Кровь моя холодна, холод её лютей реки, промёрзшей до дна. Я не люблю людей — что-то в их лицах есть, что неподвластно уму и напоминает лесть неизвестно кому, — ответил Заместитель какой-то цитатой.
Они снова пили обжигающий самогон, и только один раз обратились к старику:
— Скажи, отец, а ты хорошо помнишь конец двадцатых?
Старик кивнул. Русские начали говорить о каких-то фёдоровцах, профессоре Ильине (Ильина старик, впрочем, хорошо помнил), упомянули художника и безумных изобретателей, Восточный Туркестан и ещё несколько безумных государственных образований, святой огонь перманентной революции, что горел в глазах всяких международных красавиц и красавцев…
— Всё дело в том, что тогда, — Заведующий сделал паузу, — всё дело в том, что (и тут я скажу самое главное) народ ещё не был приучен к осторожности — все писали письма, дневники, болтали почём зря, строчили доносы и отчёты. А потом все стали осторожнее, оттого свидетельств осталось меньше. Вот ты, отец, помнишь историю про скрещивание. Ну, с первой обезьяной Ильина по кличке Укун?..
Старик посмотрел на Заведующего голубым незамутнённым взглядом так, что русский просто махнул рукой:
— Ну, да. Прости, столько лет прошло.
Его товарищ перевёл разговор со скрещивания на другое:
— А я, когда путешествовал по Непалу, видел пряху, что хотела денег за то же самое. Денег не было — она тогда начала просить орехов, что были припасены для обезьян. «Я — тоже обезьяна», — сказала она. И никакого скрещивания Ильина ей не понадобилось.
Ещё через неделю вдруг сгорел домик специалистов.
Старик видел, как с гор спустилось несметное количество обезьян, и видел, как они смотрели на огонь, не мигая. Они вели себя, как люди, двигались, как люди, и обычная невозмутимость старика давала трещину. Обезьяны приходили всё чаще, и явно что-то искали в Питомнике, причём не еду.
Домик явно подожгли, на пожар даже приехали какие-то одетые не по форме милиционеры, но так же и уехали со скучными
унылыми лицами. Заместитель сразу же уехал из города, и они остались вдвоём на огромной территории Питомника.
Оставшийся русский перебрался в сторожку у забора, и казалось, погрузился в спячку на втором этаже, вылезая из спальника только затем, чтобы оправиться.
Война набухала как нарыв, и теперь не только каждую ночь внизу трещали выстрелы, но и днём перестрелка не прекращалась.
В пустых помещениях научных корпусов после таких визитов он находил рваные бумаги и разбитую аппаратуру. Иногда обезьяны писали что-то мелом на чёрных досках, будто проводили семинары. Однажды обезьяны попытались вытащить из кабинета директора сейф, но так и бросили на лестнице.
Однажды в Питомник заехали какие-то люди на бронетранспортёре, но ни старик, ни русский не вышли к ним. Пришельцы вскрыли автогеном этот старый сейф — но не нашли там ничего, кроме пыльных папок, похвальных грамот и прочих сувениров прошлого. Однако по броне бронетранспортёра тут же застучали камни — это обезьяны прогоняли непрошеных гостей. Решив не связываться, пришельцы исчезли.
Наконец, над городом прошли несколько реактивных самолётов, и скоро снизу, от моря, потянуло гарью. Что-то лопалось там внизу, как стеклянные банки в костре.
Тогда, впервые за много дней, старик решил обойти Питомник.
Он шёл мимо безжизненных корпусов и пустых клеток, пока не увидел, что на тропинках сидят обезьяны. Они сидели даже на его любимой скамейке, слушая чью-то речь.
Вдруг они расступились, и навстречу старику вышел Царь обезьян.
Старик сразу узнал его.
Сейчас Царь обезьян был как две капли воды похож на себя самого в деревянном ящике на горной дороге.
И на себя самого, каким он отправлялся в муфельную печь полвека назад.
Времени была подвластна только повязка с неразличимым теперь иероглифом. Вот что искали обезьяны всё это время — полуистлевший кусок ткани. И вот, наконец, нашли во вскрытом старом сейфе.
Царь обезьян спокойно смотрел на сторожа, и в лапах у него была винтовка. Старик, не в силах бежать, видел, как обезьяна в истлевшей повязке подходит к нему. Он приготовился к смерти, но выстрела всё не было, Царь обезьян медлил. Внезапно время дрогнуло, треснуло, как трескается лёд в горах, и старик почувствовал, укол в сердце — словно тонкий лёд вошёл в его тело. Он ощутил, как сползает по стене. Тело его не слушалось, ноги подвернулись, и он упал рядом со скамейкой. Уже исчезая из этого мира, он понял, что Царь обезьян просто подошёл проводить его.
Обезьян смотрел на него, как смотрели его сородичи на горящий дом — безо всяких ужимок. Он дождался того момента, когда сердце старика перестало биться, и вернулся на своё место.
Город заносило снегом. Бывший заведующий лежал у чердачного окна в старом доме и торопливо записывал происшедшее за последние несколько дней в блокнот.
Тишина окружала его — такая тишина, которая всегда бывает накануне большой войны. Вдруг в эту тишину вступил странный звук — негромкий, но грозный. Заведующий выглянул наружу.
Цепочка обезьян шла по улице — чётные держали под контролем левую сторону домов, нечётные — правую. Колонна топорщилась ружьями.
Это Царь обезьян выводил своих поданных из рабства.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
08 февраля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-02-09)
Говоря о фильме "Восхождение Юпитер", многие утверждали, что это история Нео, которому поменяли пол.
Такое соображение, отсылающиее к переменам с одним из братьев Вачовски, разумеется, в корне неверно — и понятно (особенно тем, кто досмотрел до финала), что это история Малыша и Карлсона, только рассказанная чуть иначе.
В фильме, который похож на резаную бумагу из шредера, можно, тем не менее, легко угадать главную обрезанную сюжетную линию:
— очевидно, что в прошлом красавец-вервольф выкусил кадык именно главному негодяю. Именно поэтому негодяй ходит в золочёном ошейнике и еле говорит. Однако ж очевидно, что вервольф должен был быть влюблён в матушку-покойницу.
— следующая линия, это линия больной дочери пасечника-предателя — она уезжает в город за продуктами и выпадает из повествования, будто пьяный, вышедший покурить в тамбур, из поезда.
— точно так же вываливается оттуда омолодившаяся принцесса.
Да и шанс телескопа стать центральным персонажем упущен.
Собственно, с телескопом очень странная история — Мила-таки его покупает, прежде чем отправиться в клинику. Куда этот блуждающий телескоп делся, вовсе непонятно.
В эту же прореху на теле фильма улетели ещё и пчёлы (Я-то думал, там будет что-то насчёт пчелиной матки и прочий Чужой").
Но более всего мне непонятно, отчего чуваки, что ловили главного героя в сцене у клиники, начали ему помогать на кукурузном поле, стреляя друг в друга.
Извините, если кого обидел.
09 февраля 2015
(обратно)
Аэропорт (День гражданского воздушного флота. 9 февраля) (2015-02-09)

Снег кружился, вспыхивал разным цветом, отражая огни праздника.
Такси несло Раевского через праздничный город, потому что зимний праздник в России длится с середины декабря по конец января. Ещё в ноябре о нём предупреждают маленькие ёлки, выросшие в витринах магазинов. Потом на площадях вырастают ёлки большого размера, потом приходит декабрьское Рождество католиков, и его отмечают буйными пьянками в офисах и барах, а затем стучится в двери календарный Новый год.
Затем следует глухое пьяное время до православного Рождества и угрюмое похмелье Старого Нового года. Самые крепкие соотечественники догуливают до Крещения, смывая в проруби этот праздничный морок.
Раевский ненавидел задушевные разговоры «под водочку» и это липкое время, этот пропавший для дела месяц. Его партнёр, сладко улыбаясь, говорил:
— Самое прекрасное в празднике, то есть в празднике, именуемом «Новый год», — так это первый завтрак. Завтрак вообще лучшая еда дня, а уж в первый день — так особенно. Именно так! Причём отрадно то, что это знание не всем доступно. Но уж если получил его, то навсегда. И всю оставшуюся жизнь можешь смотреть на других свысока. Тайное братство завтракающих! Завтрак высокого градуса посвящения! Ах!
Раевский улыбался и кивал головой — радуйся-радуйся. Но без меня.
Каждый год он улетал прочь, вон из этого пропащего, проклятого города и возвращался лишь тогда, когда трезвели последние пьяницы.
Он не любил пальмовый рай банановых островов и Гоа, похожий на Коктебель нового времени. Это всё было не для него — Раевский уезжал на юг Европы и три недели задумчиво смотрел на море с веранды. Иногда с ним была женщина, но это, в общем, было не обязательно — риски были существенны. Он помнил, как однажды расстроился, сделав неверный выбор.
Лучше уж без него, без этого выбора — как хорошо без женщин и без фраз, без горьких слов и сладких поцелуев, без этих милых, слишком честных глаз, которые вам лгут и вас ещё ревнуют — и всё остальное, что пел по этому поводу старый эстет, которого ревновала и мучила его собственная родина, и мучила не хуже какой-нибудь женщины. Выбор человека — вот что он считал самым главным в жизни. Это было сродни выбору веры одним князем.
Такси медленно выплыло из города и встало в бесконечную пробку. Раевский не испугался — по старой привычке он выехал заранее и уже предвкушал, что всё равно будет сидеть в баре с видом на взлётно-посадочную полосу. Пробка не пугала его.
Он достал ноутбук и принялся читать сводку погоды по Средиземноморью.
Аэропорт был уже полон офисной плесени — в толпе вращались, не смешиваясь, группы тех, кто побогаче, и тех, кто заработал только на Анталию с Хургадой.
Раевский не смешивался ни с кем, он вообще никогда не смешивался — он всегда был один. Даже в школе он сидел один за партой: так вышло, он пользовался уважением в классе. Не был изгоем, но сидел один.
Он сел в баре, с неудовольствием увидев, что его рейс откладывается.
Когда он отвлёкся от переписки, то заглянул в интернет-новости, с удивлением узнав, что происходит в зале рядом с ним. Оказывается, не один его рейс задерживался, их были десятки.
Раевский привык к тому, что он часто узнаёт из Интернета то, что происходит на соседней улице, но выкрики сумасшедших блогеров вселили в него некоторую тревогу.
Он выглянул из своего убежища — зал был наполнен людьми, причём их было неправдоподобно много. Они уже начинали подниматься в бар, разбавляя немногих состоятельных посетителей.
Час шёл за часом, на телевизионном экране стали появляться репортажи с места событий.
Сотрудники авиакомпаний были невнятны и испуганы, ведущие новостей радостно возбуждены, а приглашённые эксперты — суетливо бестолковы.
Отойдя в туалет, Раевский обнаружил, что потерял место. Прислонившись к стене, он стал обдумывать происходящее.
Всё было до крайности неприятно.
Он в первый раз пожалел, что отправился в путь налегке.
За безумные деньги он сторговал у бармена возможность выспаться на лавочке внутри служебного помещения.
Проснувшись, он не обнаружил в окружающем мире изменений к лучшему.
Наоборот, рейсы были по-прежнему отменены, а народу прибыло. Теперь уже всё смешалось — офисные девушки, копившие весь год на глоток египетского воздуха, и завсегдатаи дорогих альпийских курортов спали вповалку на грязном полу.
Телевизор по-прежнему показывал их всех — лица невольных обитателей аэропорта мелькали среди новостей.
Бармен выключил звук, но его вполне замещали вопли возмущённых из зала.
На третий день произошла первая большая драка.
Раевский с интересом заметил, что сюжеты о задержке рейсов переместились в середину выпуска новостей.
Прошла неделя, и об аэропорте вспоминали где-то в конце, перед спортивными новостями.
Но тут свет мигнул и погас.
«А вот и конец света», — подумал Раевский.
Резервное электропитание продержалось ещё полчаса, и последними погасли огни на посадочных полосах и в диспетчерской башне.
Свету конец — конец света.
Скоро у пассажиров случилась первая битва с охраной и пограничниками. Пограничники, хоть сразу и сдались, были перебиты все до одного. Им мстили как части той системы, что была символом аэропорта.
Служба безопасности сопротивлялась дольше, но её постиг такой же конец — толпа вывалила на взлётно-посадочную полосу и стала занимать самолёты.
Пилотов ловили по всем зданиям и силой оружия принуждали занять места за штурвалами.
Несколько бортов столкнулись при рулёжке, а два — уже в воздухе.
Раевский не принимал участия в битве за места, он мгновенно просчитал бессмысленность этой затеи.
«Структуры вышли на улицу», — подумал Раевский скорбно.
В этот момент вернулись те, кто хотел вернуться обратно в город. Оказалось, что вокруг Аэропорта уже несколько дней как, выставлено оцепление.
Когда бывшие пассажиры попытались прорваться через него, по ним тут же открыли огонь на поражение.
Ещё через неделю дороги перегородили бетонными блоками, а поля вокруг Аэропорта затянули колючей проволокой и окружили противопехотными минами.
Пассажиров не приняло небо, но и земля не принимала их. Десятки тысяч отчаянных и полных злобы людей не были нужны никому.
Иногда жители аэропорта видели над собой военные вертолёты. Полёты прекратились, когда они сбили один из них. Бывшие пассажиры сбили его ракетой с истребителя, которому толпа навалилась на хвост, чтобы он задрал нос в небо.
Многажды, вооружившись, они пытались пробиться через кольцо оцепления.
Но карантин держался прочно. И каждый раз толпа откатывалась обратно к Аэропорту, забирая с собой убитых — уже были нередки случаи каннибализма.
Раевский предугадал всё: вся сила не в одиночках, а в структурах. Истории про мускулистого героя, что мог покорить ставший вдруг диким мир, он оставлял офисным неудачникам. Этими сюжетами несчастные клерки компенсировали своё уныние и теперь сразу гибли, пытаясь выказать себя крутыми парнями.
Раевского интересовали структуры, и, особенно, структуры божественные.
И он начал работать над этим — сначала он нашёл подходящего вождя. Это был молодой парень, безусловно обладавший особой харизмой, уже сколотивший вокруг себя то, что раньше называлось бригадой. Впрочем, это так теперь и называлось.
У Раевского были особые планы насчёт нового названия его структуры, но он знал, что не всё можно делать сразу.
Он сразу понял, что парень будет послушно повторять его слова, — и первым делом объяснил будущему вождю, что судьба собрала их всех в этом странном месте не просто так. Это часть особого плана, ниспосланного свыше.
Рассказывая о воле богов Аэропорта и об их особом Плане насчёт давних пассажиров и их потомков, Раевский не заботился о деталях: самый крепкий миф — это миф недосказанный. Толпа всегда додумывает мистические объяснения лучше любого автора, нужно только дать ей возможность. А уж опорных точек он сочинил множество.
Он издали показал своим слушателям собранные со стен планы эвакуации при пожаре.
Красивые ламинированные бумажки образовали стопку, похожую на книгу. Книг в Аэропорту было мало — офисный народ давно отучился читать бумажные, а электронные быстро прекратили своё существование с исчезновением электричества.
Да и с чтением у офисного народа были проблемы. Многие быстро забыли грамоту, другим понадобилось несколько лет, но результат оказался один. Поэтому Раевский не боялся разоблачения.
Помня, что вся эта неприятность началась под Новый год, Раевский нашёл комнату, где безвестные аниматоры оставили костюмы Дедов Морозов.
Он знал, что пассажиры в возрасте, которые помнили значение красных халатов, уже перестали существовать. Люди средних лет были повыбиты в битвах за еду и продолжали массово погибать, пока пассажиры не начали разводить овощи на взлётных полосах и не научились охотиться на птиц.
Раевский действовал неторопливо — тут нельзя было ошибиться. Он создавал не бандитскую шайку, а новую церковь. Он вывел для себя как аксиому, что выживают группы, осенённые идеей.
Группы, ведомые простыми инстинктами, погибают быстро — их пожирают такие же простые структуры, только сильнее и моложе.
А вот идеи живут долго, куда дольше, чем люди.
Он выстраивал её, свою идею божественного пантеона Аэропорта, — медленно и верно.
Затем он выбрал себе женщину, причём не из длинноногих офисных красоток, а стюардессу с внутренних линий — не очень яркую, но спокойную и властную. Ему была нужна не жена, а жрица — и для неё нашёлся костюм Снегурочки.
Так они и выходили к своей вооружённой пастве — двое в красных халатах (причём Раевский всегда держался чуть сзади), и женщина в халате серебристого цвета.
Конечно, были и военные успехи — каждый день они отвоёвывали по куску территории Аэропорта, пока не захватили его целиком.
Новообращённые должны были прослушать беседы о Плане действий, что пришёл с неба, и о рае, который был потерян их предками из-за греха безделья.
Всё было не просто так — Аэропорт был дан людям, чтобы раскаяться, искупить свой давний грех и грех отцов страданием, а потом вернуться.
После искупления им всем можно будет вернуться в страну огромных стеклянных зданий и волшебного напитка, что был там на каждом этаже.
Напиток этот в раю назывался кофе, но никто, даже Раевский, не помнил его вкуса.
Иногда он вспоминал веранду маленького пансиона на берегу моря и… Нет, никакого «и» не было — только тут была настоящая жизнь. И даже время тут шло иначе — быстро и споро.
Через несколько лет умер последний клерк, который умел завязывать галстук. Подрастающее поколение уже казалось слишком взрослым, старел и Раевский. В какой-то момент он понял, что медлить нельзя. Его Церковь Возвращения снова стала готовиться к исходу, возвращению в рай.
Однако вождь, также состарившись, вдруг стал показывать признаки тихого сумасшествия, он часами лежал на тёплом потрескавшемся бетоне и говорил, что хочет остаться. Это в планы Раевского не входило, и ночью он удушил своё создание подушкой.
Утром он объявил, что боги небес взяли вождя к себе накануне общего возвращения. Вождь не мог вернуться в рай, потому что был слишком грешен и завещал похоронить его под бетоном взлётно-посадочной полосы. Так и сделали — засунув тело в старую дренажную трубу.
После этого Раевский назначил исход на следующий день.
Воины Церкви Возвращения давно смонтировали пулемёт в кузове джипа, и они вышли в поход при поддержке этого самодельного танка. В своём костюме Деда Мороза, превратившимся в одеяние пастыря, проводника воли небесных богов Аэропорта, Раевский шёл впереди. Иногда Раевский думал, что всех их просто посадят в сумасшедший дом — но это не пугало его. Он представлял себе чистые простыни и гарантированное трёхразовое питание.
С удивлением Раевский обнаружил, что у бетонных блоков их никто не остановил.
Было пустынно, и ветер пел в ржавой проволоке. Блиндажи и карантинные посты давно были брошены. Трава пробивалась через асфальт.
Москва была пустынна. И в странной для Раевского тишине он безошибочно разобрал тонкое пение муэдзина.
На торце огромного дома, все окна которого были выбиты, был нарисован огромный человек с метлой.
Чем-то этот рисунок напомнил Раевскому какую-то виденную в юности картину Пиросмани. Что-то было написано внизу — кириллицей, но слова были непонятны.
— Это таджикский, — сказала подруга Раевского. — Я помню этот язык. Когда-то лет пять подряд летала в Таджикистан.
Передовой отряд пересёк мост и вступил в пределы города. Они снова услышали непонятный звук — но это уже было не смутно знакомое Раевскому пение муэдзина. Это был целый хор, непонятно откуда шедший.
Только миновав огромные чёрные башни, на которые была наброшена маскировочная сеть из зелёных лиан, они увидели источник звука, так похожего на бормотание сотен живых существ.
Два всадника в красных халатах на вате гнали по бывшему проспекту огромную отару овец.
Всадники остановились и недоумённо уставились на пришельцев.
Боги Церкви Возвращения встретились с богами Нового города.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
09 февраля 2015
(обратно)
Снукер (День дипломатического работника. 10 февраля) (2015-02-11)

— Кто это так кричит, — поёжившись, спросил Раевский. — Слышишь, да?
— Это обезьяны.
— Странные у вас обезьяны.
— Они двадцать лет agent orange ели, что ты хочешь, — хмуро сказал Лодочник. — Я потом расскажу тебе историю про Сунь Укуна, царя обезьян, и его страшное войско. Но это потом.
Они вылезли из машины и пошли по узкой песочной дорожке к клубу. Раевский, подпрыгивая, бежал за старшим товарищем — отчего того звали Лодочником, он не знал, а Лодочник сам не рассказывал. Раевский хотел подражать Лодочнику во всём, да вот только выходило это плохо.
Он напрасно ел экзотическую дрянь в местных ресторанчиках и напрасно пил куда большую дрянь из местных бутылок, похожих на камеры террариума или хранилища демонов.
В торгпредстве молодых людей почти не было вовсе, поэтому они сразу нашли друг друга. Даже в местной гостинице они, не сговариваясь, поселились в соседних номерах — Лодочник в семнадцатом, а Раевский в шестнадцатом. Раевский поставлял сюда банкоматы, а Лодочник заведовал всей торговлей с соседней страной, что шла по двум ниточкам дорог, проложенным в обход минных полей. После большой войны сюда завезли копеечные калькуляторы и плееры.
Эти два предмета убили местную письменность и науку — убили начисто, и будущим страны стало её прошлое.
Консульство тут было маленькое.
Старики доживали последние месяцы до пенсии, а молодые люди глядели насторону. Из страны надо было валить — пора братской дружбы, бальзама «звёздочка» и дешёвых ананасов кончилась. Издалека долго плыли долги в донгах, а здесь делать было нечего. Разве что пить виски под сухой треск бильярдных шаров в клубе. Лишь недавно Раевский узнал, что только иностранные туристы пьют змеиную водку, а обезьяньи мозги вовсе не так вкусны, как кажется. Один из торговых представителей съел что-то неизвестное, а наутро его нашли с почерневшим, вздутым лицом. Маленький пикап увёз его в аэропорт, упакованного, как матрёшку — в обычный, цинковый, а поверх всего деревянный ящик.
Развлечение из этого, впрочем, было неважное.
Раевский боялся смерти — впрочем, как и всякий обычный человек. Он не любил самого вида мертвецов, и когда его мальчиком, вместе с классом, повели в Мавзолей, он стал тошниться чуть ли не на гроб вождя. Он никому не рассказывал, что Ленин в этот момент показался ему удивительно похожим на пропавшего во время войны дедушку, которого он знал только по фотографиям.
Но это было далеко — в московском детстве, а тут смерть была в малярийном воздухе, в каких-то непонятных насекомых… Про проституток он и не думал.
Воздух под низким потолком был наполнен треском костяных шаров.
Двое поляков схватились с парой немцев — вспоминая былую национальную вражду. Из русских тут был только Чекалин — странный человек с израильским и русскими паспортами одновременно (Лодочник как-то стоял вместе с ним на паспортном контроле здесь и в России).
— Кто это с Чекалиным, не знаешь? — спросил тихо Лодочник.
Раевский был рад услужить, и, как раз, это он знал — худой чёрнобородый человек рядом с Чекалиным был недавно приехавший по ооновской линии пакистанец.
— Это афганец или пакистанец. Закупки продовольствия, рис, специи. Кажется, услуги связи. Его тут зовут просто Хан.
Пакистанец подошёл к ним сам.
— Простите, я слышал слово «снукер».
Раевский залихватски взмахнул рукой и сказал, цитируя что-то: «От двух бортов в середину! Кладу чистого»… Но пакистанец и не повернулся к нему, а смотрел на Лодочника, будто поймав его в прицел.
— Ну, да. Я люблю снукер, — ответил тот.
— В снукер мало кто играет. Вы русские, предпочитаете пирамиду. У меня есть шары для снукера.
— Мы можем по-разному.
— У меня такое правило: три партии, последняя решающая — хорошо?
— Что ж нет? На что сыграем?
— На желание. У вас есть свои шары — а то можно сначала вашими? Тогда вторую — моими?
— То есть? — опешил Лодочник.
— Бывают суеверные люди, вот мне многие вещи приносят счастье. Может, и вам… — и пакистанец открыл деревянный ящик, внутри которого на чёрном бархате лежали разноцветные шары. Пятнадцать красных, жёлтый зеленый, коричневый, синий, розовый и чёрный — лежали как дуэльные пистолеты, готовые к бою. Отдельно от всех, в своей вмятине покоился белый биток.
И Лодочник понял, что не отвертеться.
Первую партию Лодочник с трудом выиграл и с дрожащими руками сел за стол. Пакистанец, казалось, совсем не расстроился, и принялся рассказывать про местного коммунистического лидера. Он был известен тем, что вошёл в революцию с помощью своих трусов. Во время восстания на французском крейсере обнаружилось, что нет красного знамени. Маленький баталер отдал свои красные трусы, и они взвились алым стягом на гафеле — а баталер, просидевший всё время в кубрике, превратился в лидера партии.
Лодочник тоже знал этот анекдот, а вот Раевский ржал, как весёлый ослик, взрёвывая и икая. Лодочник похвалил начитанность чернобородого, и после этой передышки они снова встали к столу.
Во второй партии началась чертовщина.
Пакистанец делал партию в одиночку. Только один раз он встретился с настоящим снукером. Но из этой крайне невыгодной диспозиции он ловко вышел, коротко ударив кием, поднятым вертикально. Это был массе — кий пакистанца точно ударил шару в правый бок, тот отклонился вперёд и влево и, завертевшись, ушёл вправо, огибая помеху. Но потом биток, подпрыгнув, миновал не только соседний шар, а, сделав дугу, помчался в сторону.
Лодочник не верил глазам, и сначала проклял лишний виски. Но алкоголь ничего не объяснял — в каждом из шаров будто сидел пилот-гонщик.
Дул влажный ветер с границы, где одна на другой лежали в земле мины — китайские, советские, французские и американские. И ветер этот, полный дыхания спящей смерти, бросал Лодочника в пот.
— Я тоже видел, — бормотал Раевский. — Это фантастика… Впрочем, нет — наверняка там магниты какие-нибудь.
— Нет там магнитов, я проверял, — Лодочник был уныл. — Не позорься, какие магниты. Это королевский крокет.
Раевский, не расслышав, вытащил зажигалку, но, повертев её в руках, засунул Cricket обратно в карман.
Лодочник пояснил:
— Королевский крокет — ежи разбегаются от меня в разные стороны. Да ты не читал, что ли, про кроличью нору?
Подошел пакистанец, и они вежливо расстались, чтобы встретиться на следующий вечер.
— Ну, не расстраивайся. Ну, попросит он тебя прокукарекать. Ну, там, напоить всех — соберём тебе денег, все дела…
Но Лодочник понимал, что дело плохо, что-то страшное было в неизвестном желании пакистанца. И он понимал, что отказаться от него будет невозможно. Кто-то огромный, страшный, как чудовище из его детских снов, подошёл к нему сзади и положил тяжёлые липкие лапы на плечи.
Всё так же тревожно кричали обезьяны, будто говоря: «Куда ты, бедная Вирджиния, вернись, бедная Вирджиния».
Тянули к нему ветки пальмы, погребальным колоколом звенела на ветру вывеска сапожника.
Он пошёл сдаваться Парторгу. Парторг давно уже потерял это звание, а вот Лодочник помнил, как его вызвали в кабинет этого старика. Кто-то стукнул по инстанции, что Лодочник снимался во французском фильме про колониальные времена. Лодочник сфотографировался в обнимку со знаменитой актрисой, довольно выразительно положившей ему голову на плечо.
Тогда в торгпредстве было втрое больше людей, и Лодочника ожидало показательное разбирательство на заседании партийного комитета. Но Парторг вызвал Лодочника на разговор — и спрашивал вовсе не об этом деле, о планах на будущее и московских привычках. Лишь под конец, когда Лодочник уже повернулся к двери, Парторг спросил:
— Было?
Лодочник замахал руками.
— Молодец, я бы тоже не сознался, — подвёл итог Парторг и закрыл дело.
Теперь партия исчезла, вернее, их стало чересчур даже много. Но Парторг по-прежнему сидел в своём кабинете, дёргая за невидимые ниточки кадровых служб.
Лодочник рассказывал ему подробности, ожидая, что Парторг стукнет кулаком по столу, выматерится, но развеет его безотчётный страх. Но когда он поднял глаза, то понял, что старик по ту сторону старого канцелярского стола напуган не меньше, а больше его.
— Ты не представляешь, во что ты вляпался. Но и я виноват — я должен был узнать первым, а не узнал. Хан Могита появился в этом углу, а я его прохлопал. На желание?
Лодочник кивнул.
— Значит, на желание. Ну, какие у тебя могут быть желания, я понимаю. А вот у него… Пошли к завхозу.
Лодочник понял, что дело действительно серьёзное. Завхоза в торгпредстве никто не видел — он сидел у себя, как паук. Раньше думали, что он контролирует шифровальщиков или связан с радиопрослушиванием, но точно никто ничего не знал. Завхоз, казалось, выходил из своей комнаты только седьмого ноября и на Новый год — чтобы выпить рюмку водки с коллективом. Теперь остался только Новый год, и некоторые стажёры уезжали на Родину, так никогда и не увидев завхоза торгпредства.
Они пошли в полуподвал, где сидел в своей комнате Завхоз.
— С бедой пришёл, — Парторг сел на край табуретки. — Могитхан объявился.
Завхоз быстро повернулся к нему:
— Кто-то из наших? Уже сыграли? Во что?
— Вот он. Две партии, завтра третья. На бильярде шары катают. Есть у нас шары?
— Шары у нас есть, как всегда. У нас мозгов нет, а шары у нас всегда звенят, покою не дают. Есть у нас шары. Моршанской фабрики имени Девятнадцатого партсъезда, хорошие у нас шары, из моржового хера. Шучу, бивня.
Хитро прищурившись, смотрел на них из угла Ленин.
— А осталась ещё родная земля? — спросил Парторг.
— На один раз.
— Беда… — они оба замолчали надолго, пока Парторг, наконец, не сказал: — Что будем делать? Может, не оставим так?
— Пацана жалко, не видел ещё ничего в жизни, — Завхоз говорил так, будто Лодочника не было в комнате.
— Жалко, конечно — но он сам виноват. А с тобой что делать? Без земли, ты-то без землицы родимой, сам знаешь… Известно, что с тобой будет.
— Ладно тебе, — Завхоз достал спички. — Отбоялись уже. Что нам с тобой терять, одиноким стареющим мужчинам.
Вспыхнул огонёк, и Завхоз поднёс его к кучке щепок под ленинским бюстом. Они разом занялись дымным рыжим пламенем. Запахло чем-то странным, будто после жары прошёл быстрый дождь и теперь берёзовая кора сохнет на солнце. Пахло летом, скошенной травой и детством.
Теперь Завхоз достал из сейфа коробку с шарами. На картонной коробке чётко пропечатался номер фабрики и красный силуэт Спасской башни. Завхоз поставил её перед огнём, и Лодочник вдруг обнаружил, что голова вождя в отсветах пламени сама похожа на бильярдный шар.
Завхоз достал из мешочка чёрную пыль (Это и есть Родная Земля, догадался Лодочник) и бросил щепотку в огонь.
Он вдруг оглянулся и сделал странное движение.
Лодочник ничего не понял, но Парторг мгновенно и точно истолковал странный жест:
— А ты что тут делаешь? Ну всё, всё… Иди, нечего тут. Завтра зайдёшь.
Наутро парторг сам отдал ему коробку с шарами.
Пакистанец нахмурился, увидев чужие шары, но ничего не сказал.
Пошла иная игра — морж бил слона влёт, советская кость гонялась за вражьей почти без участия игрока.
Лодочник делал классический выход, клал шары по номерам и вообще был похож на стахановца в забое.
Пакистанец сдувался с каждым ударом.
— Партия! — Лодочник приставил кий к ноге, как стражник — алебарду.
«Партия» — было слово многозначное.
Пакистанец поклонился ему, но видно было, что его лицо перекошено ненавистью.
Однако радость победы миновала Лодочника. Ещё собирая в картонную коробку драгоценные шары, он почувствовал себя плохо, а, вручив их Парторгу, обессилено привалился к стене. До машины Раевский тащил его на себе. Вместо общежития друг отвёз его во французский колониальный госпиталь, и прямо в вестибюле Лодочник ощутил на лице тень от капельницы.
На следующий день температура у него повысилась на полградуса, на следующий день ещё. Ещё через два дня градусник показал тридцать восемь, через четыре — сорок. Три дня Лодочник пролежал с прикрытыми глазами при температуре сорок один.
Лодочник смотрел на то, как медленно вращает лопасти вентилятор под потолком. Точь-в-точь, как вертолёт, что уже заглушил двигатель, — и вот Лодочник снова проваливался в забытьё.
Затем температура начала спадать, и он стал заглядываться на медсестёр.
Когда за ним приехал Раевский, Лодочник смотрел на него бодро и весело — только похудел на двадцать килограмм.
Раевский вёз его по улицам, безостановочно болтая.
Навстречу им, из ворот консульства выезжал грузовичок-пикап. Из-за низких бортов торчал огромный деревянный ящик, покрытый кумачом.
Раевский вздохнул и ответил на незаданный вопрос:
— Это Завхоза на Родину везут. Он ведь одновременно с тобой заболел — только вот температура у него не спала.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
11 февраля 2015
(обратно)
Два желания (11 февраля) (2015-02-12)

Сидоров отправился домой в те дни, когда людской поток мельчает перед праздниками.
То есть в тот день, когда люди залезают в тёплые дома, как в берлоги, чтобы провести между столом и постелью несколько дней.
Он слушал стук колёс, который заметно поутих со времён его детства, и вдруг вспомнил, как в этом детстве стыдился своей фамилии. Всё время маячила рядом с ним в дразнилках «сидорова коза». Воспоминание было забавным, а вот нынешняя жизнь — печальной. Сидоров ездил в Москву, чтобы последний раз проконсультироваться с врачами. Результаты были неутешительны, и врачи практически отступились от него.
В его купе сперва сидели бывших два инженера.
Была такая порода — инженеры, что прижились как-то в новой жизни, прижились без шика, но основательно.
Еды у них не было, если не считать двух бутылок коньяка, которые они усидели за вечер (Сидоров отказался, памятуя наставления врачей).
— Знаешь, отчего я люблю железную дорогу? — спрашивал один другого. — Вовсе не от того, что тут не заставляют на вокзале разуваться для досмотра и вынимать ремень из брюк. И не от того, что едешь из центра города. И не из-за всепогодности. А вот из-за того, что тут лечь можно.
— Купи самолёт и валяйся там сколько хочешь.
Первый осёкся и зашевелил губами. Казалось, он минуту считал, сколько ему понадобится времени, чтобы купить самолёт. Результаты его так напугали, что он быстро допил из стакана.
— А ты что хотел? Желание у тебя может быть, да вот только одно. И не факт, что исполнят, — назидательно ответил его спутник. Судя по виду, это были инженеры из высокооплачиваемых, но вовсе не хозяева жизни, а таких Сидоров видал много.
Сидоров вышел из купе и, встав у окна, принялся наблюдать зимний пейзаж.
В этот момент открылась дверь, и в вагон ступила женщина. Сидоров сразу втянул живот и прижался к стене.
Но навстречу шёл проводник, и она сама развернулась спиной к поручню и чуть выгнулась.
Сидоров сразу оценил её фигуру — нет, она была не девочка. Женщина из тех, что видели в жизни много, изведали разное, были не очевидцами, а участниками не всегда радостных событий, но какой-то внутренний стержень не дал им согнуться.
За такой можно было пойти не задумываясь, если она только поманит пальцем. (Сидоров ощутил прилив водочно-пивной пошлости мужских застольных рассказов). Незнакомка была из тех, что, если встретятся с ними взглядом, увозили когда-то гусары, прикрыв медвежьей полостью. Женщина посмотрела Сидорову в лицо и, кажется, чему-то удивилась. Что-то её заинтересовало, так бывает, когда человек до конца не узнаёт другого и начинает перебирать в памяти прошлые встречи.
В этот момент надо было сделать шаг вперёд и заговорить первым, но Сидоров промедлил. Он промедлил, а женщина уже удалялась в задумчивости, но всё же, как будто случайно, оглянулась.
— Вот, — подумал Сидоров. — За такое всё отдать, но я болен, а не будь я болен…
И сам над собой тихонько засмеялся.
Миновали большой волжский город, и в купе сменились пассажиры. На смену двум коньячным бизнесменам пришла, шурша фольгой и бренча бутылочками, компания художников во главе с пожилым предводителем Николаем Павловичем. Отдельно пришёл какой-то Синдерюшкин, больше похожий на Каменного гостя.
Они добросовестно пытались втянуть Сидорова в разговор, но вскоре бросили, а как бросили, то даже и сам Синдерюшкин, сидевший в углу, показал себя знатоком чудес и устройства мира. Заговорили о мистике, о событиях причудливых — сперва как-то объяснимых, а потом — и о необъяснимых вовсе.
К примеру, один из художников рассказал о легендах Веребьинского спрямления — того места, где, по легенде, дрогнул палец царя и путь делал петлю. Молодой человек тут же оговорился, что знает, что всё дело не в монаршьем пальце, а в крутизне склона, ныне преодолённой. Однако, когда путь спрямили, обнаружилось, что вся местность в бывшей загогулине приобрела сказочный вид, и даже само время течёт там иначе.
А смешливая женщина-реставратор сказала, что у неё была бабушка-ясновидящая. Что-то было с ней загадочное в жизни. Родившись на каком-то отдалённом хуторе, она последовательно вышла замуж за нескольких миллионеров настоящего, тогдашнего ещё образца. Когда эта будущая бабушка сидела в своём имении, то могла заставить пастушка, что брёл в отдалении, споткнуться, превращала прокисшее молоко в свежее и делала прочие чудеса.
Во время войны она, будучи уже пожилой женщиной, попала в эвакуацию в Новосибирск. Незадолго перед этим на фронте (она сказала по-старому — «в действующей армии») пропал один из членов семьи, и вот рука этой старухи сама собой вывела — он в тифу в новосибирском госпитале. К этому серьёзно не отнеслись, но когда это повторилось пару раз, то семья пошла по госпиталям, благо город был тот же самый. Натурально, родственник обнаружился — раненый и больной. В том же Новосибирске сроки этой женщины подошли, и она, уже несколько недель не встававшая, вдруг оделась и пошла через весь город к своей подруге — такой же, как она, старорежимной старушке.
Вернулась, легла — и отошла наутро.
Буквально через пару дней к ним приехали родственники, и с порога спросили, куда же поехала Ванда Николаевна?
Скорбные эвакуированные люди сказали, что Ванда Николаевна умерла.
— Позвольте! — вскричали пришельцы. — Наш поезд остановился на полустанке, и во встречном, шедшем из Новосибирска, сидела у окна Ванда Николаевна — в своём обычном пальто, в шляпке с букетиком. Она узнала нас, помахала рукой — и поезда тронулись.
Можно предположить, что она поехала в Болгарию, куда только вступили войска маршала Толбухина.
Николай Павлович тут же взмахнул рукой:
— Ну, это даже как-то мелко. Настоящие вершители судеб мира — люди скромные, без толпы страждущих в палисаднике, от бескормицы объедающих хозяйские яблони. Вот есть ещё легенда о Серебряном поезде…
Продолжить ему не дали, потому что пришла пора пить чай, и все как-то загалдели, разом зашевелились, и Николай Павлович обиженно умолк.
Вместе с чаем с подстаканниками к столу явились тонкие ломти запеченного мяса в фольге, салаты в кюветах, домашние плюшки и пирожки. Сидоров давно заметил, что его соотечественники делятся на одиночек, что приучили себя к вагонам-ресторанам, и компании, что веселятся в замкнутом пространстве своего купе.
Он принял приглашение к столу, и даже сам достал свой нехитрый припас.
Его попутчики уже говорили о желаниях, — тайных и явных.
— Тут не поймёшь, что выбрать, — сказал Николай Павлович — Наше наказание в том, что желания исполняются буквально. Вот хочет человек сбросить десять килограммов, и тут же попадает под трамвай. Глядь — а ему и ногу отрезали!.. Десять кило как не бывало!
— Господь с вами, Николай Павлович, что вы какие-то ужасы говорите! Вечно так…
— Да вот так уж… — Николай Павлович действительно смутился. — Однако ж с желаниями всё равно нужно быть осторожнее. Вот, к примеру, был у меня предок — мелкий чиновник. При Советской власти мы даже родства не скрывали — коллежский регистратор, пятьдесят рублей жалования, локти протёрты о зелёное сукно казённого стола… А дедушке моему перед смертью рассказывал, что был у него момент, когда мог пожелать всего, весь мир охватить, а выжелал только мелкий чин и прибавку. Так и пошёл по жизни, распевая «Коллежский регистратор — почти что Император».
— Тогда за такое и разжаловать могли.
— Да не разжаловали. А потом революция грянула, только он, как жил юрисконсультом, так юрисконсультом и помер.
— А вот бывает, — вставил молодой. — Увидишь девушку, загадаешь, что всё бы отдал за её любовь, а потом…
— Что потом? — художница ударила его по руке.
— Потом мучаешься, делишь имущество, дети плачут. Или вот история про Серебряный поезд. Есть такой поезд, что заблудился во времени и пространстве и ходит по дорогам, будто Летучий Голландец.
— И что, кораблекрушения… То есть, обычные крушения вызывает?
— Отчего же сразу крушения? Вовсе нет, но говорят, кто глянет в глаза машинисту, тот может загадать желание.
— Нет-нет, — вмешалась Елизавета Павловна, — не желание загадать, а наоборот, тот, кто в поезд этот сядет, ну, скажем, по ошибке, тот в этом поезде вечно будет ездить.
— Не поймёшь, чего тут больше — наказания или счастья. Такая вечная жизнь похуже мгновенной смерти будет. Сойдёшь с ума от вечного звука чайной ложечки в железнодорожном стакане.
Сидоров сидел, стараясь не обращать внимания на ноющий бок.
Жизнь была кончена — так повторял он себе, понимая, что нет, не так, нужно достойно просуществовать ещё несколько быстрых лет.
Был такой старый спор о том, как провести остаток жизни — жить так, будто «каждый день как последний», или же каждый день начинать вечные великие дела.
Спор этот был надуманный.
Делай, что должен, и будь что будет.
Но уж кто-кто, а Сидоров знал, что пожелать. Желание у него было всегда наготове, как ножик у разбойника за голенищем.
Вечерело. Поезд встал на одном из небольших полустанков.
Он пошёл курить, но не в тамбур, а решил выйти на расчищенное пространство между путями.
Стояли мало, но — как раз на одну сигарету.
Как только он ступил на снег, как что-то лязгнуло, прогремело, раскатываясь, и товарный состав стронулся и, постепенно набирая ход, стал уходить со станции.
Исчезая, товарняк открыл вид на другой состав, что стоял за ним. Был этот состав покрыт инеем, оттого казался сперва серебряно-белым.
Пахло от него настоящим углём, снегом и каким-то неуловимым запахом хлеба, еды и уюта.
Видимо, это был один из модных туристических рейсов, что катают иностранцев — любителей экзотики — по Сибири. Матрёшка-балалайка, самый страшный русский зверь — паровоз.
Сидоров разглядывал зелёные вагоны с орлами, за ними стояли жёлтые, жёлто-коричневые и синие.
Что-то слишком архаичное было в них — да, на последнем была открытая площадка, и на ней курил офицер в причудливой форме, которую он видел в фильмах. Шинель старого образца, башлык, фуражка — всё было из того кино, где много стреляют из револьверов и скачут на лошадях. Сидоров поискал глазами кинокамеру и девушку с этой смешной штуковиной, на которой мелом пишут номер эпизода.
Но сейчас и без кино в мире было довольно много ряженых.
Сидоров с иронией относился ко всем этим конным водолазам в антикварных мундирах.
Офицер докурил папиросу и скрылся внутри.
Мимо шёл машинист в чёрном пальто.
Он посмотрел Ивану в глаза, и взгляд этот был тяжёл. Он будто спрашивал: «Что ты тут делаешь, зачем ты тут, на снежной платформе, что тебе тут, бездельнику, надобно?»
И Сидоров не отвёл взгляда.
Наутро, выйдя в коридор, он увидел неописуемой красоты
зрелище. На соседних путях работал снегоочиститель.
Он медленно двигался параллельно их пути и выбрасывал высоко вверх фонтан снега, сверкавший и переливавшийся на солнце тысячами радужных огней.
Такие же огоньки, только медленно перемигивающиеся, можно было видеть на ёлках, что виднелись через большие окна вокзальных залов.
Он вновь увидел ту женщину, что так поразила его вчера. Она, твёрдо ступая, шла по ковровой дорожке с косметичкой под мышкой и равнодушно скользнула взглядом по его лицу. Вчерашнего интереса как не бывало.
Наконец, он понял, что изменилось.
Бок его не болел. Эта отвратительная тяжесть в нём пропала начисто.
Ехать Сидорову было ещё полдня, и к врачу можно было попасть нескоро. Медицина с её попискивающими, как голодные коты, приборами, была далеко, но он знал, что не болен, что выздоровление случилось — раз и навсегда. Ему не нужно было никаких анализов, он это знал наверняка.
Всё произошло, и известной ценой, хотя он тут же ощутил укол жадности.
Но Сидоров тут же одёрнул себя.
Тут добавки не просят.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
12 февраля 2015
(обратно)
Диалог CDXXI (2015-02-13)
— Ты себе нож купил?
— Не-а. Паяльник подарили вот.
— Ну, паяльник — это хорошо. Будешь работать в сфере добрых услуг.
Извините, если кого обидел.
13 февраля 2015
(обратно)
Повесть о Герде и Никандрове (День святого Валентина. 14 февраля) (2015-02-14)
Обходчик Никандров медленно вышел из тамбура и стал надевать лыжи.
Связи не было уже месяц. Каждое утро он с надеждой смотрел на экран, но цветок индикатора всё так же был серым, безжизненным.
Может, спутник сошёл с орбиты и стремительно сгорел в атмосфере — вместе со своим электронным потрохом и всеми надеждами на человеческий голос и всеми буквами, летящими через околоземное пространство. Или что-то случилось с ближайшей точкой входа.
Нужно ждать, просто ждать — вдруг, спутник в последний момент одумается, и вернётся на место. Или неисправное звено заместится другим — включится, скажем, резервная солнечная батарея, и всё восстановится. Но цветочек в углу экрана по-прежнему обвисал листиками, оставался серым. Ответа не было.
Вокруг была ледяная пустыня и — мёртвый Кабель, который Обходчик должен был охранять.
Когда-то, до эпидемии, Кабель был важнее всего в этих местах.
Вдоль него каждый день двигался на своей тележке или на лыжах, как сейчас, Обходчик. Кабель охраняли крохотные гусеничные роботы (впрочем, забывшие о своих обязанностях сразу после перебоев с электричеством) и минные поля, которые в итоге спасли не Кабель, а Обходчика.
Когда началась эпидемия, произошли первые перебои с электричеством. Обходчик решил было бежать, но уединённая служба спасла его — толпы беженцев, что шли на Север, миновали эти места.
Несколько банд мародёров подорвались на минном поле. Эти поля шли вокруг Кабеля и были густо засеяны умными минами ещё до появления Обходчика — чтобы предотвратить диверсии. Диверсанты перевелись, но и теперь умные мины спасали Обходчика от прочих незваных гостей.
Но и лихие люди давно пропали. Видимо, эпидемия добралась и до мародёров, и они легли где-то в полях, в неизвестных никому схронах или мумифицировались в пустых деревнях.
Обходчик забыл о них, как забыл и о минном поле. Он не боялся его — умная смерть на расстоянии отличала его биоритмы от биоритмов пришельцев.
А только шагнёт чужой внутрь периметра — и из-под земли вылетит рой крохотных стрел, разрывая броню, обшивку машины или просто человеческое тело.
Мелкого зверя поле смерти пропускало, а крупное зверьё тут давно перевелось.
Давно Обходчик сидел на своей станции, потому что идти ему было некуда.
Не ходит зверь в неизвестность от тёплой норы, не покидает сытную кормушку — и человеку так же незачем соваться в мир, который пожрал сам себя.
Связь с внешним миром была безопасной — этот мир людей выродился в движение электромагнитных волн.
Обходчик, проверив своё хозяйство — теплицы, генераторы и отопительную систему — усаживался за экран. Там, плоские и улыбчивые, жили настоящие люди. К несчастью, у обходчика в прошлом году сломался микрофон, и он не мог по-настоящему отвечать своим собеседникам.
Обходчик слышал голоса внешнего мира, а сам отвечал этому миру, стуча по древней клавиатуре.
Откликались всего несколько.
От эпидемии спаслись немногие, настолько немногие, что человечество угасало — Старик, Близнецы, Доктор… И Герда.
Старику было чуть за двадцать — он сидел в развалинах метеорологической станции в Китае.
Близнецы — две сестры — жили на бывшей нефтяной платформе в Северном море. Они купили её ещё до эпидемии, и это уединение сохранило им жизнь.
Доктор выходил на связь из пустыни, полной причудливо разросшихся кактусов. Правильнее было бы сказать "из-под пустыни", потому что он уже много лет жил внутри огромного подземного города. Ему не надо было в страхе преодолевать тайные ходы, заваленные мумифицированной охраной — подземный город стал его рабочим местом и жильём задолго до эпидемии.
Потом появилась Герда.
Герда стучала по клавишам откуда-то из Северной Европы, из маленького скандинавского городка.
Обходчику иногда было мучительно обидно, что у неё была старая машина безо всякой акустики, да и он был лишён микрофона. Но в этом двойном отрицании он находил особый смысл. Он старался представить тембр её голоса, его интонацию — и это было лучше, чем знать наверняка.
Волхвы странно распорядились своими дарами — дав одному возможность только слышать, а другому не дав возможности говорить.
Остальные могли болтать под равнодушным взглядом видеокамеры и умещать свои голоса в россыпи цифровых пакетов — Обходчик и Герда были единственными, у кого не было камеры. У обходчика вовсе не было фотографии — он нашёл своё лицо на старом сайте своей школы, и теперь лопоухий мальчик с короткой стрижкой молча смотрел на Старика, Близнецов и Доктора, которые шевелили губами в неслышной речи. Внизу экрана ползли слова перевода, не совпадая с движением губ.
Фотография Герды была поновее — девушка была снята на каком-то пляже, с поднятыми руками, присев в брызгах накатывающейся волны. Снимали против солнца — оттого черты лица были нечётки.
Это очень нравилось Обходчику — можно было додумывать, как она улыбается и как она хмурится.
Имена странно сократились — в какой-то момент он понял, что на земле остался только Обходчик, а Никандрова забыли все. Его прежняя жизнь, его имя и фамилия не пролезли в сеть, остались где-то далеко, как внутри сна, когда человек уже проснулся.
Одна Герда была Гердой.
Они были на связи часами — и в этом бесконечном "Декамероне" истории бежали одна за другой. Когда заканчивал рассказ один, другой перехватывал его эстафету — через год они даже стали одновременно спать — не обращая внимания на часовые пояса.
Но Обходчик и Герда, инвалиды сетевого разговора, вдруг научились входить в закрытый, невидимый остальным режим — Герда нашла прореху в программе диалога и намёками дала понять Обходчику, как можно уединиться.
И вот однажды Герда написала ему паническое письмо.
— Ты знаешь, по-моему, мы говорим с ботами.
— Почему с ботами?
— Ну, с ботами, роботами, прилипалами — неважно. Я тестировала тексты старых разговоров — и это сразу стало понятно. Мы говорим иначе, совсем иначе, чем они.
— А как же?
— Не в том дело, что мы говорим в разном стиле, а в том, как мы меняемся. Я сохраняю все наши разговоры, и, знаешь, что? Ты заметил, что мы говорим всё больше? Для нас ведь нет никого за пределами экранов, но мы с тобой говорим по-разному — а они повторяются. Но это ещё не всё — все они говорят всё естественнее.
— То есть как? Чем лучше?
— Они раньше писали без ошибок, а теперь стали ошибаться — немного, совсем чуть-чуть. Почти как люди. То есть они накапливают память о наших с тобой случайных ошибках и описках. Будто раньше у них был только идеальный словарь, а теперь мы что-то записали в него.
— И что? Это мистификация?
— Не обязательно мистификация — это просто бот, программа, отвечающая на вопросы. И она обучается — берёт и у тебя и у меня какие-то обороты речи.
— Да кому это нужно?
— Да никому. Просто в сети были несколько ботов, и вот оставшись без хозяев, они реагируют на нас. Они питаются тобой и мной, как электричеством.
Обходчик тогда долго не мог примириться с этой новостью. Стояла жара, с холмов к станции ветер приносил запах сухого ковыля, знойного высыхания трав. Но Обходчик не чувствовал запахов, не страдал от жары — его бил озноб.
Человечество ссохлось как старое яблоко, сжалось до двух людей, что стучали по клавишам, не зная, как звучит голос друг друга.
Он не подал виду, что знает тайну.
Всё так же выходил на связь с Доктором и Близнецами, нервничал, когда Старик опаздывал или спал.
Но теперь слова собеседников казались иными — безжизненными, как тот Кабель, который он должен был охранять.
Иногда ему приходила на ум ещё более страшная мысль — а вдруг и Герда не существует. Вдруг он ведёт диалоги с тремя программами, а, отвернувшись, за кулисами, корчит им рожи с чётвёртой — просто более хитрой и умной программой.
Он гнал от себя эту параноидальную мысль, но она время от времени возвращалась. Раньше сетевое общение было особым дополнением к реальной жизни. Никандров помнил, как тогда Сеть заполонили странные дневники и форумы с фотографиями — и все гадали, соответствует ли изображение действительности.
То есть, собеседники представлялись именем и картинкой — среди которых были Сократы и Платоны, эстрадные дивы и актрисы. Нет, были и такие, что ограничивались котятами, собаками, рыбками или просто абстрактной живописью.
Никандрова занимало то, как человек, которого воспринимали более красивым, чем он есть на самом деле, переживает разочарование личной встречи. Казалось, что эта мода должна пройти с появлением дешёвых каналов стереовидения, но нет — актёры и актрисы никуда не делись. Страсть, как говорил дед Никандрова к "лакировке действительности" никуда не делась.
Когда он поделился своим давним недоумением со Стариком, тот ответил, что на его памяти очень много мужчин использовало женские лица и фигуры. Они делали это по разным соображениям — из осознанного и неосознанного маркетинга, и оттого, что так лучше расположить собеседника к себе.
— Есть ещё масса деталей, — сказал тогда Старик, — что не делают этот случай простым. Ведь тогда стало ясно, что личное знакомство является венцом сетевых отношений — так думали много лет, а оказалось, что людям вовсе не нужна реальность и чужое дыхание, чужой запах, тепло и вид. Это тогда казалось, что есть такая проблема самоидентификации в Сети — с множеством стратегий. Это и была большая проблема — большая, как слон.
И вот когда мы ощупывали хвост этого слона, главное было не распространять выводы дальше того, что мы держим в руках.
Например, были разные традиции и группы — иногда доминировал один мотив, а иногда — другой.
Теперь слон исчез — и мы всё равно не можем прикоснуться друг к другу, — закончил Старик. — И вряд ли мы теперь узнаем, что на самом деле. Хороший процессор так синтезирует изображение на экране, шевелит губами в такт и моргает глазами, что мы все решим, что ты — Никандров, обходчик Никандров.
А на самом деле ты — женщина, что спасается от скуки в заброшенной библиотеке…
Буквы всё так же летели через спутник, складываясь в слова и предложения.
Обходчик хотел выучить ещё какой-нибудь язык — например, язык Герды. Это было не очень сложно — много учебников всё ещё лежали в сети.
Впрочем, сайтов в сети становилось всё меньше, но некоторые сервера имели независимые источники энергии — от человечества осталась его история. Терабайты информации, энциклопедии, дневники и жизнь миллиардов людей — он читал рецепты, по которым никогда бы не сумел ничего приготовить, рассказы о путешествиях, которые никогда не смог бы совершить, видел фотографии давно мёртвых красавиц, и их застывшую любовь — он купался в этой истории, и знал, что никогда не сможет проверить, реальны ли его собеседники.
Роман с Гердой развивался — он прошёл свою стремительную фазу, когда они сутками сидели, стуча по клавишам. Теперь они стали спокойнее — к тому же тайна приучила их к осторожности.
Они не боялись потерять собеседников — вдруг боты, когда их раскроют, исчезнут — тут было другое: они просто до конца не были уверены в догадке.
Цепь домыслов, вереница предположений — всё что угодно, но не точный ответ.
Собеседники продолжали рассказывать друг другу истории. Иногда они снова принимались играть в "веришь-не-веришь".
Нужно было стремительно проверить истинность истории, вытащить из бесконечной сети опровержение — или поверить чужой рассказке.
Однажды речь зашла об одиночестве. Доктор подчинил себе военно-картографический спутник и принялся искать следы других людей. Он выкладывал сотни снимков — и ни на одном не было жизни.
Вырастал куст, падала стена заброшенного дома, но человека не было нигде.
Тогда они раз и навсегда договорились о своей смерти — и о том, что если кто-то исчезнет, то остальные не будут гадать и строить предположений.
Обходчик просто согласился с этим — речь о смерти вели Старик и Доктор. Доктор где-то нашёл никому неизвестную цитату. Там, в давно забытой книге, умирающий говорил: "Это не страшно", приподнимался на локте, и его костистое стариковское тело ясно обрисовалось под одеялом. — "Вы знаете, не страшно. Большую и лучшую часть жизни я занимался изучением горных пород. Смерть — лишь переход из мира биологического в мир минералов. Таково преимущество нашей профессии, смерть не отъединяет, а объединяет нас с ней".
Старик, услышав это, негодовал:
— А вы туда же, как смерть с косой?
— Ну почему сразу — как смерть?! Как Духовное Возрождение.
— Ну да. Возрождение. Сначала мёртвой водой, а потом живой. Только про живую воду оптимизма все отчего-то забывают.
— Да, знаете, окропишь мертвой водой-то, оно лежит такое миленькое, тихонькое… Правильное.
— Знаю-знаю. Оттого и говорю с вами опасливо. Хоть я и старенький, пожил, слава Богу, но хочется, чтобы уж не так скоро мне глаза мёртвой водой сбрызнули. Вы говорите, как смертельный Олле Лукойе.
— Старенький в двадцать лет? Быстро у вас течёт время в Поднебесной. Не желаете, значит, духовно возрождаться? Ладно, вычеркиваем из списка.
— Да уж. Я как-нибудь отдельно. Мы с вами лучше о погоде.
— Вы прямо как та женщина на кладбище, что мертвецов боялась. Чего нас бояться?
— А может… Э… Напиться и уснуть, уснуть и видеть сны?..
— Подождите, я подготовлюсь и отвечу. Коротенько, буквально листах на пяти с цитатами и ссылками. Сейчас, только воду вскипячу.
Никандров в этот момент вспомнил, как говорил о смерти его отец.
А говорил он так:
— В детстве меня окружал мир, в котором всё было кодифицировано — например, кто и как может умереть. При каких обстоятельствах и от чего.
Был общий стиль во всём, даже в смерти. Незнание этого стиля делало человека убогим, эта ущербность была сразу видна — вроде неумения настоящим гражданином различать звёзды на погонах. Ты вот знаешь, что такое "различать звёзды на погонах"? Сейчас и погон-то нет.
Ну а то, сынок, что правители страны не умирали, делали бессмертие реальным.
Смерть удивляла.
После эпидемии, подумал Никандров, смерть перестала удивлять кого угодно.
— Как раз одиночество смерти мне отнюдь не неприятно, — сказал Старик. — Смерть отвратительна в людской суете, в вымученных массовых ритуалах и придуманной скорби чужих людей. Но теперь нам легко избежать массовых ритуалов.
— Это вы говорите про посмертие, — возражал Доктор. — А я — про процесс умирания. Тут есть тонкая филологическая грань объяснений — не говоря уж о таинстве клинической смерти. А то, что человек испытывает этот опыт один — великое благо.
— Всё может быть, — соглашался Старик. Мне это кажется неприятным, вам — радостным. Люди — разные. Это, кстати, тоже одна из вещей, которую многие не хотят понимать.
— Нет, я про то и про другое, — настаивал Доктор. — Отвратительно медленное умирание среди людей.
— И снова не про то. Всё равно в какой-то момент, в сам момент перехода, человек остается абсолютно один, потому что это переживание он не может ни с кем разделить. Он получает опыт, которого нет ни у кого из окружающих. И он совершенно одинок в этом опыте.
Обходчик решил не вмешиваться — вмешаться в таком разговоре значило бы раскрыться.
Именно тогда все молчаливо согласились, что исчезать они будут порознь.
Месяц шёл за месяцем — зарядили дожди. Они с Гердой то и дело придумывали каверзные вопросы своим собеседникам и обсуждали, уединившись в правой половине экрана, результат. Убежище любовников нового времени было не в потайных комнатах, не в тёмном коридоре или среди леса — Обходчик и Герда прятались на пространстве, не больше двух ладоней.
Они то и дело спотыкались о фантастическую мысль. Да, единственным способом по-настоящему доказать друг другу свою реальность можно было только встречей.
Реальность остальных их уже не интересовала, но даже между Гердой и Обходчиком лежала зима и тысячи километров неизвестности.
Когда месяц разлуки подходил к концу, сработал сигнал тревоги.
Экраны мигнули, запищал динамик. Обходчик рванулся к замигавшим мониторам (упал и покатился, не разбившись, стакан; керамическая тарелка упала, и, наоборот, разбилась) — тонкий, тревожный звук пел в консервной банке динамика.
Это значило, что чужой пересёк периметр.
Чужой мог быть сумасшедшим роботом охраны — иногда они сбивались с дороги, реагировали на движущуюся цель, но быстро превращались в груду металла, напоровшись на мину.
Роботов придумали давным-давно, они ползали вокруг Кабеля, чтобы отгонять врага — сначала диверсантов с юга, потом — террористов, а потом, потеряв цель существования — нападали на зверьё.
Через камеры дальнего наблюдения Обходчик как-то видел, как робот, тщательно избегая минных полей, загнал кабана к обрыву. А загнав, остановился и деловито порезал кабана боевым лазером на аккуратные тонкие ломти, как колбасу. Потом аккуратно разложил куски в ряд — и уехал.
Последний раз Обходчик видел такого робота года два назад. Тогда Обходчик устроил охоту за этим роботом, гонялся за ним полдня, но так и не сумел взять его целым.
Робот предпочёл взрыв аккумуляторных батарей плену.
Это было разумно — ведь его делали так, чтобы он никогда не приехал на своих резиновых, мягких и ласковых к дёрну, экологических гусеницах, чтобы убивать своих и резать раскалённым лазером обшивку Кабеля.
Тогда Обходчик сильно расстроился и рассказывал своим Собеседникам о роботе-самоубийце с печалью.
Но, роботы перевелись — так что, скорее всего, это была стая волков, двигающаяся с хорошей скоростью. Роботы чуяли мины, и никогда не подходили к станции — а красный кружок на экране пересёк периметр и медленно двигался к запретной зоне.
Прихватив ружьё (память о временах эпидемии, когда палили в воздух по любой птице, подлетающей к жилью), Обходчик вышел в снежную белизну.
Мороз отпустил, и он не стал даже застёгивать куртку.
Редкие снежинки, казалось, висели в воздухе — он поймал одну, пересчитал лучи, исчезающие на ладони.
Нарушение периметра было совсем близко. Скоро Обходчик увидел приближающуюся точку, она была на гребне холма, и только начала спускаться в долину.
Нет, это был не робот — слишком быстро, странный цвет.
Снег ещё не повалил по-настоящему, и Обходчик успел увидеть, как по склону к нему катится древний снегоход розового цвета.
И в этот момент он пересёк границу минных полей.
Резко хлопнуло, затем хлопнуло ещё раз — и перед Обходчиком, как на экране, встал столб огня — небольшой, но удивительно прямой в безветрии.
Пламя почернело, свернулось в клубок и сменилось чёрным масляным дымом.
Обходчик повернулся и на негнущихся ногах пошёл обратно.
Связь заработала через два дня. Вторым письмом было сообщение от неё.
Герда решилась приехать. В каком-то уцелевшем гараже она нашла исправный снегоход — "ты представляешь, вместо розового "Кадиллака" у меня будет розовый снегоход!" — запас батарей в этом транспорте кончался, и нужно было торопиться в путь.
Принцесса ехала к своему рыцарю — история перед тем, как закончиться, кусала себя за хвост.
Обходчик прошёлся по дому и снова сел к экрану.
Собеседники снова расположились в привычном порядке — Старик, Близнецы, Доктор и — Герда. Она по-прежнему стояла посреди прибоя — только теперь молчала.
Все остальные заговорили наперебой.
— Однако, здравствуйте, — напечатал Обходчик привычно им в ответ.
— Доброго времени суток, — первым отозвался Доктор. — Как прожил этот месяц?
— Читал страшные сказки… Северных народов, — выстучал Обходчик и подумал про себя, что когда с ним что-нибудь случится, мир будет по-настоящему совершенным. Он будет законченный, как история, в которую уже нечего добавлять. Рано или поздно он, Обходчик, споткнётся на склоне, заболеет или просто иссохнет на своей кровати. Тогда эти четверо, состоящие из чужих фраз, будут так же обсуждать что-то, перетряхивать электронные библиотеки, меряться ссылками. И медленный стук Обходчика по стёртым западающим клавишам, по крайней мере, не будет тормозить этот мир.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
14 февраля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-02-14)
Я принялся думать о фильме «Пятьдесят оттенков серого», и о том, в частности, что его не даром выкатили в прокат аккуратно ко дню св. Валентина. Спойлер: фильм — говно.
При этом, наши сограждане, состоящие в браке и проживающие друг с другом просто так, уже начали свысока говорить о всяком BDSM, будто побиенине супруга скалкой даёт фору в этом высоком искусстве.
Про искусство я не придумал, про это возмущалась одна тётенька, сертифицированная деятельница движения BDSM, что написала гневную статью.
Руки прочь от высокого искусства порки и унижения, вы, те, кто дажне не знает, что такое стоп-слово!
Ну и всё такое далее.
Это был такой трагический крик во внешний мир.
У неё это было похоже на возмущение английского аристократа, к которому набежали на лужайку у замка американские туристы в шортах.
Или будто возмущение не то повара, не то метрдотеля из романа «Золотой теленок», который хотел всех накормить по высшему классу, как принца Вюртембергского кормил! Старик этот бормотал, что ему и денег не надо, сам добавил шестьдесят рублей из своих сбережений, пришёл на банкет в нафталиновом фраке. «На минуту он убежал в кухню, светски пританцовывая, а когда вернулся назад, неся на блюде какую-то парадную рыбу, то увидел страшную сцену разграбления стола. Это до такой степени не походило на разработанный Иваном Осиповичем церемониал принятия пищи, что он остановился. Англичанин с теннисной талией беззаботно ел хлеб с маслом, а Гейнрих, перегнувшись через стол, вытаскивал пальцами маслину из селедочного рта. На столе все смешалось. Гости, удовлетворявшие первый голод, весело обменивались впечатлениями.
— Это что такое? — спросил старик упавшим голосом.
— Где же суп, папаша? — закричал Гейнрих с набитым ртом.
Иван Осипович ничего не ответил. Он только махнул салфеткой и пошел прочь»
В общем, у настоящих адептов Ордена связывания и доминирования, а также прочего садомазохизма настал чёрный день.
Ну, понятно, что, к примеру, от еды можно получить не меньшее удовольствие, если не знать точного порядка рыбных ножей. У человечества есть зоны, где нет монополии и ценза. В этом месте я обычно рассказывают про старого зека, которого застали за тем, что он дрочил на портрет Ломоносова. Когда ему указали на ошибку, то он справедливо отвечал: «А мне нравится».
Но эффект ажиотажа тут построен на том, что о любовном унижении раньше как-то у нас не говорили. Никогда так не было, и вот — опять, как сказал по другому поводу премьер Черномырдин.
Вот как-то я провёл несколько разговоров о покупках анальных пробок (последняя тема оказалась для меня внове — нет, я как-то видел эти штуковины в интересном кино, но ни разу не видел их в деле). Сочетание «анальная пробка» для меня было чем-то медицинским: «Доктор, срочно! Пациент в третьей операционной! Анальная пробка! Сестра, дефибриллятор, восемь кубиков феназепама!» — ну, как-то так.
Потом я вспомнил про медведей, которые создают себе перед спячкой искусственный запор. Про это как раз я не просто слышал. Я слышал, как по весне в отдалении ходит медведь и вопит, выдавливая эту пробку.
Однако ж я не очень представляю себе мужчину (или женщину) несколько месяцев так истязающих своё тело. Представить себе, что Общество любителей животных покупает эти пробки со стразиками для медведей, я и подавно не могу.
Есенин, и тот: «Я собираю пробки — душу мою затыкать.» Если вспомнить, с чего его стихотворение начинается: «Я уж готов… Я робкий…»
Но это я рассказываю к тому, что, хоть жизнь богаче наших представлений о ней, ничего страшного в этом нет.
Он куда более жеманный, чем не то, что честное порно, а даже унылые «эротические комедии». Его эффект построен на эффектах буржуазного неприличия. То есть пробежек по улице на границе этого приличия и неприличия. Причём всегда на территории трамвайной остановки «не такая».
Извините, если кого обидел.
14 февраля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-02-16)

Kingsman — довольно интересное кино. На отечественный глаз оно ложится таким вариантом «Особо опасен» — тут портные, там ткачи, в обоих случаях призрак мёртвого отца, занимавшегося опасным делом. И тут и там молодой человек из говнища обыденности попадает в секту ассасинов, но понятно, что Вон вовсе не подглядывал за Бекмамбетовым. Гораздо интереснее смотреть, чем отличаются эти ленты, выросшие из одного источника, хоть и из разных комиксов.
Это такой классический фильм о молодом падаване.
Да только самое привлекательное в нём то, что на всякое «читатель ждёт уж рифмы “розы”» раздаётся не «на, возьми её скорей!», а «хуй тебе, а не розы-морозы».
Понятно, что Джеймса Бонда много и с разной успешностью пародировали.
Недаром герои Kingsman, погибая, любят порассуждать, какая киноцитата для этого более подходяща, а если уж заказывают коктейль, то обязательно предупреждают: «хорошо взболтайте».
Но это пародия иного плана — не на самого командора, а на слоган «джентльмен на службе Её величества» (или высочества — со шведской ноткой).
Кстати, очень правильно, что настоящим злодеем должен быть теперь не клонированный нацистами умник и не рвущийся к мировому господству тиран, а именно что компьютерный умник.
Джобс, Гейтс и Цукерберг — им и плюём в кипы.
Мне, правда, кажется, что шутки в нашем переводе стали грубее.
Извините, если кого обидел.
16 февраля 2015
(обратно)
Голем (День Советской армии. 23 февраля) (2015-02-23)

Восстание догорало. Его дым стлался по улицам и стекал к реке, и только шпиль ратуши поднимался над этим жирным облаком. Часы на ратушной башне остановились, и старик с косой печально глядел на город.
Восстание было неудачным, и теперь никто не знал — почему, это был хлеб для историков будущего. Чёрные танки вошли в город с трёх сторон, и битый кирпич под их гусеницами хрустел, как кости.
Капитан Раевский сидел в подвале вторые сутки. Он был десантником, превратившимся в офицера связи.
Раевский мог бы спуститься с остальными в сточный канал, но остальные — это не начальство. Остальные не могли отдать ему приказ, это был чужой народ, лишённый чёткой политической сознательности. Капитан Раевский был офицером Красной Армии, и, кроме ремесла войны, не имел в жизни никакого другого. Он воевал куда более умело, чем те, что ушли по канализационным коллекторам — и именно поэтому остался. Он ждал голоса из-за реки, где окопалась измотанная в боях армия и глядела в прицелы на горящий город.
Приказа не было три дня, а на четвёртый, когда радист вынес радиостанцию во дворик для нового сеанса связи, дом вздрогнул. Мина попала точно в центр двора. От рации остался чёрный осколок эбонитового наушника, а от радиста — куча кровавого тряпья.
Теперь нужно было решать что-то самому. Самому, одному.
До канала было не добраться, и вот он лез глубже и глубже в старый дом, вворачиваясь в щели, как червяк, подёргиваясь и подтягивая ноги.
Грохот наверху утихал.
Сначала перестали прилетать самолёты, потом по городу перестала работать дальнобойная артиллерия — чёрные боялись задеть своих.
Но разрывы приближались — видимо, чтобы экономить силы и не проверять каждую комнату, чёрные взрывали дом за домом.
У Раевского был английский «стен», сработанный в подпольных мастерских из куска водопроводной трубы. Он так и повторял про себя — водопроводная труба, грубый металл, дурацкая машинка — но к «стену» было два магазина, и этого могло хватить на короткий бой. Застрелиться из него, правда, было бы неудобно.
И вот Раевский начал обследовать подвал. На Торговой улице дома были построены десять раз начерно, и на каждом фундаменте стоял не дом, а капустный кочан — поверх склада строился магазин, а потом всё это превращалось в жильё. Прошлой ночью он нашёл дыру вниз, откуда слышался звук льющейся воды — но это было без толку — там, среди древних камней, могла течь вода из разбитого бомбами водопровода или сочиться тонкий ручеёк древних источников.
Так на его родине вода текла под слоем камней, и её можно было услышать, но нельзя пить.
И теперь воды у него не было. Вода кончилась ещё вчера.
И вот он искал хоть что-то, чтобы не сойти с ума. Раевский начинал воевать у другой реки, и сидя два года назад в таком же разбитом доме, понял, что жажда выгонит его под пули.
Жить хотелось, но воды хотелось больше. Это было то, что называлось жажда жизни, и Раевский, выросший у большой реки посреди Сибири, знал, что без воды ему смерть. Он боялся жажды, как татарина из своего давнего кошмара.
Про татарина ему рассказала старая цыганка, сидевшая на рельсах с мёртвым ребёнком на руках.
— Тебя убьёт татарин, — сказала цыганка Раевскому, когда он остановился перед ней на неизвестном полустанке с чайником в руке.
— Тебя убьёт татарин, — сказала цыганка. Один глаз у неё был закрыт бельмом величиной с куриное яйцо, а другой, размером с пуговицу, смотрел в сторону. Она сказала это и плюнула в мёртвый рот младенца. Тогда младенец открыл глаза и улыбнулся.
После этого цыганка потеряла к Раевскому интерес.
Эшелон тронулся, и Раевский, слушая, как в ухо стучат колёса, ругался до вечера на глупую старуху. Он видел настоящего татарина только раз — когда в детстве оказался с отцом на Волге.
Детство не кончалось, и мальчику не было дела до службы отца. Отец, когда их пароход, шлёпая колёсами, подвалил к неизвестной пристани, сошёл, чтобы передать кому-то бумагу, важную и денежную.
Мальчик ёжился на весеннем ветру, вода стояла серым весенним зеркалом, и протяжно выл над городом муэдзин.
Едва отец отлучился, как из толпы на дебаркадере выпрыгнул татарчонок, сорвал с Раевского шапку, нахлобучил на него свою тюбетейку и побежал. Кто-то свистнул, захохотал дробно, а сердобольная баба сказала:
— У них праздник. Надо было бы побежать тебе, догнать — это ведь игра, мальчик. А теперь с чужой шапкой, что с чужой судьбой будешь жить.
Но догонять было уже некого и бежать некуда.
Раевский долго вспоминал потом детскую обиду. Помнил он и предсказание цыганки, гнал его от себя — правда, с тех пор не брал татар в свою группу.
Он никому не рассказывал об этой истории, потому что солдаты не должны знать о слабости своего командира, особенно, если это командир Красной Армии. В марте он столкнулся с татарами, что служили в эсэсовском полку. Он дрался с ними в лесах Западной Белоруссии — где мусульманский полк обложил партизан. Группу Раевского выбросили туда с парашютом, и через час она уже вела бой. Пули глухо били в сосны, и последний мартовский снег сыпался с ветвей на чёрные шинели. Раевский прожил там три дня, и все три дня был покрыт смертным потом, противным и липким, несмотря на холод мартовского леса. Когда на третий день пуля вошла к нему в плечо, он решил, что жизнь пресеклась. Смерть его была — татарин в той самой чёрной эсэсовской шинели.
Татарин без лица мерещился ему несколько раз, но всегда превращался в усталую фигуру медсестры или своих бойцов, которые тащили его на себе. Всё это прошло, а теперь жизнь кончалась по-настоящему, хотя ни одного татарина рядом и не было. Нет, он знал, что среди чёрных людей, что медленно сейчас сжимают кольцо, есть и Первый Восточно-мусульманский полк СС, но вероятность встречи с татарином без лица считал ничтожной.
Он полз по соединяющимся подвалам, шепча простые татарские слова, которых в русском языке то ли пять, то ли целая сотня.
Так он попал в соседнее помещение, где нашёл множество истлевшей одежды, горы мышиного помёта и гниль, вывалившуюся из трухлявых сундуков.
Разбитые сосуды были похожи на рассыпанные по полу морские раковины.
Раевский видел старинные книги, слипшиеся в плотные кирпичи. Бесполезная ржавая сабля звякнула у него под ногой. Но он нашёл главное — в опрокинувшемся шкафу Раевский обнаружил бутылку вина. Он тут же вскрыл её медным ключом, найденным на полке. Вино оказалось сладким, как варенье, и склеило гортань. Раевский забылся и не сразу услышал голос.
Голос был сырым — как старый горшок в подполе.
Голос был глух и пах глиной.
Голос уговаривал не спать, потому что мало осталось времени. Раевский понимал, что это бред, но на всякий случай подтянул к себе ствол, сделанный из водопроводной трубы.
Это был не бред, это был кошмар, в котором над ним снова склонился татарин без лица.
— Кто ты? Кто ты? — выдохнул лежащий на полу.
— Холем… — дохнул сыростью склонившийся над Раевским. И начал говорить:
— Меня зовут Холем или просто Хольм. Немцы часто экономят гласные, а Иегуди Бен-Равади долго жил среди немцев.
Это был хитрый и умный человек — ходили слухи, что он продал из календаря субботу, потому что она казалась ему ненужным днём. Часто он посылал своего кота воровать еду, и все видели, как чёрный кот Иегуди Бен-Равади бежит по улице с серебряным подносом.
Один глаз Бен-Равади был величиной с куриное яйцо и беспокойно смотрел по сторонам, а другой, размером в пуговицу от рубашки, — повёрнут внутрь. Говорили, что этим вторым глазом Бен-Равади может разглядывать оборотную сторону Луны, а на ночь он кладёт его в стакан с водой.
Именно он слепил моё тело из красной глины и призвал защищать жителей города, потому что во мне нет крови и мяса. Во мне нет жалости и сострадания, я равнодушен, как шторм, и безжалостен, как удар молнии. Но я ничто без пентаграммы, вложенной в мои уста книжником Бен-Равади.
Раз в двадцать лет я обходил дозором город.
Но однажды началось наводнение, и река залила весь нижний город до самой Торговой улицы. Ночные горшки плыли по улицам стаями, как утки, в бродячем цирке утонул слон, и вот тогда вода размочила мои губы. Пентаграмма выпала, и я стал засыпать. Теперь пентаграмма греется в твоей руке, я чувствую её силу, но уже не слышу шагов моего народа. Нет его на земле. Некому помочь мне, я потерял свой народ.
Раевский сжал в руке ключ с пятиугольной пластиной на конце.
— Да, это она, — Холем говорил бесстрастно и тихо — Ключ ко мне есть, но мне некого больше охранять. Жители города превратились в глину и дым, а я не смог их спасти. А теперь скажи: чего ты хочешь? Скажи мне, чего ты хочешь?
Раевский дышал глиняной влагой и думал, что хочет жить. Он хотел пить, но знал, что это не главное. Нет, ещё он, конечно, хотел смерти всем чёрным людям в коротких сапогах, что приближаются сейчас к дому. Он хотел смерти врагу, но больше всего он хотел жить.
Капитан Раевский воевал всю свою осознанную жизнь и был равнодушен к жизни мирной. Много лет он выжигал из себя человеческие слабости, но до конца их выжечь невозможно. Хирургического напряжения войны хватало на многое, но не на всё. Жить для того, чтобы защищать — вот это годилось, это вщёлкивалось в его сознание, как прямой магазин «стен-гана» в его корпус.
Рубиновая звезда легла в глиняную руку, а человеческая рука сжала медную табличку.
Двое обнялись, и Раевский почувствовал, как холодеют его плечи и как нагревается тело Холема. Тепло плавно текло из одного тела в другое, пока глиняный человек читал заклинания.
И вот они, завершая ритуал, зажали в зубах каждый свой талисман.
Чёрные люди, стуча сапогами по ломаному камню, в это время миновали старое кладбище, где могилы росли, как белая плоская трава. Они обогнули горящую общину могильщиков и вошли во двор последнего уцелевшего дома на Торговой улице.
Последнее, что видел Раевский, застывая, был Холем, идущий по двору навстречу к людям в чёрных мундирах. Когда кончились патроны, Холем отшвырнул ненужный автомат и убил ещё нескольких руками, пока взрыв не разметал его в стороны.
Но Раевский уже не дышал и спал беспокойным глиняным сном.
В этих снах мешались ледоход на огромной реке и маленькая лаборатория, уставленная ретортами. Иегуди Бен-Равади поднимал его за плечи и вынимал из формы, словно песочный детский хлебец. Сон был упруг, как рыба, скользил между пальцев, и вот уже глиняный человек видел, как его создатель пьёт спитой чай вместе со старухой в пёстрой шали. Нищие в этом сне проходили, стуча пустыми кружками, по улице, один конец которой упирался в русскую тайгу, а другой — в Судетские горы. Глиняный человек спал, надёжно укрытый подвальной пылью и гнилым тряпьём, спасённый своим двойником и ставший с ним одним целым. Он спал, окружённый бутылями с селитрой и углём, не ставшими порохом, а вокруг лежали старинные книги, в которых все буквы от безделья перемешались и убежали на другие страницы.
Он проснулся через двадцать лет от смутного беспокойства. Он снова слышал лязг танковых гусениц и крики толпы.
Глиняный человек начал подниматься и упёрся головой в потолок. Он увидел, что оконце давно замуровано, но подвал ничуть не изменился. Ему пришлось сломать две стены, чтобы выбраться на свет. Миновав двор со странной скульптурой из шаров и палок, он выбрался на улицу. Глиняный человек не узнавал города, он не узнавал людей, сразу кинувшихся от него врассыпную. Но он узнал их гимнастёрки, погоны и звёзды на пилотках.
Он узнал звёзды на боевых машинах, что разворачивались рядом, и, ещё не понимая ничего, протянул к ним руки.
Глиняный человек стоял в пустоте всего минуту, и летний ветер выдувал из него сон. Но в этот момент танк старшего сержанта Нигматуллина ударил его в бок гусеницей. Медный пятиугольный ключ выскочил изо рта, и глиняное время остановилось.
Глиняный человек склонился, медленно превращаясь в прах, осыпаясь сухим дождём на булыжник. Он обмахнул взглядом людей и улицы, успевая понять, что умирает среди своих, свой среди своих, защищая свой город от своих же… Всё спуталось, наконец.
Глину подхватил порыв августовского ветра, поднял в воздух и понёс красной пыльной тучей над крышами.
Туча накрыла город пыльной пеленой, и всё замерло. Только старик на городских часах одобрительно кивал головой. Старик держал в руках косу и очень обижался, когда его, крестьянина, называли Смертью.
Какая тут смерть, думал старик, когда мы просто возвращаемся в глину, соединяясь с другими, меняясь с кем-то судьбами, как шапками на татарском празднике.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
23 февраля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-02-23)
Холодно у нас — оттого Пётр отрёкся бы быстрее. Так говорил Шкловский.
23 февраля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-02-27)
Есть в мире искусства очень интересный мотив — пожирание биографий обстоятельствами.
Биографии должны быть проданы.
Дело тут не только в деньгах, просто всякий продукт, и искусство в том числе, должен быть
потреблён. А для того, чтобы он был потреблён, потребитель должен им заинтересоваться.
И вот история с математиком Тьюрингом — не исключение.
То, что Тьюринг был пидорасом начинает убивать Тьюринга-математика — оказывается совершенно естественным. Это, конечно, обидно, но это так.
То сеть, в массовом сознании это обстоятельство пожирает красоту всех его математических построений и прочие его мысли. Причём, как у гомофобов, так и у гомофилов.
Никто не может перестать думать о белой обезьяне.
Нет, в отдалённом будущем фантастичтической Земли, когда уже не то что эллинов с иудеями не будет, но и все запутаются в собственной половой принадлежности, всё будет иначе. Но тогда и об этом фильме забудут.
И слово «пидорас» будут только помнить археологи-граффитчики.
А пока это так. И аргумент «фильм про А был хороший, а фильм В — плохой, потому что там не было консультантов» не работает. Во-первых, и на фильме про А были консультанты (без них теперь ничего не бывает — даже фильм «Батальонъ» имел довольно много консультантов), во-вторых, есть точка общественного спроса. В неё сводятся биографии — например, Распутин вовсе не был такой ебливый, но точка спроса фокусируется именно на его ебливости, и — вуаля! — вот он, в бесчисленных книгах и фильмах. И все будут смотреть и ныне, и присно, и вовеки, как это он был еблив.
Тут вот как раз и возникает основной вопрос искусства о связи с жизнью. Например, мы смотрим биографическую картину о красавице. В жизни она не была красавицей — и тут вопрос: что нам нравится — красавица или биография. То есть, вынь биографическое начало, что изменится? Хуже станет или лучше? Понятно, что
всякий продюсер скажет: знаменитость делает сборы, а помимо сборов трава не расти. Но мы-то зрители, исследователи объекта. И часто мы видим, что происходит «нечестная игра» нам предлагают не интерпретацию реальности, а историю, что украла у реальности стартовый капитал.
Вот есть такая история про физика Гамова.
Физик Гамов был сперва советским физиком, но потом не вернулся из заграничной командировки.
Однако он давно хотел убежать (дело происходило ещё до войны), и вот однажды, вместе с женой, попытался уплыть в Турцию на байдарке. Ничего не вышло. Но знаменитый физик Гамов (он тогда уже был знаменитым) притворился, что их унесло в море и эта попытка ему сошла с рук.
Беда этой байдарки только в том, что в массовой культуре она съедает всего последующего Гамова — его работу, непростую историю с недопущением его к Манхеттенскому проекту, с реальными успехами и недоданной нобелевкой.
Всё пожирает байдарка, волна Чёрного моря и молодая жена.
Хуй Распутина перевешивает его самого — и бульк! Всё это сооружение падает в Мойку.
Писатели… Проблема писателей и их биографий в точности такая же, как у физиков. Самое сложное показать —
каким прекрасным писателем является Некто — не читать же за кадром его роман. То есть, предполагается некоторое величие, и всё. Оттого фильм про Толстого похож на фильм про Уальда.
В этом смысле фильм про кровожадного полководца или политика всегда выигрышнее, чем фильм о человеке вегетарианской учёной жизни.
Масскульт он такой.
Извините, если кого обидел.
27 февраля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-03-02)
Газеты нам пишут, что «Прокурор Новосибирской области Евгений Овчинников признал оскорбительной для верующих постановку оперы Рихарда Вагнера “Тангейзер” и призвал организовать её обсуждение». Обнаружил вослед этим новостям легко узнаваемую цитату из классики:
«…Вернувшись в первую комнату и подойдя к аппарату, он сумел переменить цилиндр.
Тут ему пришла в голову мысль, что, без сомнения, только благодаря этому изобретению удалось сохранить язык и он так мало изменился за двести лет. Взятый наудачу цилиндр заиграл какую-то музыкальную фантазию. Начало мелодии было прекрасно, но потом она стала чересчур чувствительной.
Грэхэм узнал историю Тангейзера в несколько изменённом виде. Музыка была ему незнакома, но слова звучали убедительно, хотя и попадались непонятные места. Тангейзер отправился не в Венусберг, а в Город Наслаждений. Что это за город? Без сомнения, создание пылкой фантазии какого-нибудь писателя.
Тем не менее Грэхэм слушал с любопытством. Но вскоре сентиментальная история перестала ему нравиться, а потом показалась даже неприятной.
Там не было ни воображения, ни идеализации — одна фотографическая реальность. Будет с него этого Венусберга двадцать второго столетия! Он забыл роль, какую сыграл в искусстве девятнадцатого столетия прототип этой пьесы, и дал волю своему неудовольствию. Он поднялся, раздосадованный: ему было как-то неловко, хотя он слушал эту вещь в одиночестве. Он злобно толкнул аппарат, пытаясь остановить музыку.
Что-то треснуло. Вспыхнула фиолетовая искра; по его руке пробежал ток, и аппарат замолк. Когда на следующий день Грэхэм попробовал вынуть цилиндры с Тангейзером и заменить их новыми, аппарат оказался испорченным…»
Извините, если кого обидел.
02 марта 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-03-04)
Узнал, что у доброго моего товарища, что долго и серьёзно занимается спортом, была судорога. Судорога — это какое-то особенное пугало моего детства, и, кажется, из-за одного рассказа Джека Лондона. Там, один герой, сомневаясь в любви своей жены, проверял её — притворился, что вовремя купания в океане у него судорога и он тонет. Ну, а она его самоотверженно спасала, после чего он устыдился и полюбил её ещё больше. У того же Джека Лондона был совет образца полуторавековой давности воткнуть себе в ногу в таких случаях булавку.
Но я не об этом. Потом появилось такое выражение «сладкая судорога». Разница между этими словами примерно такая же, как между «милостивый государь» и «государь император». Потому что всякий может забить эту «сладкую судорогу» в гугль и посмотреть, что выйдет. Особенно в поиске по книгам — там уж такие судороги, что только держись. Он обнял её всю, её губы были везде — и всё такое.
Я как-то на одном форуме читал вопрос от человека, у которого были судороги во время секса (правда, там имела место какая-то камасутра), и там ему уж насоветовали, так насоветовали.
И не только про то, что калия у него не хватает или там, магния, а про технику безопасности.
Скажем, про обезвоженность, типа «решив заняться сексом, поставьте рядом бутылку с водой. Или трахайтесь в реке». Понятно, что из реки пить небезопасно. Да и то, в горной реке-то есть шанс вовсе недотрахаться. Кончить не успеешь.
А так-то опасное это дело, будто горный поход. Смотри в оба, особенно после нынешнего увлечения разными оттенками и прочими разнообразящими жизнь предметами.
Вот иные экспериментируют по мелочи — любят музыку и ароматические свечи. Но тут и засада — поди, займись этим под песни группы «На-на» (если кто помнит, что это такое — а ведь кто-то помнит, и я знавал уездных мессалин, что практиковали), а так же свечи с удушливым клубничным ароматом.
Был у меня в молодости случай… Но нет, прочь, память, прочь.
И это всё были русские женщины. Комсомолки. Да, тогда с комсомолками мутили только комсомольцы, а не такие же комсомолки. Эксперименты, впрочем, ограничивались свечами.
Потом все посмотрели «Девять с половиной недель» и стали мазать друг друга дефицитным мёдом и вишнёвым вареньем, и капали друг на друга парафином и понеслось.
Некоторые начинают в таких случаях бормотать об извращениях, но тут сам вопрос нормы под вопросом. Это ведь вопрос к оптике наблюдателя — как в тех картинках, что нам рисовали в учебниках физики про теорию относительности: поезд с человечками в вагоне и другими, вылупившимися на него с насыпи. С какой стороны смотришь, с той и правда.
Впрочем, это всё такой спусковой крючок для воспоминаний.
Сладких судорог воспоминаний.
Извините, если кого обидел.
04 марта 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-03-05)

День полон размышлений о здоровом молодом консерватизме.
Консерватор должен сохранять сиюминутную картину.
В противном случае он не консерватор, а реставратор.
Опять же, консерватор должен ратовать за бритьё подмышек, потому что ныне так сложилось, а реставратор выступать за небритьё оных.
Ну а акселератор-прогрессист за полную отмену подмышек.
Извините, если кого обидел.
05 марта 2015
(обратно)
Партизаны (Женский день. 8 марта) (2015-03-06)
Город Янев лежал перед ними, занимая всю огромную долину. Стёкла небоскрёбов вспыхивали на солнце, медленно, как жуки, ползли крохотные автомобили. Снег исчезал ещё на подступах к зданиям — казалось, это дневной костёр догорает среди белых склонов.
Армия повстанцев затаилась на гребне сопок, тихо урчали моторы снегоходов, всхрапывали тягловые и ездовые коровы, запряжённые в сани.
Они пришли из развалин Инёва, со стороны болот. Камни, камни. Валуны. Болота. Спящее море тайги.
Мужики перекуривали сладко и бережно, знали, что эта самокрутка для кого-то станет последней.
Издали прошло по рядам волнение, народный вождь Василий Кожин махнул рукой, это движение повторили другие командиры, отдавая команду своим отрядам, и вот теперь волной, повинуясь ей, взревели моторы, скрипнули по снегу полозья — повстанцы начали спуск.
— Бать, а бать! А, а кто строил город? — спросил Ванятка, мальчик в драном широком армяке поверх куртки.
— Мы и строили, — отвечал его отец Алексей Голиков, кутаясь в старую каторжную шинель с красными отворотами. — Мы, вот этими самыми руками.
— А теперь, Ляксей Иваныч, этими руками и посчитаем. За всё, за всё посчитаем — вмешался в разговоры белорус Шурка, высокий, с больной грудью, парень, сидевший на санях сзади. Прижав к груди автомат «Таймыр», он, не переставая говорить, зорко всматривался в дорогу. — Счастье наше ими украдено, работа непосильная — на кухнях да в клонаторах, сколько выстояно штрафных молитв в храмах Римской Матери? Сколько мы перемыли да надоили, напололи да накашеварили… А сколько шпал уложили — сколько наших братьев в оранжевых жилетах и сейчас спины гнут.
Мимо них, обгоняя, прошла череда снегоходов, облепленных мужиками соседних трудовых зон и рабочих лагерей.
— Видишь, сынок, первый раз ты с нами на настоящее дело идёшь. И день ведь такой примечательный. Помнишь, много лет назад бабы замучили двух товарищей наших, седобородых мудрецов — Кларова и Цеткина. Утопили их в Ювенальном канале, и с тех пор всё наше мужское племя чтит их гибель. Бабы, чтобы нас запутать, даже календарь на две недели сдвинули, специальным указом такой-то Римской Матери. Поэтому-то мы сейчас и его празднуем, в марте, а не двадцать третьего февраля.
Ну, да ничего. Будет теперь им, кровососам, женский день заместо нашего, мужского. Попомним, как они календарь поменяли и сдвинули всё на две недели — всё-всё, от Нового года, до престольных праздников, и наш мужской день превратился в их, женский.
А ещё, сынок, кабы не их закон о клонировании, так был бы тебе братик Петя, да сестричка Серёжа. А так что: мы с Александром только тебя и смастерили, да…
Близились пропускные посты женской столицы. Несколько мужиков вырвались вперёд и подорвали себя на блокпосту. Золотыми шарами лопнули они, а звук дошёл до Ванятки только секунду спустя. Потом закутаются в чёрное их невесты, потекут слёзы по их небритым щекам, утрут тайком слезу заскорузлой мужской рукой их матери.
Дело началось.
Пока не опомнились жительницы города, нужно было прорваться к серому куполу Клонария и захватить клонаторы-синтезаторы. Тогда в землянках инёвских лесов, из лесной влаги и опилок, человечьих соплей и чистого воздуха соткутся тысячи новых борцов за мужицкое дело.
С гиканьем и свистом помчались по улицам самые бесстрашные, рубя растерявшихся жительниц женского города и отвлекая, тем самым, удар на себя.
Но женское племя уже опомнилось, заговорили пулемёты, завизжали под пулями коровы, сбрасывая седоков.
Минуты решали всё — и мужчины, спрыгнув с саней, стали огнём прикрывать тех, кто рвался ко входу в Клонарий.
Вот последний рубеж, вот он вход, вот Женский батальон смерти уж уничтожил первых смельчаков, но на охранниц навалилась вторая волна нападавших, смяла их, и завизжали женщины под лыжами снегоходов. Огромные кованые ворота распахнулись, увешанные виноградными гроздьями мужицких тел.
Погнали наши городских.
Побежали по парадной лестнице, уворачиваясь от бабских пуль, в антикварной пыли от битой золочёной штукатурки.
Топорами рубили шланги, выдирали с мясом кабели — разберутся потом, наладят в срок, докумекают, приладят.
Время дорого — сейчас каждая секунда на счету.
К Клонарию стягивались регулярные правительственные войска, уже пали выставленные часовые, уже запели в воздухе пули, защёлкали по мраморным лестницам, уже покатились арбузами отбитые головы статуй.
— Ляксей Иваныч, — скорей, — торопил ваниного отца сосед, но сам вдруг осел, забулькал кровавыми пузырями, затих. Попятнала его грудь смертельная помада.
— Не дрейфь, ребята, — крикнул Алексей Иванович, — о сынке моём позаботьтесь, да о жене кареглазой! А я вас прикрою!
И спрыгнул с саней, держа ствол наперевес.
Застучал его пулемёт, повалились снопами чёрные мундиры, смешались девичьи косы правительственной гвардии с талым мартовским снегом и алой кровью.
И гордо звучала песня про голубой платок, что подарила пулемётчику, прощаясь, любимая. Но вдруг раздался взрыв, и затих голос. Повис без сил Ваня на руках старших товарищей, видя из разгоняющихся саней, как удаляется безжизненное тело отца-героя.
Поредевший караван тянулся к Инёвской долине в сгущающихся сумерках.
Подъехал к ваниным саням сам Василий Кожин, умерил прыть своей коровы, сказал слово:
— А маме твоей, Александру Евгеньевичу, так и скажем: за правое дело муж её погиб, за наше, за мужицкое! Вечная ему память, а нам — слава. И частичка его крови на нашем знамени. Вынесем под ним всё, проложим широкую и ясную дорогу крепкими мужскими грудями. А бабы-то попомнят этот женский день.
Ванятке хотелось заплакать, уткнуться в колени маме. Там, в этих мускулистых коленях была сила и крепость настоящей мужской семьи. Как встретит мама Шура их из похода? Как заголосит, забьётся в плаче, комкая подол старенькой ситцевой юбки… Или просто осядет молча, зажав свой чёрный ус в зубах, прикусив его в бессильной скорби?
Но плакать он не мог — он же был мужчина. И десять клонаторов-синтезаторов, что продавливали пластиковые днища саней, чьи бока светились в закатных сумерках — это было мужское дело. Ваня, оглядываясь, смотрел на своих товарищей и их добычу.
Для них это были не странные приборы, не бездушный металл.
Это были тысячи и тысячи новых солдат революции.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
06 марта 2015
(обратно)
Общество мёртвых поэтов (Всемирный день мира для писателя. 3 марта) (2015-03-09)

Ещё ночью лейтенант услышал сквозь обшивку лёгкий треск и понял, что это отходит от бортов последний лёд.
Это означало, что дрейф заканчивается, но сил для радости уже не хватило.
Лейтенант снова заснул, но ему снился не тот сон, что часто приходил к нему среди льдов. Там ему снилась деревенская церковь, куда его, барчука, привела мать. В церкви было тепло, дрожало пламя свечей, и святые ласково смотрели на него сверху. Он помнил слова одного путешественника, что к холоду нельзя привыкнуть, и поэтому все полтора года путешествия приходил в этот сон, чтобы погреться у церковных свечей.
Но теперь ему снился ледяной мир, который он только что покинул, и бесшумное движение таинственных существ под твёрдой поверхностью океана. Лейтенант всегда пытался заговорить с ними, но ни разу ему не было ответа. Только тени двигались под белой скорлупой.
Сейчас ему казалось, что эти существа прощаются с ним.
К полудню «Великомученик св. Евстафий» стал на ровный киль.
Корабль стал лёгок, как сухой лист.
За два года странствия многие внутренние переборки были сожжены.
Огню было предано всё, что могло гореть и греть экипаж. Но теперь запас истончился и пропал, как и сам лёд, окружавший его.
Северный полюс не был достигнут, но они остались живы.
Неудача была расплатой за возвращённое тепло, и мученик-наставник печально смотрел с иконы в разорённой кают-компании.
Теперь вокруг них лежал Атлантический океан, серый и безмятежный. Матросы уже не ходили, а ползали по палубе. Они сами были похожи на тени неизвестных арктических богов, загадочных существ, что остались подо льдами высоких широт.
Они подняли паруса и начали самостоятельное движение на юг.
В этот момент лейтенант пожалел, что отпустил штурмана на Большую землю. Полгода назад штурман Блок и ещё девять человек ушли по льдам в направлении Земли Франца-Иосифа, чтобы искать помощи.
Но это было объяснение для матросов — на помощь лейтенант не надеялся.
Он надеялся на то, что хотя бы эти десять человек выживут, и вернутся в большой мир, где снег и лёд исчезают весной.
И в этот мир тепла и травы попадёт так же сундучок, который взял с собой штурман.
В сундучке были отчёты и рапорты морскому министерству, письма родным и две коробки с фотопластинками.
— Ничего, поэты всегда выживают, — сказал штурман в ответ на немой вопрос лейтенанта.
Штурман действительно пописывал стихи и даже напечатал пару из них в каком-то по виду роскошном журнале. Стихи лейтенанту не понравились, но он не стал расстраивать штурмана. Он взял под козырёк, наблюдая, как десять человек растворяются в снежном безмолвии. Собак уже не осталось, и они волочили сани с провизией сами.
Но это было полгода назад, а сейчас, стоя на палубе, лейтенант пожалел, что отпустил штурмана.
Океан лежал перед ним, как лужа ртути.
Ещё несколько дней, и они окажутся на торговых путях, где из Старого Света в Новый движутся огромные плавучие города.
В этот момент прямо по курсу на неподвижной поверхности возник бурун.
Лейтенант сперва решил, что это кит, но бурун тут же вырос в стальной пень над гладкой поверхностью океана. Лейтенант видел такие в кронштадской гавани — железные рыбы, обученные плавать под водой. «У них есть радио… Или там радиотелеграф, это ведь тоже сгодится», — успел подумать он.
Но в этот момент от железной рыбы отделилась пенная струя.
Радиостанция на подводной лодке действительно была — мощный «Телефункен», радиусом действия в сто сорок миль.
Но командир лодки старался им пользоваться пореже, соблюдая скрытность. Это бесило штабных связистов, но внезапно оказалось, что капитан угадал то, что не мог никто предвидеть.
Он будто предчувствовал, что русские поднимут сигнальную книгу с ушедшего на дно крейсера «Магдебург». Теперь и русские, и англичане свободно читали секретные радиограммы, а вот радиограмм с этой лодки не читал никто.
Их не было.
Но у капитана и без целеуказания был особый нюх — он появлялся именно там, где англичане пытались прорвать блокаду.
Будто сказочный волк, он потрошил беззащитных овец, ничуть не боясь их вооружённых пастухов.
Как-то раз он расстрелял как в тире целый конвой — четыре корабля. А потом снова растворился в холодном тумане Атлантики.
Начальство не любило его за излишнюю самостоятельность. Подчинённые, впрочем, подчинялись: как дети — отцу.
Даже в штабе его звали «Папаша Мартин». У капитана было много имён — Мартин Фридрих Густав Эмиль… Но у всех них было много имён — штурмана звали Райнер-Мария, лейтенанта, ответственного за пуск торпед — Георг Теодор Франц Артур, а врача — Готтфрид Фриц Иоганн.
Готтфрид был сыном лютеранского пастора, и оттого — к обычному цинизму военного врача примешивался особый фатализм.
Во время подзарядки батарей они наблюдали грозовой фронт.
Райнер в очередной раз рассказал, как в прежней жизни он летал бомбить Лондон.
Райнер прежде летал на «цеппелинах», но по странному желанию и чьей-то протекции перевёлся на флот.
Тогда тоже была гроза, и Райнер вдруг увидел, что вся гондола озаряется тусклым голубым светом.
Раньше он никогда не видел такого: стволы пулемётов горели голубым пламенем, вокруг голов экипажа сияли нимбы, будто на иконах. Огни святого Эльма сияли повсюду, а «Цеппелин» шёл через чёрное облако, волоча за собой мерцающий хвост.
Когда Райнер решил уточнить координаты, то циркуль ударил его током. Разряды электричества кусали экипаж, как пчёлы, защищающие улей.
Но самое страшное было впереди — дирижабль шёл прямо на грозовое облако, и вот стена из молний поглотила его.
— Знаете, господин капитан, — задумчиво сказал Райнер, — если бы в ту минуту хоть один мотор отказал бы… Но вам понятно. Корпус стонал, я никогда не думал, что он может издавать такие звуки. Нас спасло чудо — ведь над головой у нас водород, и одна только вспышка…
Слушая его, капитан понял, отчего в голове у штурмана воздушная война мешается с войной на море.
Накануне они сидели за крохотным офицерским столом, и капитан меланхолично спросил:
— Райнер, скажите, милый, отчего вы пошли на флот? Это ведь ошибка романтиков — сидеть в стальном гробу, обоняя немытые тела экипажа. Вы же летали на «Цеппелине» — птица смерти, огонь с небес и всё такое.
Штурман пожал плечами. Он и сам думал об этом. Последнее время «цеппелины», бомбившие Лондон, шли над облаками, чтобы их не замечали английские прожектора.
Только один наблюдатель висел внизу на длинном тросе. Это было очень поэтично — он один, как ангел смерти, летел бы под облаком, откуда сыпались бомбы. Огненные цветы прорастали между домов — как в последние времена.
Но штурман, помолчав, сказал правду:
— Я хотел увидеть чудовищ.
— Чудовищ?
— Да. Среди волн, у полярных льдов живут древние боги. И главный из них — гигантский осьминог, которому чужды сострадание и любовь. Я хотел бы заглянуть ему в глаза.
— Боюсь, вам, Райнер, недолго бы пришлось смотреть в глаза такому существу.
— Наш век вообще недолог. Вспомните, как охотно нам дают прибавки к жалованию — они знают, что немногие вернутся. Нас выдают бурун от перископа и пузырьки воздуха от торпед. У нас в любой момент могут встать насосы, и вода останется в балластных цистернах навсегда. По сравнению со смертью в железном гробу, визит к божественному осьминогу — чистое счастье.
— Я бы на вашем месте, Райнер, всё-таки предпочёл бы «Цеппелины», — капитан встал и полез по узкому коридору в рубку.
И вот перед ними возникло судно, похожее на «Летучего голландца».
Изрядно потрёпанное, оно двигалось прямо на них.
Новый «Летучий голландец» шёл под парусом.
Капитан вжал лицо в гуттаперчевую маску перископа — и в этот момент ветер распахнул перед ним полосатый трёхцветный флаг.
— Это русские, — с удивлением выдохнул он.
На мостике стоял русский офицер в военной фуражке — папаша Мартин чётко видел его лицо сквозь цейссовское стекло. Он вспомнил, что те моряки, что успевали посмотреть в глаза капитану «Летучего Голландца», получали шанс на жизнь.
Нужно было выслать досмотровую группу, снять экипаж, прежде чем уничтожить судно — но за спиной папаши Мартина разворачивался британский флот. Большой королевский Флот шептал ему в ухо скороговорку смерти, будто судья зачитывал приговор.
Час или два — и армада придёт к нему. Так она пришла за U-29, и британский линкор, не сделав ни единого выстрела, подмял под себя лодку Веддингена, отправив на дно двадцать восемь небритых и ошалевших от недостатка воздуха моряков. Папаша Мартин знал, что Веддинген уже потопил четыре английских крейсера, но счёт по головам хорош для штабов.
Для временно живых счёт иной.
Папаша Мартин нарушил молчание:
— Готовить торпеды!
Две лампочки моргнули и загорелись ровным зелёным огнём.
— Подготовиться к пуску!
— Носовые аппараты готовы к пуску, господин капитан.
Лейтенант откинул колпачок, закрывающий кнопку выстрела первой торпеды, и положил на неё палец. Время было вязким, как техническое масло, но ждать знамения было нечего. Рука с жертвенным ножом была занесена над агнцем, но Бог не появился. Через минуту лодка выплюнула стальной цилиндр диаметром в полметра. И через тридцать секунд в пятистах метрах перед лодкой встал фонтан воды и обломков.
— Вторая не понадобится, — сказал рядом штурман.
Папаша Мартин заложил циркуляцию: лодка кружила вокруг добычи, будто волк вокруг раненого зверя.
Однако всё было понятно и так.
Никто не выплыл — на воде болталось лишь несколько досок.
Ночью они всплыли для подзарядки аккумуляторов. В отсеках уже слышался едкий запах хлора, и Готтфрид хлопотал над двумя отравившимися матросами.
Капитан курил, держась за леера рубки.
— Скажите, милый Райнер, насколько поэтичны русские?
— Я был на Волге… — Один мой товарищ отвёл меня к хорошему поэту — он, кстати, тоже моряк. Штурман, да. Когда погиб «Титаник», то мы прочитали об этом в газетах. Вокруг были русские леса, деревья занесены снегом до макушек. Великая река стала, и по мёртвой твёрдой воде мужики в тулупах ехали на своих косматых лошадках… Чёрт, я не об этом.
Где-то вдалеке от нас гигантский корабль исчез под водой и люди умирали, покрываясь коркой льда. И тогда этот русский моряк… «Жив океан», — сказал этот русский. В том смысле, что стихия превыше железных городов на воде.
— Он действительно поэт, этот штурман. А поэты всегда выживают.
— Наверняка, — ответил Райнер. — Тем более, что он полярный штурман, а они не воюют.
Лодка надышалась сырым воздухом и ушла в глубину.
А ночью, поворочавшись на своей койке, папаша Мартин снова пришёл на свидание к Богу.
Бог был печален.
— Я хочу служить тебе. Мои руки в крови, но иначе не переустроить мир. Да, враги умирают, но иначе не возродится великая поэзия рыцарства. Филистеры уже победили поэзию, но есть ещё шанс вернуться. Да это страшно, но ведь ты этого хотел. Я всё сделал правильно.
Бог молчал, и это было тяжелее всего.
— Это был враг, мы воюем с ними уже полгода.
В последний момент, когда сон уже рвался на части, расползаясь, как ледяное поле, дошедшее до тёплого течения, он обернулся.
— Нет, нет, — я вовсе не это имел в виду, сказал Бог.
Рядом с ним стоял русский в фуражке.
Русский сказал, глядя в сторону: «Среди рогов оленя ему явился образ распятого Спасителя. Спаситель поднял глаза и сказал: «Зачем преследуешь ты Меня, желающего твоего спасения?» Вернувшись с охоты домой, он крестился вместе со своей женой и сыновьями, с коими был разлучён. Скот его пал, а слуги расточились. Он воевал, был увенчан лаврами, а отказавшись поклоняться прежним богам, брошен был зверям, но звери не тронули его.
И тогда бросили их в раскалённого медного быка, но и после смерти тела их остались неповреждёнными».
Папаша Мартин представил себе зверей, отчего-то похожих на белых медведей, и быка, что был прямой противоположностью арктическому холоду.
Сначала он думал, что русский, говорит о своём небесном патроне, но оказалось, что он говорит о своём корабле.
Жалкий, истрёпанный долгим плаванием, корабль исчез в столбе огня и воды, и поэтического в этом было мало.
Русский не был врагом, но он стал жертвой, сгорев внутри медного истукана войны. Мартин ещё раз подумал о том, что стал орудием, которое ввергло в огонь любившего льды и снег русского медведя. Но Бог не хотел этого, он хотел чего-то другого. А теперь Бог молчал и не объяснял ничего.
— Рыцарская война закончилась, когда изобрели пулемёт, — сказал как-то за столом Райнер.
— Нет, рыцарская война закончилась, когда изобрели арбалет. Когда простолюдин с этой штукой из дерева и воловьих жил получил возможность убивать на расстоянии.
Мы теряем честь, которая понималась как арете, будто античная добродетель. Раньше мы могли потерять только вместе с жизнью, а в век электричества честь исчезла. Остались еда, кров и достаток.
— Женщины не умирают, спасаясь от изнасилования, а бросаются навстречу блуду, — спорил с ним папаша Мартин.
— Но и война иная, капитан. Воюют насильно призванные, а не рыцари. Некому крикнуть «Монжуа» во время кавалерийской атаки. Обороняющиеся сидят не в крепостях, а в жидкой окопной грязи — храбрости нет, а есть статистическое выживание.
Иприт не выбирает между трусом и смельчаком.
Маркитант важнее солдата.
И вместо мгновений ужаса и бесстрашия перед нами месяцы постоянной опасности.
Смерть возвращает поэзию в жизнь, потому что жизнь убыстряется.
Вера теснится наукой, бессмертие кажется достижимым с помощью растворов и гальванических проводов.
Райнер посмотрел на командира печально:
— Только уже софисты учили арете за мзду — это давно покупная доблесть. Мы хотим переустроить мир и внести в него суровую поэзию веры, но человеческая природа берёт своё. Измазавшись в крови, мы пытаемся придумать новое слово для нового мира, а мир всё тот же — и за морем в муках рожают детей, и мечтают не о поэзии, а о сытости и здоровье потомков.
Новый мир оказывается не менее кровожадным, чем старый.
Ночью капитан снова пришёл к Богу. Бог был не один, с ним был старый кантор капеллы святого Фомы в своём ветхом парике.
Они оба смотрели на капитана Мартина.
— Я привык драться, — сказал капитан. — Ты сам хотел обновления мира во имя Твоё. В яростном пожаре вернутся времена рыцарства. Начнётся новый мир, обновлённый, как после Потопа. Вместо воды, мир будет очищен огнём.
Бог заговорил, впервые за много дней.
— Я вовсе не этого хотел, — сказал Бог медленно, будто поворачивая верньер перископа.
— А что, что Ты хотел?
Но не было капитану ответа, только плотный и угрюмый воздух подводной лодки укрывал его лицо смрадным покрывалом.
«Мы сами стали Левиафаном. Мы научились разбираться в сортах смерти и выбирать наилучший. Мы теряем что-то важное, исполняя высшую волю, а надежды на успех всё нет», — успел он подумать, прежде чем забылся кратким волчьим сном.
Морской волк ещё несколько дней бродил в поисках добычи.
Однако водное пространство оставалось пустым, как чисто вымытый стол.
Наконец, на третий день поиска, папаша Мартин увидел в перископ гигантский лайнер. Судя по всему, он шёл на юг — в колонии.
Капитан подводной лодки всмотрелся в цепочки иллюминаторов — экипаж был беспечен и ничуть не соблюдал маскировки, и несколько горящих окошек делали цель лёгкой.
Папаша Мартин всматривался в силуэт корабля и, даже прежде, чем включилось особое зрение, Оскар выдохнул.
Там, в веренице круглых окошек, Оскар безошибочно угадал человека, о котором говорил старый кантор.
Пассажир в этот момент проснулся. Он совершал своё путешествие кружным путём, в обход войны.
Его давно ждали на берегу тёплой реки, где стоял основанный им госпиталь.
Там он давно начал лечить рахитичных детей и раненых на охоте туземцев.
Одинокого путника считали богом или посланцем бога, что пришёл врачевать их народ, лишённый письменности.
Теперь он мечтал забыть европейское безумие и после тяжёлого дня, наполненного чужими болезнями, касаться белых и чёрных клавиш.
Но в этот момент пассажир почувствовал, как в недрах фортепиано, что покоилось в трюме, лопнула струна. Он давно научился чувствовать такие звуки — а этому фортепьяно предстояло совершить долгий путь в сердце Африки.
Пассажир сел на койке, бессмысленно озираясь.
Он и сам не знал, что хотел увидеть во мраке каюты.
Пассажир чувствовал мерную дрожь машины где-то там, внизу, в угольном и масляном нутре корабля.
Но он чувствовал, как смерть ходила совсем рядом, кругами.
Он физически ощущал её присутствие.
Пассажир вздохнул, и вдруг вместо молитвы в его голове всплыло старое стихотворение.
Смерть была рядом, и тело его покрылось липким последним потом. Он, было, решил, что это сбоит сердце — всё-таки он был врач. Но нет, смерть была вовне — среди холодной воды.
Он читал это стихотворение, что сочинил в свой первый приезд в Африку. Про то, как заходит солнце над озёрами и звери прячутся в норы. Про то, как умолкают птицы, потому что природа умирает. Но человеку ещё рано умирать, и он надеется на новый восход и рассказывает об этом своей женщине.
Но женщины, привычные к жизни в больших городах, редко верят в африканские пейзажи.
Они просто плачут, чтобы скрыть свою растерянность.
И как только он дочитал последнюю строчку, его отпустило.
Страх ушёл, смерть отступила
Она растворилась в стылой воде Атлантики.
Папаша Мартин курил на палубе после отменённой ночной атаки.
Они были опять одни — поэты, брошенные в море и живущие в чреве железной рыбы-левиафана.
Не было вокруг никого. Только в вышине над ними плыли небесные рыбы, внутри которых ждали своего часа бомбы.
Длинные сигары дирижаблей шли над ними, ощетинившись пулемётами, и несли смертный груз спящим городам.
Райнер манипулировал секстаном, угольки плохого табака из капитанской трубки мешались со звёздами.
— Знаете, Райнер, — сказал вдруг капитан. — Когда кончится война, я оставлю флот.
— Понимаю вас, капитан, — безразлично ответил штурман, — после этой войны мы все переменимся. Не убеждён, кстати, что я сумею писать стихи после этой войны.
— Кто знает. Каждый может написать хотя бы одно стихотворение, даже я. Даже я, — и в этот момент капитан решил, что Бог по-прежнему может рассчитывать на него.
— Написать может каждый, но останутся ли слушатели?
— Наверняка. Не может же смерть придти за всеми сразу.
— Она может придти постепенно, и мир изменится. Он всегда изменяется постепенно, но всегда в рифму.
Про себя Райнер подумал: «Он мог бы стать священником. Да, точно, у него повадки доброго патера. Только это будет странный священник»
Над носом лодки взошла Венера, похожая на гигантскую звезду.
«Об этом тоже можно написать стихотворение. Мы забыты на земле, и только ход небесных тел напоминает нам о… О чём-то он нам напоминает… Впрочем, все стихи напоминают нам о любви», — рассудил штурман. — «Но эту тему лучше оставить кому-то другому».
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
09 марта 2015
(обратно)
История про порнографические открытия (2015-03-11)
Эпоха великих порнографических открытий
В. Ерофеев. Записные книжки.
Со времени великих порнографических открытий прошло уже довольно много времени.
Об этом можно говорить с некоторой ностальгией.
А тогда, в конце восьмидесятых призрак бродил по России, одет был призрак в сетчатые чулочки, и более не было на нём ничего.
Коммерческие издательства, так тогда и говорили: «коммерческие издательства», выпускали эротические романы. Появился тогда на прилавках «Любовник Леди Чаттерлей» и сочинения маркиза де Сада. В переводе первого, что был сделан Татьяной Лещенко ещё в двадцатые, через страницу проскальзывало: «он обнажил перёд своего тела». Кажется, спустя лет шестьдесят просто перепечатали издание «Петрополиса» 1932 года со всеми ошибками, когда наборщик никак не может решить, какой орфографии придерживаться — старой или новой. Яти рыскали по страницам.
Эратоманы приникали к «Жюстине» и гадали о смысле выражения «и мерзкий монах воскурил свой фимиам». Анатомия героев де Сада была поразительна, топологические свойства их тел настолько трудны для восприятия (в этом переводе), что могли использоваться вместо ночного счёта овец.
Появился на прилавках и Казанова, печальный изобретатель государственных лотерей, обидчивый больной старик, раздражённо пытающийся доказать, что он был способен на что-то еще, кроме совращения девиц.
Что интересно, первым изданием, с восторгом раскупавшимся людьми, считавшими свои рубли лихорадочно, сбиваясь, не отводя горячих глаз от названия, был Фрейд.
Тонкий, хорошо скатывающийся в сексуальный предмет, сборник, снабжённый маленьким окошком, в которое выглядывал кусочек репродукции Климта — вот каково было первое издание Фрейда.
Я сочувствовал людям, накинувшимся на него — среди них были и честные домохозяйки и продавцы помидоров. Им сказали, что Фрейд — «про это». И вот они напоминали пионера, задумавшего собрать звёздолет и для проверки своих знаний раскрывшего «Курс теоретической физики» Ландау и Лифшица. В этом труде единственные русские слова между вереницами формул — «очевидно, что:», с обязательным двоеточием на конце.
Вечернее чтение Фрейда восстанавливало равновесие души и снимало напряжение.
Была и книга с загадочным названием «Ну и что ты будешь делать, когда заполучил меня сейчас?». Правда, по домам ещё лежали распечатки с алфавитно-цифровых устройств, где неровные буквы складывались в знаменитую книгу Кинессы «Брак под микроскопом», загадку авторства которой предстоит разгадать будущим поколениям. А пока возбуждённые соотечественники бормотали как мантру: «Ласкун — Лебедь — Балун — Балда — Малыш — Принц — Король — Голован — Слон».
При этом миллионы людей совершенно серьёзно считали всё это порнографией.
Самое удивительное, что отечественная порнография действительно существовала. До этих смутных времён она продавалась слепоглухонемыми и безногими на вокзалах.
Её производили те же фотографы, что работали на секретных заводах.
Изображение на карточках, что веером кидали на плацкартную полку, было похоже на оборонную деталь, снятую с установленных ракурсов и затемнённую — для большей таинственности.
Описания техники секса пришли оттуда же: «Подойдя к станку, проверьте себя на наличие спецодежды и выступающих концов, переведите рычаг в верхнее положение, остерегайтесь раскрутки ключа в шпинделе…».
А потом задул ветер перемен, и все взволновались, стало не до порнографических открытий. Люди занялись прочими открытиями и вообще вели себя дурно. Лишь изредка узнавая, что мир порнографии всеобъемлющ и велик, она идёт за человечеством неистребимая, как неистребимо желание, необходимая, как скорая помощь и вечная, как магнитосфера Земли.
Ведь это так необходимо, когда приходит весна — отворяй ворота.
Извините, если кого обидел.
11 марта 2015
(обратно)
История про образец стиля (2015-03-11)
Надо сказать, что в русской ментальности происходит путаница между порнографией (в смысле текстов и книг) и порнокинематографией (фильмами). Разница, меж тем, велика, и бытование этих индустрий совершенно различно.
Не говоря уж о том, что между ними стёрта всякая грань.
У каждого своя цепочка ошибок. Меня, к примеру, Советская власть приучила меня к тому, что «Барбарелла» — непристойный фильм, практически порнография. С этим знанием я прожил много лет, а потом, в начале девяностых посмотрел-таки «Барбареллу».
Но дело в том, что порностудии очень часто снимают дорогие костюмные фильмы «по мотивам» блокбастеров. И вот увидел я не исходный фильм с Джейн Фондой, а настоящее порно, считая его оригиналом. «Прав был парторг, стриптиз — отвратное зрелище», как говорилось в одном советском анекдоте.
Но вот книжная порнография, оставшаяся как бы в тени кинематографической, продолжает жить и развиваться.
Один из лучших образцов стиля, предвестника нового русского языка, я наблюдал в одной странной книге. Её много лет назад подарил мне мой товарищ, что торговал тогда книгами в метро, и вот, принёс в Калитниковские бани образцы продукции. Впечатление от неё было ошеломляющее.
Оказалось, что большая часть этих книг — натуральные порнографические романы, размноженные чуть ли не на гектографе.
Был среди них, например, некий Марк Ренуар с книгой «Валенсия». Почему так она называлась неизвестно, ни одной женщины по имени Валенсия мы там не обнаружили, но слог (сразу же, на первой странице) поражал: «парочки довольно скромно любезничали, пользуясь полусумраками».
Полусумраки — вот было открытие стиля.
Вокруг порнографии, впрочем, уже вырос целый язык — не в последнюю очередь за счёт того, что её переводили автоматическими переводчиками. Как-то я прочитал в одном переводном рассказе чудесный диалог между героями: «Что случилось? — спросил я» — «Не притворяйся глухим», — сказала она. — «Дай мне кредит на ломку льда между нами».
По-моему, абсолютно гениальный диалог.
Это также пространство для фрейдистских ослышек — помню, как мне пришёл порноспам (в нём были заголовки порнороликов). Когда я прочитал очередной, то восхитился: «Электрик жарит яичницу». Я прямо порадовался за этих людей, но что-то меня остановило, и я прочитал строчку снова. Там всё же было написано «Электрик жарит посетительницу». (Тут неловкая ошибка — потому что, скорее всего, электрик — сам посетитель, но это уже не так важно).
Много лет спустя (если продолжить тему стиля и языка), прогрессивная общественность защищала писателя Сорокина, которого ретрограды обвиняли в порнографии.
Тогда мне прислали текст первой экспертизы, где написано, что у Сорокина нет порнографии.
Это было впечатляющее чтение: «В рассказе «Свободный урок» где завуч демонстрирует гениталии школьнику, эта сцена призвана пародийно подчеркнуть неисчерпаемость природы, невозможность ограничить процесс её познания какими-то рамками, в том числе и школьными».
Писал всё это человек в общем-то известный — Б. В. Соколов, доктор филологических наук. Ещё там было: «Также использование ненормативной лексики в рассказах относится исключительно к речи персонажей и призвано передать особенности реального разговорного языка».
Я тогда вспомнил отчего-то цитату из того самого порнографического романа, что читал в бане: «Когда я узнал, что недавно открытый в нашем городе центр охраны детского здоровья используется как место для съемок детской порнографии, я сразу же записался туда работать на общественных началах».
Извините, если кого обидел.
11 марта 2015
(обратно)
История про порнографические дискуссии (2015-03-12)
Я как-то слушал
очень странный разговор философов о порнографии, но всё забывал записать свою мысль — удивительное впечатление создаётся, когда интеллигентные люди начинают с учёным видом рассуждать о каких-то простых и интересных массам вещах.
Причём от прочтения этого текста, вернее беседы о порнографии создаётся впечатление, что никто из участвующих в разговоре никогда не дрочил.
Нет, я вовсе не против научного анализа всех окружающих вещей, более того, меня особо не пугает, когда какой-нибудь учёный человек вдруг возникнет передо мной и произнесёт слово «дискурс». Ну или там погрозит пальцем и скажет «дизъюнкция смыслов» — нормальное дело.
Я его, если что, его шведским ключом могу приложить.
Не заржавеет.
Другое дело, что есть какие-то темы, с которыми выходит довольно смешно. То есть, если люди понимающие мало в таких темах, начинают рассуждать, придумывать какие-то объяснения и всё такое.
Причём в темах, связанных с пороком, учёные люди обычно озираются, оглядываются друг на друга, подхихикивают и вообще неловко держат свой научный инструмент.
Это не только с порнографией так, с каким-нибудь алкоголизмом ровно то же самое — только в этом случае чаще находится человек, который не понаслышке знает что такое «шило» или там изучил вопрос с абсентом.
Я действительно не хочу обижать учёных людей. Они ведь при этом жутко целомудренные. Там один говорит о фильме Энди Уорхолла «Blow Job», который на русский можно было бы перевести как… (тут он запинается), и второй ему подсказывает «Оральный
секс»!..
Но порнография для эстетических философов вроде как двадцать восемь панфиловцев и русский мороз для немцев — как только её начинают обсуждать, так густеет смазка, ломается механизм, и философы лежат в снегу реальности, как караси в сметане.
Потому что хоть порнография сопутствует человечеству всегда, но до сих пор никто не знает, что это такое.
И, чтобы два раза не вставать, скажу: там всё же прикольный диалог, хоть философы путают, когда снят фильм «Народ против Ларри Флинта», придумали теорию про то, что порноаниме вытесняет игровое порно, а так же рассказывают, что феминистки говорят: «Обратите внимание, сколько мы можем назвать порнозвезд-женщин? Мы одну-две назовем, я думаю. И сколько мы знаем порнозвезд-мужчин?» — и тут же показывают, что сами никого не могут привести — «И, в принципе, мало кто нам скажет. Может быть, самую классику, и то очень тяжело вспомнить».
Это безумно сложно — найти людей, которые могут сказать что-то дельное по такому вопросу.
И не вина этих философов, и не вина редакции — для хорошей беседы о порнографии нужны такие люди, что:
а) были бы в теме физиологии и психологии
б) были бы в теме порноиндустрии
в) были бы в теме социологических и юридических обстоятельств и понимали действующие законы.
г) и главное, обладали бы чувством юмора.
Потому, кстати, так смешны многочисленные гуру сексологии, что они свою примитивную, в общем-то еблю в клубах, пытаются выдать за что-то пафосное. Собственно, юмор и позволяет удержаться в некоей золотой середине (как и в случае с самой порнографией — и тотальная цензура не хороша, и повсеместные сиськи радовать не будут).
Но так если бы нашлась такая компания, можно было бы сделать хороший бестселлер.
Со всеми оттенками.
Я бы при такой битве почитал за счастие быть хоть прапорщиком.
Извините, если кого обидел.
12 марта 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-03-12)

Москва и её общественная жизнь довольно быстро обрастает какой-то мифологией. Вот, к примеру, понятно, что в Москве было два начальника — Собянин и Капков. Никаких других начальников москвичи вовсе не знали. Что не Собянин, то Капков. Что не Капков, то Собянин.
Меж тем, по мелким приметам окружающего мира можно многое узнать — вот говорим «Капков», значит «парки». Говорим «парки», значит «Капков».
Я, как-то летом, выходя из станции «Воробьёвы горы» увидел напротив, на склоне этих гор два мешка картошки, вернее, две сетки. Подойдя ближе, я понял, что это вовсе не памятник путешествиям на картошку, а именно гигантские стальные сетки с какими-то камнями. Потом их обрастили какой-то мочалой, и вышел памятник усам пролетарского писателя. Ведь это был ЦПКиО им. Горького.
Ну, парк. А в парках — Капков. Капков — он такой. Не Собянин.
У него — парки.
А вчера выхожу и — бац! — никаких усов нет.
Значит, сняли Капкова.
Будет всё, как при бабушке, как сказал собравшимся один молодой человек, которого все пришли поздравить с удачным выбором шарфа.
Извините, если кого обидел.
12 марта 2015
(обратно)
История про первое порно (2015-03-13)
Тринадцать лет. Кино в Рязани,
Тапер с жестокою душой,
И на заштопанном экране
Страданья женщины чужой
Константин Симонов
Заговорили о порнографии, и оказалось, что всякий помнит своё первое порно. Есть у мужчин, по крайней мере у мужчин, такое сентиментальное чувство, схожее с первой любовью и ностальгией по школе.
Как-то мы с друзьями обсуждали порнографию нашей юности, что так нас тогда впечатляла. И всякий согласился с тем, что хотел бы её пересмотреть — мы помнили лица этих женщин, они казались нам неземными существами. Одно слово — жрицы, они были жрицы и вообще существа потустороннего мира.
Сейчас нам было плевать на качество, и на что сейчас техника шагнула вперёд — это была первая любовь.
А теперь это мир машинерии и автоматического перевода, который продирается к нам через разные спамерские рассылки: «Миниатюрный малыш берет шляпу в задницу после этого её подруга делает поездку в Рим. Эти леденцы ели шоколадные отверстия друг друга так неистово …однако, определенно была одна вещь, что они отсутствовали — и что вещью был большой мясистый донг! К счастью, довольно скоро парень присоединился к их компании и проклятье… Этот распутник заслуживает всей зависти в мире! Птенцы сразу сходили с ума, когда он появился перед ними! Они пошли, унося его прут, укладывание в мешки чая его шары, облизывая его — и, конечно, он не пропускал возможность танцевать немного с шоколадкой также!»…
Или вот чудесная аннотация к фильму: «Как Охотник говорит, что он имеет двух горячих детей осла в его наличности места и готовый для хорошенький много что-либо. Как только я добрался там, дверь была открыта но не было никого, чтобы быть найденным. Так я сделал некоторое исследование, которое подняло ступеньки меня и в спальне. Оценка от всей одежды на этаже, я знал, чтобы проверить ванную. Конечно Охотник был в бадье покрыл в пузырях и детях. Kayla и Сиена и их огромные простаки и зрелые ослы были уверенной наличностью на сегодня. Двойная акция минета побудила это, только, чтобы быть завершенным некоторой горячей отвратительной верховой ездой петуха. Когда вся забава в бадье была сделана, это является временем, чтобы возглавить обратно к кровати. Уйма pussy облизывания и глубоких горловых минетов, чтобы пойти вокруг. Я люблю, как зрелые женщины не имеют никаких верхов вида, когда это прибывает в пол. Они знают, что они хотят и как трудно они хотят это. Хорошее дерьмо здесь. Насладитесь».
В давние годы мы ездили в поход в Крым, и в поездах происходило тоже самое — но без слов глухонемые подкладывали нам на полки мутные чёрно-белые приветы из иного мира.
Без слов, правда.
Глухонемые, надо сказать, сначала по-библейски разбрасывали фотографии, а потом собирали их. Одна фотография, неудачно брошенная, осталась у нас — групповой снимок ансамбля АББА.
Дрочить ещё никто не умел, и мы просто разглядывали её с вожделением.
Мы были пионерами, преданными Родине, партии, коммунизму и готовились стать комсомольцами, равнялись на героев борьбы и труда, чтили память погибших борцов и готовились стать защитниками Отечества, были лучшими в учебе, труде и спорте, честными и верными товарищами, всегда смело стоящими за правду, вожатыми октябрят и друзьями пионерам и детям трудящихся всех стран. Это было очень утомительно, а уставши, толком не подрочишь.
А теперь однажды под Новый год по телевизору показывали «Греческую смоковницу», фильм под который не дрочил в своё время только бесчувственный комсорг.
Ну, может, Ходорковский не дрочил — и с тех пор пошёл по кривой дорожке.
Я сейчас удивляюсь — какое непритязательное говно, ан всех тогда перепахало. Мой товарищ чуть не выкинул видак с кассетой в окно, когда у него свет погас — было известно, что менты сначала вырубают свет на щитке, что на лестничной клетке, чтобы никто не смог вынуть кассету, а потом вламываются в квартиру с обыском. Впрочем, всяк рассказывает эту историю с перегоревшими пробками про своего приятеля.
Добрый мой товарищ, писатель Пронин, как-то зашёлся от зависти, когда узнал, что нашей компании первое порно выдал драматург Шатров. Драматург так ещё подмигнул, что мы сразу всё поняли, мы за этот миг-под-мигивания прожили целую жизнь, мы повзрослели и начали бриться, начали смотреть на мир с иронией, держать спину прямо, — и всё прежде, чем взяли в руки этот свёрток, этот пакетик с кассетой.
Кстати, там внутри была довольно известная дама Amber Lynn.
Писатель Пронин стал, правда, стесняться, и, вспоминая имена погасших звёзд, причитал: «А вдруг люди подумают, что я это всё смотрю?!»
Я решил его успокоить и сказал:
— Брат, я научу тебя, как надо говорить. Действительно, люди злы и нетерпимы, но их легко обмануть.
К примеру, вслушайся в слова: «Я люблю порнуху» и «Я люблю винтажное порно».
Это вроде как «Потёртая куртка» и «Потёртая кожаная куртка». Достаточно использовать слово «винтаж» (это слово короче, чем «винтажное», и произносить его легче). Его удобно произнести даже если ты привёл в дом женщину и вдруг понял, что на прошлой неделе кто-то наблевал на кухне, а ты не вытер.
Писатель Пронин тут же понимающе закивал, и я, ободряя его, сказал, что теперь всё у нас пойдёт на лад, мы все начнём с завтрашнего дня жизнь набело и увидим ещё многое, пока почувствуем холод и лёд в руке, опустившейся нам на плечо. Ничего не бойся: за серыми всегда приходят чёрные, за чёрными приходят красные, за красными приходят голубые, и переходит ветер с востока к северу, а потом переходит на круги своя.
Нужно знать немногое: если ты признаешься в том, что посмотрел «Горячие попки — 6», тебя смешают с грязью. А вот если ты признаешься в любви к Брижитт Лайе, и выкажешь знание того, что сейчас она бодро работает на радио, если ты намекнёшь на то, что предпочитаешь фильмы «Альфа Франс» новому немецкому стилю — ты уберёшь всех на раз.
Люди презирают порок чистый и искренний, но склоняются перед пороком утончённым.
Мир жесток, и люди — козлы.
Да.
Извините, если кого обидел.
13 марта 2015
(обратно)
История про порнографов (2015-03-14)
Как-то в разговорах всплыла история про то, как Ларри Флинт попросить у американского правительства денег. Собственно, история эта — старая, да ещё и не один Ларри Флинт просил.
Но, так или иначе, в 2008 году порнографы попросили у правительства США пять миллиардов долларов. Они говорили, что если правительство поддерживает разную индустрию в кризис, то и порноиндустрию не грех тоже поддержать.
Очень интересна мотивация самой просьбы порномагнатов. То есть, они, конечно, объясняли, что нынче трудная година для честного американца, что ему дрочить и дрочить, чтобы не повеситься от финансовой тоски и кредитных обязательств (они, правда, объясняли это в более мягкой форме), но мне было интересно, как именно пострадал порнобизнес — наиболее прочная основа наиболее безопасного секса. У меня такое впечатление, что он страдает (действительно страдает) не из-за кризиса, а по двум причинам:
а) стремительного пиратского копирования
б) натиска любительского порно, потому как HD аппаратура сейчас стала доступна.
Есть традиционный рынок порнопродукции, который было воспрял с появлением Интернета, и который испытывает удары от пиратов. Но одновременно есть параллельный оборот домашнего порно (его продукция, конечно, тоже утекает в Сеть, и ей торгуют. Не только в Сети, но и в сексшопах — типа «Пять часов домашних съёмок).
В этом круговороте домашнего порно свои мотивации — герои вовсе не хотят состояться профессионально в этом жанре, их не очень интересуют деньги, там есть мотив обмена видео между парами, как у свингеров, есть мотив «вот как мы можем», мемориальный мотив, etc. В любительском порно, разумеется, не собирают снимать масштабные костюмированные фильмы и ххх-версии известных фильмов, как в «большом порно». Но оно ширится и обслуживает очень важное ожидание рынка — эффект присутствия. Здесь и теперь, это происходит тут, на расстоянии вытянутой руки. (Профессиональный рынок быстро спохватился и начал это имитировать, но угнаться за миллионами у него не очень пока выходит).
Есть люди, которым важны уорхолловские «пятнадцать минут славы», есть просто взломанные видео и фото, а вот есть субкультура особого рода — я встречал американцев, которые обмениваются home porno, потому что не решаются на свингерские вечеринки. И даже от этого в груди у них будто перфоратор стучит.
Тт дело в том, что мы пребываем в точке общественного развития, в которой отношение к порнографии переживает стремительные превращения — был период конца шестидесятых, когда были такие же изменения, и вот настала новая точка бифуркации.
Нормальное дело.
Я не изображаю человека, кругозор которого в данном вопросе ограничивался рассматриванием Лены Берковой на записи монитора Дом-2. Как я уже признавался, я всем надоел со своей любимой темой и сравнительным анализом Бриджитт Лайе и Клары Морган.
Кстати, чтобы два раза не вставать, я скажу про порноактрис.
Общество очень возбуждается от порноактрис, когда они открывают рот, чтобы сказать что-то не о работе. Это ведь информационный повод — Дайана Райдер сказала что-то о бозоне Хиггса. Лесли Зен протестует простив насилия в Сирии.
То есть, настоящий информационный повод всегда парадокс — милиционер подрабатывает няней в детском саду. Боксёр вышивает крестиком. Говорящая порноактриса — хороший сюжет для программы новостей перед прогнозом погоды.
Ишь, разговаривает.
Обычно в этом месте упоминают Сашу Грей, и она очень хорошая иллюстрация того, как плодятся мифы. Она имеет несколько профессиональных премий — но надо понимать, что премии типа AVN Awards очень хитрые: там за сотню номинаций, и они как медали собачьей выставки — никто не уйдёт обиженным. Она играет в музыкальной группе. Но тут как бы тоже не Джон Леннон. Наконец, она знает слово «экзистенциализм». Но довольно много интересных женщин его знают.
И как-то оказывается, что слова Саши Грей заурядны. Ну она не глупа, но неглупых женщин достаточно — и лишь междисциплинарный эффект делает Сашу Грей информационным поводом.
Мы имеем дело с очень давней моделью поведения, которая в семидесятые годы прошлого века формулировалась как «Лучший бард среди физиков, лучший физик среди бардов». Это общественный миф о том, что междисциплинарность может искупать несостоятельность узкого специалиста.
Это отрыжка того обывательского мировоззрения, которое норовит встрепенуться от мысли: «Как, они ещё и разговаривают?».
А не надо суетиться — ничего фантастического не случилось. Чудес не бывает — бывают совпадения, когда профессия широка и расплывчата. Как журналистика, внутри которой кого хочешь найдёшь. Интереснее другое — через лет десять-пятнадцать всё то, что мы сейчас считаем порно, будет нормальным элементом кино. Груз обыденности падёт на все эти письки и пиписьки. Adult-фильмы будут идти в прайм-тайм. Запретное сместится в какую-то другую сферу.
Таких актрис много: к примеру, Клара Морган вполне себе и работает телеведущей, и занимается бизнесом, и выпускает музыкальные альбомы. Правда, боюсь, на «Калине» она ни разу не ездила.
С Сашей Грей, видимо, цепочка обстоятельств упирается в то, что имя «Саша» близко русскому уху.
Что-то в нём лицейское.
Техничных актрис много.
«Техничная» — это именно «техничная». В отличие от драматической актрисы, которая может удовлетвориться вживанием в образ по системе Станиславского, к порноактрисе, помимо, собственно, игры в мизансцене (унылая ебля без игры осталась в видеосалонах восьмидесятых), предъявляются и другие требования: не просто привлекательность, но и физические (физкультурные) данные, пластика, движение, умение работать с хуем, то есть примеряться к партнеру или партнёрам, (а это при DP, к примеру, не так уж просто), не выглядеть комично с прибором за щекой, выносливость и многое другое.
Антипримером, кстати, может служить наша соотечественница Лена Беркова.
Есть десятки дев былых времён — типа Брижит Лае, которая сейчас на радио и постарше меня лет на десять, но плёнка её помнит. Есть возрастные актрисы в жанре MILF — типа Джулии Энн в штатах, есть Дилан Райдер и Лесли Зен, есть совсем молодая поросль… Дело в том, что порноиндустрия обслуживает абсолютно всё, только звёзды характерных ролей «дряблые старушки», или, к примеру «лучший бондаж и копрофагия» живут как-то отдельно, не о них речь.
Но, главное, понимать, что отечественная порноиндустрия — суть то же, что ё-мобиль, йотафон и автомобиль «Москвич». Хотя и в зарубежной бывают автомобили типа «Трабант», но уж в отечественной точно нет ничего больше.
Грань между актрисами и порноактрисами, всегда несколько зыбкая, окончательно исчезнет. Исчезнет и удивление от причудливых слов в их устах.
Ну а барда Туриянского некоторые до сих пор любят.
А уж как его, любили раньше, его, автора строк:
Во дни разлук и горестных сомнений,
как нам писал из Франции Тургенев.
Не надо слез и горьких сожалений,
она уехала с другим купаться в Крым.
Я в это время по тайге, как аллигатор,
несу громадный щелочной аккумулятор.
В груди молотит, словно перфоратор,
но я молчу и напеваю про себя:
Белый прибой. И купол неба голубой-голубой.
Кто-то другой ей наливает «Цинандали».
Твердой рукой он бутерброд ей мажет черной икрой
и нежно поет ей это дивное танго.
Я даже посетил его концерт году в 1990-м.
Осмотрел говорящего человека с гитарой. Говорил он много, почти не пел.
Да и слава Богу.
Извините, если кого обидел.
14 марта 2015
(обратно)
История о групповом сексе (2015-03-15)
Собственно, темы разговоров у взрослых людей чрезвычайно ограничены и они выезжают в основном на их сочетаниях. «Ожидались народные гуляния и казни. Потом решили объединить» — отчего же не объединить? Мифология наготы у разных народов. Женское и мужское обрезание — миф или суровая необходимость? Развод в исламе — что унести с собой? Свальный грех — высшая точка русской соборности или санитарно-гигиеническое перепихивание?
Тем не менее иногда между людьми могут произойти интересные разговоры, если они ведутся тем, кто перешагнул некоторый возрастной барьер. То есть, тема тревожит, но жеребячьего смеха не вызывает.
Особенно хороши в таких разговорах красивые женщины, познавшие что-то такое, чему присутствующие не были свидетелями.
Но, ближе к делу: во-первых, свальный грех связан с большей ответственностью — риски растут в геометрической прогрессии (от потенциальных психологических травм в семье до боязни показаться смешным со своим животиком, что ещё вчера казался жене таким милым).
Во-вторых, срабатывает чувство собственности — причём оно бодрит в самый первый момент, а вот потом может вызвать ту самую психологическую травму.
Но только скажу вот что ещё: групповой секс — чрезвычайно обощённое понятие. Есть лямур-а-труа (с разными раскладами), есть вечеринки свингеров, есть вайфсвичинг, короче говоря, общего между этим коловращением жизни меньше, чем между гетеро— и гомосексуальными семейными отношениями.
Тут простор для частного исследователя: посмотреть, склонив голову, зайти сбоку, потыкать палочкой, наконец.
К тому же иногда случается Божественное Откровение. Собираются люди, чтобы заняться срамным делом, строят геометрические планы… Но обычно в этот момент появляется странный белый человек, все начинают думать, что это один из новых участников, однако это оказывается ангел, который говорит всем: идёмте в геенну огненную, а по дороге переговорим о любви.
И дело в шляпе.
Раньше люди были боязливы. Да и я, коли вывесил бы отчёт, вовсе не снискал бы любви новых дам, а, наоборот, вошёл бы в историю василиском. Читатели мои окаменели б, и их пришлось бы расставлять в качестве садовых гномов в Парке Культуры им. Горького.
Кстати, чтобы два раза не вставать, нынче люди ничего не боятся. Один мой давний друг — всегда был тонким ценителем группового секса. То есть, он был не то, что называется «горячий поклонник», а именно что тонкий ценитель этого дела.
Мы с ним как-то говорили на эту тему у камелька, и я спросил, что его больше заводит.
Я надеялся, что он скажет: «Одновременное ощущение в разных нервных центрах» или что-то вроде, так как он был не только циник, но и медик.
— Ах, Володя, — отвечал он мне. — Режиссура!..
И то верно.
Ответственности много, да и режиссура важна.
Извините, если кого обидел.
15 марта 2015
(обратно)
День Святого Патрика (17 марта) (2015-03-17)

Раевский выбрался из постели и прошлёпал босыми ногами в кухню.
Квартира была огромной — он отвык от таких — сначала пятки холодил ламинат, а потом ледяной кухонный мрамор. Хвалёные полы с подогревом явно бастовали.
Всю ночь они кричали «Слонче» — потому что им так сказали, что надо кричать, когда пьёшь «Гиннес». Некоторые, впрочем, кричали «Слынчев бряг» — по старой памяти.
Ночь мерилась не по двадцать восемь — тридцать пять, а по ноль — пятьдесят восемь, то есть не унциями, а пинтами.
За окнами догорал День Святого Патрика — зашипела, завыла последняя шутиха. Наталья Александровна спала в дальней комнате, и он без опаски стал курить под вытяжкой, кутаясь в халат. Приезжать не следовало, всё это было напрасно — no sex with ex. Всё дело в том, что они чересчур праздновали, и вечер прокатился по пабам, в компании крашеных зелёным и оранжевым людей, как махновская конница по степи.
И вот он здесь, на этой кухне, которую знал, как свои пять пальцев. Квартира с видом на Кремль, былая роскошь… Вернее, роскошь никуда не делась — вполне оставалась при этой семье.
Он иногда встречался со своими друзьями в этой квартире — всё равно в ней никто не жил.
Хозяева превращали нефть во французское вино где-то на берегах Средиземного моря.
Раевскому было непонятно, счастливы ли они, счастлива ли его подруга, что как перелётная длинноногая птица, кочевала по свету.
Жизнь не густа, и наказывает нас тем, что желания исполняются буквально. Ты вымаливаешь себе счастье, но чеховский крыжовник оказывается кислым, время упущено, и ты любишь не тех, кого добился — а тот далёкий образ из прошлого.
Он вымаливал свою первую любовь, и вот она посапывала в дальней комнате.
Любовь была завёрнута в белое, как мумия.
«Это довольно старая любовь», — подумал Раевский и даже поперхнулся.
Стакан потрескивал под натиском пузырьков, а Раевский принялся пока изучать огромный аляповатый герб, висевший на стене над барной стойкой. Его ещё десять лет назад поразил этот герб, вполне ирландский. Далёкий предок Натальи Александровны был выписан Петром из Ирландии, и, побираясь, проехал всю Европу, чтобы из нищего моряка превратиться в богача, сыпать золотом — своим и чужим — в разных портах, строить корабли, попасть в опалу, и, наплодив кучу полурусских детей, утонуть в Маркизовой луже, иначе говоря, в Финском заливе.
Отчего на щите изображён кентавр, Раевский уже не помнил. Кентавр, кентавр — была какая-то история… Он провёл пальцем по резному дереву, затем по облупленному, под старину, жезлу, покоившемуся, как меч, на подставке.
Странная искра ударила ему в пальцы — и будто прошлое вошло в него.
Точно, далёкий родственник, боковая ветвь генеалогического древа женщины, спавшей в дальней комнате, старый монах дрался с кентаврами на далёком острове. Он был упомянут в списках плавания святого Брендана. Монах, больше орудовавший мечом, чем крестом, гонял друидов (Раевский почему-то представил себе, как загоняют седобородого старца на дерево, и он сидит там, путаясь бородой в ветвях, а монахи, как стая псов, лают на него снизу).
Точно — старый монах специализировался на изгнании нечестивых существ — и если его товарищи воевали с друидами, то он изничтожил кентавров на острове.
Так гласила легенда.
Но, кажется, всё окончилось печально.
И вдруг он представил себе — как.
Друид исчезает медленно, будто задёргивая за собой занавеску, и невидимая занавесь действительно закрывает проход, движется, шелестя по траве.
Друид затягивает за собой горловину мешка, в котором часть Лощины Зелёного камня и его враг — священник-пришелец.
Старого монаха загнали в ловушку — вот что это значит.
Это значит, что друид долго плёл нити, сводил их вместе, долго лилась ядовитая слюна, и вот, шаг за шагом, он выманил священника из монастыря. Говорят, именно друид подал святому Патрику кубок с отравленным вином, но только святой прикоснулся к кубку, вино замёрзло, и кубок треснул. Спустя несколько лет друид сгорел на костре, испытывая прочность веры.
Чужая вера оказалась прочней — от друида остался только плащ, что принадлежал раньше святому Патрику. Нетленный, лежал он поверх углей.
Но это всё слухи и легенды, что рассказывают недалёкие люди. Знаменитый друид жив, и строит козни монахам. И теперь он торжествует победу над монахом.
Это именно он заставил монаха целый день тащиться по горным тропам и вместо обещанного неизвестным странником свитка святого Брендана показал монаху своё иссохшее от ненависти лицо.
Теперь он удаляется, и деревья покорно кланяются ему, простирая ветви до земли.
Как только ночь падёт на землю, над лощиной появятся чёрные тени — это прилетят страшные вороны древнего мира пожирать всё живое.
Клювы у воронов каменные, а крылья из блестящих медных доспехов. Сам Сатана дал воронам на крылья поножи и панцири римских воинов, что сторожили кресты на иерусалимской горе.
Вороны старше Первого храма и старше Второго, в них плоть мертвых варваров, они выклевали глаза не одной тысяче легионеров. И вот вороны прилетят и будут пить кровь, для них ведь всё равно — что овцы, что люди. Любое существо падёт жертвой.
Кроме проклятых гадов, разумеется.
Но гадов на этой земле давно нет.
Итак, старый друид загнал монаха в место, где скалы из зелёного камня повсюду отвесны, и откуда можно выбраться только с одной стороны. Но именно там висит и трепещет на ветру бесовское заклятие, оно трепещет на ветру, как нежный невидимый шёлк — только преодолеть его у монаха нет никаких сил.
Он творит Крестное знамение, но от него только воздух идёт рябью.
Всё успокаивается, и снова пряный ветер несёт к нему запах горной травы, вереска и цветов.
Монах смотрит на свою западню — сто шагов в одну сторону и пятьдесят в другую — деревья да кусты, всё, на что он может любоваться перед смертью. И если он шагнёт в занавес, что сотворил друид, то его взболтает и перемешает — будто молоко в маслобойке.
Тогда уж не поймёшь, где ирландский клевер, а где лысина монаха. Впрочем, страшные вороны с каменными носами, что живут на вершинах гор, ничем не лучше.
Скоро они проснутся, и монах заранее втягивает голову в плечи, читая молитвы.
Он на всякий случай плюёт в невидимую стену и видит, как на полпути плевок начинает жить своей жизнью, смешиваясь с воздухом, брызгает искрами и исчезает, не долетев до земли.
То же самое будет и с ним — только искр, пожалуй, будет больше.
Монах бросает туда же камешек — и тот беспрепятственно падает в лопухи.
Он идёт вдоль невидимой границы, чувствуя пальцами покалывание — там, где она начинается.
Огибает дерево с круглыми листьями, спускается вниз и останавливается в удивлении.
За его спиной раздаётся ржание. Прямо через завесу проходит, ступая медленно и осторожно, маленькая лошадка.
Она щиплет траву, а монах всё стоит, не веря своим глазам.
Монах обходит лошадку и гладит её.
— Милая, ты ведь поможешь мне? — в ответ лошадка роняет два увесистых кома навоза.
Монах принимает это за добрый знак.
Он влезает на лошадку и ударяет пятками по бокам. Лошадь не двигается, только чаще машет хвостом.
— Глупая! Тебя ведь съедят тут вместе со мной! — лошадь косит на него добрым глазом, но не двигается с места.
Со вздохом он слезает на землю, скользнув по круглому боку, и снова идёт по кругу. Сделав три оборота вокруг центра лощины — он думает: «Достаточно».
Монах возвращается к лошади.
— Клевер! — говорит он. — Ты любишь клевер. А ведь клевер — что Троица. Смотри, Троица, да. И мы с тобой можем быть триедины — смотри, я, мой плащ вместо седла и ты — вот мы и спасёмся… Мне ли тебе говорить, что Святой Патрик избавил нас от змей, отравивших все источники. Ты видела здесь змей? Правильно, и я не видел. И это доказывает истинность нашей веры. Лошадка, милая лошадка, нам нужно бежать отсюда, что ты стоишь здесь, будто ищешь ход в чистилище. Нет, Папа давно объяснил нам, что это место не здесь, и вход для людей и зверей туда давно закрыт. И ещё я тебе скажу вот что: вместе мы спасёмся, а порознь — нет.
Лошадка слушает преподобного монаха, а потом возвращается к своей сочной и сладкой траве.
Он снова творит Крестное знаменье и произносит:
— Я призываю ныне все силы эти оградить меня от всего, без милости восстающего на мои тело и душу, от заклятий лжепророков, от злоучений язычников, от лжеверия еретиков, от обмана идолослужения, от злого колдовства, от тех знаний, что губят тело и душу…
Достав флягу со Святой водой, крестит лошадку в истинную веру.
Он склоняет голову, ожидая результата — лошадка несколько раз взмахивает хвостом, но остаётся на месте.
Тут его осеняет: он встал на четвереньки и принимается рвать траву.
Он рвёт траву и кидает её за магическую завесу.
Руки его уже не чувствуют боли, зато большая часть лощины облысела.
Лошадка с недоумением смотрит на человека, и, кажется, решает, что ей делать.
— Травка! — вопит монах, скача вокруг неё. — Травка! Вкусная травка! Чистый горный клевер! Но травка — только там!
Однако лошадь стоит ещё долго, прежде чем двинуться к заветному порогу. Кажется, она сообразила, что от неё хотят, и монах резво бежит за ней.
И вот он прыгает к ней на спину. Монах не падает, и всё же, уцепившись в последний момент, издаёт победный вопль — да такой, что лошадка припускает вдвое быстрее.
Лошадь дёргается и, почуяв неладное, взбрыкивает, подкидывая монаха вверх. Он больно бьётся брюхом, но крепко сжимает руками ускользающую гриву.
И вот они пересекают невидимую границу, составляя единое целое. Радужное сияние озаряет лошадь и всадника, воздух вспыхивает огнём.
И вот уже монах, что они вместе с лошадкой миновали магическую завесу.
Он издаёт крик радости, но крик получается странным, куда более сильным, чем он ожидал.
Он обнаруживает, что видит траву иначе, не так, как раньше, хлопает себя по бокам, переводит глаза вниз, и новый крик, уже булькающий крик ужаса, оглашает лощину.
Ниже пояса он видит короткие ножки с копытами, а когда оборачивается назад видит, что за спиной у него круглый лошадиный круп.
Слёзы катятся у него из глаз, но и сквозь эти слёзы он благодарит Святого Патрика за чудесное спасение.
— Чистый клевер… — печально думает он, наклоняясь к охапке свежесорванной травы. И набив ею рот, мычит с удивлением:
— Но ведь и вправду вкусно!
Наталья Александровна вышла в кухню, на запах сигаретного дыма.
— Это старик О’Коннор изгнал кентавров, да?
— О чём это ты? А, ну да. Он. Он изгнал кентавров, а потом исчез. Легенда говорит, что он стал последним из них и до сих пор пасётся где-то в горах.
Раевский аккуратно затушил сигарету и капнул на неё водой из-под крана.
Легенда не врёт, легенды вообще никогда не врут — ты побеждаешь дракона, а потом сам превращаешься в него.
Все желания сбываются так, что превращаются в наказания.
«Любой ценой, любой ценой» — шепчешь ты себе, и цена оказывается всегда слишком высокой. А цель… Цель оказывается…
— Ты останешься? — спросила она, наливая себе стакан минеральной воды.
Даже на расстоянии было слышно, как трещат пузырьки, потому что это была настоящая дорогая минеральная вода, не то что жалкие подделки. Звук этот неожиданно разозлил Раевского.
— Нет, милая, я бы рад, я бы рад, но, — он проглотил окончание, как неприятную на вкус таблетку, и пошёл одеваться.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
17 марта 2015
(обратно)
История про псевдоидеологизацию (2015-03-18)
Слово, соглашусь я, неловкое.
Но к порнографическим фильмам часто предъявлялись претензии политического свойства.
Действительно, некоторые из них сюжетно изображали какого-нибудь советского тирана, который пользовал свой гарем, не снимая мундира со звёздами.
Это явление, которое я бы назвал неловким словом «псевдоидеологизация». К нему, например, относится мнение о том, что порнографические фильмы могут быть идеологичны постольку, поскольку в них на женщину надета буденовка и тому подобное.
Это совершенно неверно.
Порнография имеет свою идеологию, но она заключается совсем не в этом, а в точном удовлетворении явных, и особенно неявных желаний потребителя. Все фильмы массовой культуры, ровно этим же занимаются и интернациональны.
В силу ряда обстоятельств мне пришлось ездить по разным воинским частям, и оказалось, что там было полно изображений Рембо и прочих мускулов, обвешанных пулемётными лентами. При этом владельцы этих постеров вполне отчаянно воевали сперва в чужих горах, а потом в отечественных. Я много говорил с ними (не с постерами, а с владельцами), и уяснил, что они себя с идентифицируют с мускулистым американцем итальянского происхождения, но американского солдата вполне считают врагом. Кстати, очень похожие истории были в Сербии и Ираке — государствах светских и допускавших к себе американские боевики в товарных количествах. Если когда-то и воспитывается эмпатия через кинопродукцию, то она крайне незначительна. Притом, обратного процесса вовсе нет (и Голливуд оттого зовётся наиболее совершенным оружием — по крайней мере, на своей территории.)
Но порнография, меж тем, действительно имеет сакральный аспект.
Есть в ней и мотив удовлетворения возбуждения — контакт с чем-то необычным, вроде девушки в будёновке. Она податлива, и это имеет особый вкус.
Но дело не в политике — чёрные фуражки и высокие сапоги были прежде мундиров по выкройкам Хьюго Босса. Будут и впредь.
Тут страдания и пёзды — если кто не понимает.
Ну и тема лёгкого необременительного для зрителей насилия — тоже.
Был в своё время знаменитый фильм, вернее, серия фильмов про сексуальную охранницу сперва нацистских, а потом советских лагерей Ильзу…
Да, собственно, вот старые заметки по этому поводу.
«…Расстёгиваю я на товарище майоре китель».
Есть особый жанр, в кинематографической порнографии стоящий особняком. (Жанров вообще в ней множество, потому что порнография не раздел кино или литературы, а сфера, включающая в себя именно что все желания человека — оттого в ней есть и некрофилия, и скотоложество, и детский раздел, и снафф — документированное реальное убийство и проч., и проч.)
Но есть и вполне мягкие, пограничные образцы — скажем, сексплуатация (sexploitation).
Как-то я посмотрел удивительный канадский фильм Ilsa, Tigress of Siberia (1977). Я-то слышал об этой Ильзе, когда она ещё в SS была (Там был фильм «Ильза, волчица СС», потом что-то про гарем, и, наконец, последний фильм из четырёх рассказывал о приключениях Ильзы в Латинской Америке). Этот снимал неизвестный никому Жан ЛеФлер. Что показательно, Дайана Торн (Dyanne Thorne) которая там играет потом получила Ph.D. по Comparative religion. Говорят, под конец жизни (она, впрочем, жива, эта актриса, ей чуть за семьдесят, и, говорят, она увлеклась проповедями и религиозным просвещением).
Но дело даже не в этом. Фильмы, ставшие как бы классикой, да что там, классикой жанра sexploitation и WIP (Women In Prison) в деталях оказываются скромнее «Греческой смоковницы».
Ну ладно, многие это дело видели, а тем, кто не видел, я расскажу.
Начинается всё в Сибири. По Сибири бежит зек, а за ним гонятся два вохровца, одетые как участники Пугачёвского бунта. Шапки высокие, косматые, сами тоже косматые, да и лошади косматые. Всё с начёсом. Вооружены вохровцы пиками.
Но зек убегает, и только, было, переводя дыхание в подлеске, обрадовался успеху предприятия, как его проткнули пикой. Причём не собственно вохровцы, а тётенька-полковник.
Забегая вперёд, я скажу, что о званиях тут судить очень сложно, потому что все носят на плечах узенькие красные погоны с одной ефрейторской лычкой. Товарищ полковник одета в бриджи, казакин и песцовую шапку с огромной красной звездой. Она любила конный строй, и бранный звон литавр, и клики пред бунчуком и булавой, в общем как-то так. Ну, натурально, проткнутого зека несут на палке обратно в лагерь — так, как обычно изображают туземцев, волокущих путешественников на скромный деревенский ужин в качестве наполнителя для котла.
Да и то верно — по возвращении тётенька полковник-ефрейтор говорит: «У меня Саша ещё не кормлена».
Зеку расшибают голову и сливают кровь в клетку большой амурской тигрицы. Я сразу догадался, кто эта Саша, сразу, честное слово!
Правда, зачем её так кормить — жидкое на первое, а на второе — всё остальное, непонятно, но это только начало.
С чувством исполненного долга охрана начинает праздновать в своей избе с полосатыми половиками, занавесочками и зеркалом, спизженным из барской усадьбы в Центральной России. Ну, ладно — позаимствованным из реквизита к «Егению Онегину». Двое охранников играют на балалайках, товарищ полковник пляшет под «Дорогой лунною…» (кстати, неплохо пляшет), и отчего-то называет своих подчинённых казаками (тут я понял, что имел в виду немецкий генерал из другого фильма под пархатыми большевистскими казаками). Потом начинается битва за тело комиссарское — подчинённые казаки дерутся по двое, и победители идут спать с товарищем полковником, а проигравшие — обжиматься с обслугой, двумя симпатичными девками в гимнастёрках времён Гражданской войны. (Пархатые казаки перепились, и вольнонаёмным девушкам пришлось обслуживать себя самим).
Долго ли, коротко ли, в лагерь на санях привозят этап — четыре человека. Вместо указателя там свежезамороженный зека стоит на повороте и обледенелой рукой указывает: хозяйство Семибабы здесь. Впрочем, «семибаба» это из другого тоталитарного фильма. Этап небольшой, и все новоприбывшие одеты в специальную форму (удивительно похожи на современных хипстеров, чтобы ни означало это слово). Вот они заезжают под вывеску «ГУЛАГ № 14», и — тю! — полковница с ними начинает знакомиться.
— Вот ты, — говорит она. — Сын генерала Зирова? (В аннотации сообщают, что это всё же генерал Жиров, но у меня звук слабый, и я сначала решил, что это игра слов от «Нулевой»). Какой-то юноша говорит, что да, но ни он, ни папа ни в чём не виноваты.
— Ага! Тебя осудили на шесть месяцев, а сейчас своей непокорностью ты увеличил себе срок на три месяца. (Тут я начал хрюкать, но быстро опомнился. Какими красками заиграл бы фильм с настоящими сроками!).
Следующим зеком оказался «политический мыслитель» Андрей Чекурин (Andrei Chikurin по версии IMDb).
— Ага, — говорит ему полковница, — сейчас мы будем тебя ломать, политический мыслитель Чекурин.
И правда, полковница приходит к нему и показывает политическому мыслителю сиськи. Для того, чтобы он эти сиськи без спросу не мацал, его, правда, привязали к электрическому стулу. Увидев, что с сиськами не выгорело, полковница ушла наблюдать фольклорную забаву русских людей — армрестлинг с двумя циркулярными пилами. Удивительный станок, кстати, я всё думал, можно ли его для какого-нибудь настоящего столярного дела приспособить.
А политическим мыслителем занялся противный старичок (видимо, лагерный врач-вредитель). Начал тыкать пальцем в портрет Сталина на стене:
— Кто это?
Политический мыслитель хочет было им сказать, что только полный идиот в этой стране не знает кто это на картинке, но пересиливает себя и говорит:
— Это палач и убийца.
Ну его, натурально, током и шарахнули. И так сорок раз, граждане судьи. Я всё думал, что этот Чекурин потом будет бормотать «Я — К-к-кротов!», и вообще всё в своей жизни перепутает, но нет — лишь однажды он сбился, когда этот чекист-психиатр начал ему подсказывать «Это — отец…»
Политический мыслитель повторил было за ним: «Это отец…» Но собрался и продолжил: «…Всех злодеяний на земле».
Ну и опять к нему пришёл Никола Тесла.
Происходит это в другом углу всё той же избы, а в лагере идёт обычная лагерная жизнь — кто-то из зека заболел гриппом, и его привязали к странной конструкции над прорубью и стали макать до полного выздоровления. И, что интересно — макнут ногами вниз, а вытащат уже вниз головой. Гудини какой-то советский, даром что простуженный. (Как кстати, пишет молодёжь на форуме винтажного кино — «Атмосфера ГУЛАГа очень реалистична»).
Наконец, сибирским чекистам это надоело (или они на электрический счётчик взглянули и в ужас пришли), и решили они не выпендриваться, а просто накормить политическим мыслителем тигрицу Сашу.
Саше-то ведь всё равно, как её обед относится к товарищу Сталину. Сказано — сделано, кинули политического мыслителя в клетку, но тут прискакал нарочный из города и говорит: «Сталин умер, а к нам едет сам генерал Зиров с инспекцией, чисто ревизор».
— План «Б», всех убить, сжечь в бараках! — кричит ефрейторская полковница, и тут начинается форменный бардак в сумасшедшем доме. Зеки бегают взад-вперёд на фоне табличек «Баррак № 6» (через два «р», разумеется), вохровцы в них стреляют, они обратно мочат вохровцев, пархатые казаки отчего-то стреляют во всех, мудро исповедуя принцип легата Арнольда-Амальрика. Воспользовавшись суматохой сын генерала Зирова кинул политическому мыслителю совковую лопату. Я сразу понял, что теперь-то Чекурин спасён! И точно, забил политический мыслитель тигрицу лопатой, даже не поцарапался. Только сына генерала Зирова всё же застрелили, когда он лопатой кидался.
Всё сгорело, главные негодяи сбежали и политический мыслитель тупо озирается на пепелище. Что делать — непонятно, и очевидно, что орден Андрея Первозванного дадут ему не скоро.
Тут всем показывают заставку «Монреаль, 1977».
Типа, прошло четверть века. В Монреале русские сыграли вничью с канадскими хоккеистами, и ужасно этому радуются (Я подозреваю, что тут у канадцев-кинематографистов были какие-то комплексы). Однако двое из пятёрки Харламова хотят перед отлётом потрахаться.
— Начальник, — говорят они. — Ну как же, побывать в Америке и не выебать американку? Что пацанам рассказывать будем?! Ну, пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста!
И, к моему удивлению, оказывается, что за ними надзирает всё тот же политический мыслитель Чекурин. Я всегда подозревал это в диссидентах: сначала сидит за идеалы, а потом превращается в спортсмена в штатском. Итак, хоккеисты уламывают своего начальника и втроём идут в бордель (Я не поленился и поглядел сопровождающую информацию на торрентах и обнаружил прекрасное: «Волей случая хоккеисты оказываются в борделе…» Волею
случая! Вот как!»). Правда, в борделе бывший политический мыслитель сидит в углу и читает газету, делая вид, что всё происходящее вокруг его не касается.
Однако на мониторе его видит хозяйка борделя — конечно, та самая Ильза, бывшая полковница. Полковница, как и Чекурин, за 25 лет совершенно не изменилась.
— Хватайте его! — командует она беглым пархатым казакам, что служат ей и в Канаде (Тоже, понятно, ничуть не изменившись. Вместе они занимаются каким-то рекетом и недружественными поглощениями, спуская под лёд коммерсантов, переписав на себя их заводы и фабрики).
Чекурин их лупит почём зря, как настоящий дзюдоист-кагебешник, но его всё-таки скручивают и привязывают к стене.
Голая бандерша-полковница снова показывает ему свои сиськи (Которые за двадцать пять лет, как и всё тут — не изменились).
Бывший политический мыслитель только плюёт ей в лицо.
Он верен своим антисисечным идеалам.
Но тут уже никакого Сталина ему не показывают, времена не те. Просто устраивают вечеринку, куда его, привязанного к каталке, вывозят на середину, и предъявляют кухонный миксер — вот, дескать, что тебе в штаны засунем. Советский мыслитель в жизни миксера не видел, боится, но виду не подаёт.
В этот момент надо сказать, что бывшую начальницу лагеря, а теперь начальницу борделя давно пас КГБ. В Москве, на фоне окна с картонным Василием Блаженным, долго прохаживался усатый толстяк в гимнастёрке. Погоны у него тоже, разумеется, ефрейторские. Прохаживался, и разглядывал фотографии. И груду фоток разбирала — и, как остывшую золу, брала их в руки и бросала… — бросал он их на стол с криком «Сталинская шлюха!» Я было даже решил, что у Ильзы была одна важная, но памятная связь.
По-моему, это генерал Зиров и был — тоже не изменившийся ничуть. Отрядил он в Монреаль людей верных и сметливых, но всех их поубивали, а одного так и вовсе в снегоуборочный комбайн засунули. Знала бы губернатор Матвиеенко, как в Монреале улицы убирают, всем бы злопыхателям носы утёрла. (Это была потускневшая от времени шутка).
А на вечеринке — всё по плану, но как дошло дело до миксера, как занесли его над гоголь-моголем бывшего политического мыслителя, так картинка переменилась.
В монреальский приусадебный участок стали прыгать посланцы генерала Зирова. Это люди в белых маскхалатах, вооружённые пистолет-пулемётами Дегтярёва. Дальше начинается форменное безумие, опять в режиме «убивай всех, Господь признает своих». Обычно в фильмах соблюдается пропорция убитых, помогающая понять что к чему. Но тут валят всех.
Бывший политический мыслитель надел зачем-то маскхалат убитого кагебешника (халат, впрочем, был уже не белый, а, в общем-то сильно розовый) и полез на крышу. Зачем ему на крышу — непонятно совершенно, может, он просто хотел побыть Карлсоном. Посидев на крыше, он всё-таки успокоился и слез обратно.
А там бандерша с оставшимся подельником катаются вокруг дома на снегоходах. Подельник-то, бородатый казак, которому в Сибири полковница не досталась, так возбудился, когда увидел хоккейного мыслителя, что страсть!
Мгновенно развернул снегоход и вытащил из-за пазухи шашку и попёр на него, что твой Будённый. Но Чекурин тоже не промах был — приметил на краю дорожки кол в ногу толщиной (эти русские всё время колы где попало разбрасывают) — ну и проткнул подельника. Ну и правильно — с волками выть, по-волчьи сыть, а пастуху — памятник.
После этого сел бывший политический мыслитель на трофейный снегоход и ну героиню догонять.
Она уже сидит на льду канадского озера около разбитого снегохода с ридикюлем полным долларов.
— Спаси меня, — говорит. — Я тебе приказываю! Вот то, что больше всего ценят русские — настоящие баксы!
Но тот поглядел на неё, да и уехал в закатную даль. Даже не оглянулся.
А бывшая полковница стала жечь доллары и тем греться посреди бескрайних канадских просторов. Хоть похоже на Россию, только всё же не Россия — как пел по такому случаю один отечественный бард.
Вот какие огурцы продавались в канадских магазинах.
Извините, если кого обидел.
18 марта 2015
(обратно)
Предсказание (День весеннего равноденствия. 20 марта) (2015-03-20)

Это был давний год, когда убрали Ленина с денег.
Странное безвременье, и вот, бросив работу, посредине недели мы поехали на дачу.
Дача была прекрасна, меня, впрочем, насторожило название Белые Столбы.
Что-то было в нём заведомо психиатрическое, а ведь мы только что навещали нашего приятеля в психушке.
Он хотел увильнуть от армии, да сошёл с ума по-настоящему.
Мы опоздали и увидели, как ночные посетители сквозь огромное стекло, расплющив носы, разглядывают душевнобольных. Кто есть кто по обе стороны стекла — было неясно. Мы дали охране немного денег, но заблудились и долго ходили ночью по коридорам. Наконец, нам посоветовали пройти к буйным — мы подобрали ключ и проникли туда. Санитары очень нам обрадовались, и мы долго пили, сидя вперемешку — посетители, симулянты, сумасшедшие и охрана. Один из охранников и рассказывал нам про службу в Белых Столбах.
А теперь мы туда приехали — правда, на чужую дачу. Приехали той стылой мартовской порой, когда природа раздумывает, греться ей или заснуть опять в холодной своей стране.
Старая дача была гулкой и пустой. В углу сидел наш друг-скульптор, воткнув в пол серебристые костыли. Из-за этих костылей он был похож на паука. Он жил на этой даче зимой и летом — зимой дом жарко топился, а потом, казалось, несколько месяцев медленно остывал — потрескивали балки, сами собой скрипели ступени лестниц, звякали стекла в плетёных окнах веранды.
Скрип-скрип, будто скурлы-скурлы, время брало своё, и всё качал головой на комоде китайский болванчик, которого единственный раз тронули лет десять назад. Много тут было чудес — например будильник, что шёл в обратную сторону, и бюст Ворошилова, у которого светились глаза. Скрипя половицами, я пошёл к комоду и принялся разглядывать пёстрый народ на нём — рядом с китайцем стоял другой бюст — бюст Чайковского с облупленным носом. Сидел рядом, закинув ногу на ногу, клоун из «Макдоналдса», настоящие исторические слоники спешили на водопой.
Тикал ещё один будильник всё с тем же слоником, ещё два стучали своей металлической требухой рядом, и все показывали разное время.
Лодочник только что вернулся с выставки «Антикварный салон», где выбирал себе буфет. Я слушал его и думал, что эта выставка больше всего напоминала мне барахолку на далёкой Удельной. Той самой станции Удельной, с которой бежал в Финляндию Ленин.
Мы принялись вспоминать вещи прошлого — исчезнувшие давно радиолы, магнитофоны и устройства для заточки безопасных бритв. Продолжая ленинскую тему, группа «Ленинград» хрипела что-то в дребезжащем динамике. Мы разговаривали о бессмысленных подарках и о том, что каждая вещь должна найти своего хозяина.
Раевский рассказал о двух друзьях, которые развелись, а потом снова женились — каждый на жене друга. Подарки судьбы нашли своих хозяев.
Я поднялся по лестнице на второй этаж — мимо смешных плакатов по технике безопасности. Прямо передо мной стояла покрытая паутиной статуя солдата-освободителя в полный рост с автоматом наперевес.
Я вытер ему юношеское лицо и принялся глядеть на улицу дачного посёлка.
Хорошо быть дачником. Жить и состариться в своём домике, сидеть на лавочке, где ветераны вспоминают былые битвы, победы и поражения, что сменяли друг друга с незавидной периодичностью. Перебирают в памяти десантные операции на дачных участках, ковровые бомбометания, танковые бои в райзоне кухни. Нормально. И вечный бой, покой нам только снится.
И здесь вокруг меня была масса осколков этой материальной цивилизации. Пустые банки, коробки, два велосипеда, старый телевизор… И у меня на даче были такие предметы — лётная фуражка, огромная кожаная куртка коричневого цвета с испорченной молнией. Была она похожа на бронежилет по своим панцирным свойствам.
И велосипед, конечно.
Да, поздно, братан, склеили тебе ласты, да. Не отопрёсси. Воспоминания — едкая кислота, однако.
Ходики отмеряли прошлое время — империя разваливалась, нам всем предстояло как-то жить дальше, и никто не знал как. Кислый сигаретный дым тянулся из окошка над забором, улицей и всей страной на четыре буквы.
Внизу Раевский рассказывал анекдоты.
Утробно хохотал наш хозяин и бил костылями в пол.
— Это вы прекратите. Гуманизм развращает, а последовательный гуманизм развращает абсолютно, — сказал внизу кто-то.
Как жить — было совершенно непонятно. Спросить было некого, неоткуда было ждать знамений. Разве выйти к лесному капищу и приносить жертвы — всё равно мы были молоды и нерелигиозны.
Вся беда в том, что Лодочник очень сильно храпит. В одном доме, нас по ошибке положили на угловой диван. И вместо того чтобы лечь пятками друг к другу, мы легли головами в этот угол. Дверь в комнату дрожала и выгибалась на петлях. Казалось, что Годзилла жрёт там одновременно Мотрю и Батрю…
Пришлось встать и, спустившись, вести полночи разговоры на кухне — о сущем и вещем. Там говорили о чужом и о трофейном — тема эта странная и болезненная.
Русскому человеку с чужими вещами не везёт. И ведь дело не в воровстве — оно свойственно русскому человеку не более, чем другим нациям, а, может, и менее — в силу разных жизненных опасностей. Найдёт такой человек подкову в дорожной пыли, прибьёт к косяку. А она возьми и упади ему на голову — потому как, что поднял, то не от земли выросло. Считал бы у себя во рту зубы, а не железо на дороге искал. Или обнаружит русский человек в огороде бесхозный самолёт, да и сделает точно такой же. Мог бы и свой сделать, да и получше — но судьба опять стучит ему по голове и требует, чтоб точь-в-точь как дармовой. Зачем так — никто не поймёт: чужа одежа не надежа, чужой муж не кормилец. И всё эта рачительность с чужой вещью как-то боком выходит — как найдётся чемодан, так окажется, что без ручки. Как приблудится собака, то вшивая и кусачая.
А начнёт русский человек из хороших чувств кого мирить, чужим счастьем заниматься — и вовсе конфуз выйдет. Враги тут же помирятся, начнут его самого бить, обдерут ещё как липку — насилу уйдёт живым. И то верно, ишь, зашёл в чужую клеть молебен петь. Воротится русский человек, ругаясь и кляня и Африку, и чужой турецкий берег — прочь, прочь, наваждение! Всякому зерну своя борозда, и поклянётся, что из дома — никуда.
А ты, кошелёк на верёвочке, ты, злодей-искуситель, — прочь, прочь, сгинь отседова, свои волосы как хошь ерошь, а моих не ворошь. Забери своё чужое, а мы нашего своего купим, хоть копеечку не сэкономим, да рубль не потеряем, пометём всяко перед своими воротами, держаться будем своего кармана, да и если ковырять, то — в своём носу.
Когда отзвенела гитарная струна и просохло в стаканах, я понял, что и в эту, самую короткую ночь, нет смысла спать в чужом доме. И, чуть рассвело, мы с Лодочником двинулись домой.
Лодочник ехал на чёрном «Мерседесе», похожем на катафалк. Но машина торговца смертью и должна быть чёрного цвета и наводить ужас.
Я первый заметил поворот на Ленинские Горки. Это было по пути, и горки в моей стране всегда находятся рядом со столбами. Мы повернули и отправились к Ленину.
Из-за холма показался огромный куб музея. Мы вылезли из машины и обнаружили в вестибюле очередь. Откуда-то возник старичок с лицом макдоналдовского клоуна и всунул мне в руку бумажку с номером. На немой вопрос старик отвечал, что очередь давно расписана.
Я принялся оглядывать большой зал со статуей. За спиной вождя вентилятор усердно колыхал красные знамёна.
— Может, не будем ждать? — Лодочник заскучал, его звали в дорогу дела. — Что мы в этом музее не видели? Тебе, что экскурсия эта нужна?
Сидящие в очереди как-то странно на него покосились.
— А я поеду, пожалуй. Хорошо?
Я не стал его задерживать и принялся думать о том, что хочу увидеть в этом музее. Инвалидную коляску с хитрым иностранным моторчиком? Музейные шторы в смертной комнате? Кровать, где лежал человек, превратившийся в овощ, но перед тем поставивший вверх ногами целый свет. Жила на кровати огромная лысая луковица, сто шестьдесят семь сантиметров мирового коммунизма. Луковица загнивала, прела, и вскоре её выпотрошили, оставив одну шелуху. Всё это ужасно грустно.
Мои размышления прервал сосед. Я не заметил, как он подсел — меж тем, это был настоящий китаец, удивительно похожий на того болванчика, которого я только что видел на чужом комоде.
— А вы про что хотите спросить? — Китаец прекрасно говорил по-русски.
Я как-то опешил и взял слишком большую паузу, так что он продолжил:
— Мне кажется, самая большая проблема — понять, как сохранить завоевания социализма.
— Ну да, ну да.
Но китайца одёрнула старуха, сидевшая впереди:
— Это не самое главное, главная задача — борьба с масонами.
Я чуть не плюнул от обиды.
— А я вот Ленина видел, — сказал кто-то.
Все разом бросили спорить и повернулись к старичку в кепке.
— Лет двадцать как, я тогда жениться думал. Или не жениться… — Старичок опирался на палку, а теперь даже положил голову на её рукоять. — Ленин, он ведь для каждого свой. Печник придёт к нему — он как печь, а художник какой-нибудь — он как картина. Главное, он понятный очень. Вот одна бабушка партийная приехала на съезд, Ленин к ней ночью пришёл и говорит: «Так и так, надо Сталина из Мавзолея вынести — тяжело мне вместе с ним лежать». Известный факт — так она с трибуны и рассказала. Никто не посмел перечить.
— А вот не надо было выносить, — возразил кто-то.
— Может и звездой воссиять, — закончил старичок.
— Вождь не был звездой, — опять вмешался тот же голос. — Звезда — признак демократического общества. Вождь был сакрален и спрятан. У него только горящее окно в Кремле, а звёзды — для эстрады. Там, где эти ваши безумные козлистки и лемешистки, а также подглядывание за кубанской казачьей делегацией вполне в стиле делегации венской.
— Вы о чём, мужчина? — обиделся кто-то. — Никаких козлисток давно нет!..
— А я бы спросила насчёт кооперативов. Будут ли ещё кооперативы, — не слушая никого, сказала себе под нос старушка в платочке.
Всё это давно напоминало очередь пенсионеров в поликлинике, и я пошёл прогуляться — мимо чудовищно страшной групповой статуи Меркурова «Рабочие несут гроб с телом Ленина». Она была страшна как групповой адский грех, вернее наказание за него. Рабочие были похожи на мертвецов и, казалось, валились куда-то в преисподнюю со своим страшным грузом. А Ленин, как и положено, казался живее их всех.
Я пошевелил волосами, разглядывая её, и пошёл к зиккурату вокзала, издали похожему на Московский университет.
Сзади меня послышались шаги — кто-то нагонял меня по склизлой полевой дороге. Когда мы поравнялись, фигура путника показалась мне смутно знакомой. На всякий случай я кивнул, и человек ответил тем же. Мы где-то виделись с ним — но где, я не мог припомнить.
— Уже принял? — спросил он.
Я, не совсем ещё догадавшись, о чём он, ответил, что нет.
— Это ничего, он всех принимает.
— А вам что сказал?
— Неважно, что он говорит, важно — как. Он может вообще ничего не говорить — когда я вошёл в кабинет, то увидел фигуру человека, вписанного в круг, а в центре — мотор. Я сразу узнал его — это была турбина Глушко. Даже лопатки турбины были видны. И я сразу понял, о чём это, — надо подписывать контракт с китайцами.
— Ну, раз турбина… — протянул я.
Но мой спутник торопился к станции. Впрочем, я уже догадался, что ожидают люди в зале. Какая там экскурсия, когда тут такое!
Когда я снова вернулся в зал ожидания, спор горел с новой силой. Вслушавшись, я понял, что хоть произносятся те же фразы, но спорят уже совершенно другие люди. Я сверился с номерами — было видно, что сидеть мне ещё долго.
Меж тем рядом говорили о высоком — то есть, о русской культуре.
— А вы Лихачева Дмитрия не любите, а он страдал за ны при Понтийском Пилате. Ему говорили: отрекись от «Слова о Полку Игореве», а он говорил: «Ни хера! Режьте меня, кормите меня тухлыми соловецкими раками!». Так всех раков и съел. Нет больше на Соловках раков. А монахи разводили-разводили.
— Не надо ёрничать! К тому же у нас не было ничего одноразового! Вот про что надо спрашивать! Нужно одноразовое?
— Ну почему? Солдаты были одноразовые. Много чего одноразового было.
Кто-то другой говорил:
— Какое ж у Зощенко-то порядочное образование? Позвольте спросить? Вахлак-вахлаком! — надрывался кто-то.
Над ухом у меня бубнил кто-то:
— Вот один солдат пришёл — и увидел только чайник. Большой чайник, мятый такой, алюминиевый. Зато с кипятком. А вот один художник был неблагодарен. Практически ничего не видел, только чёрный квадрат на фоне белой простыни. Стал формалистом, и все дела.
— Да, теперь все стыд забыли — если бы человек что-то сказал о себе, а тут он требует. Я очень тщательно стараюсь исполнять обязательства, а тут этих обязательств не вижу. Почему ко мне подходит человек, который говорит «Дай». Почему я должен? Мне кажется это неправильно.
Под эти разговоры я уснул.
Наконец, меня кто-то тряхнул за плечо. Это был старик, который сделал мне знак пересесть к дверям.
Приближалась моя очередь.
Старик рассказал, что уже один раз был здесь, и когда его впустили внутрь, то он увидел странную конструкцию из стеклянных трубочек и колб. Не будь дураком, он понял, что это перегонный куб.
Вернувшись к себе в деревню, старик сделал из этого соответствующие выводы — и точно, через месяц Горбачёв издал соответствующий указ, и водка стала по талонам.
Время тянулось, как дешёвые конфеты моего детства — я то засыпал, то выныривал на поверхность, туда, где шли бесконечные разговоры о предсказаниях. Я представлял, что мне явится за дверью, и никак не мог представить, я думал о том, сумею ли я понять предсказание или так и пойду по жизни смущённый и неразъяснённый.
Но вдруг меня потрясли за плечо, и уж на этот раз я понял — пора.
Я открыл дверь и, отведя в сторону тяжёлую портьеру, вошёл в кабинет.
Передо мной стоял стол, покрытый зелёным сукном. За столом сидел лысоватый человек с бородкой и писал что-то, положив мизинец в рот.
Не прерывая своего занятия, он указал мне на кресло, и я приготовился к самому страшному.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
20 марта 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-03-21)

Он жил в этой гостинице вторые сутки, заняв номер не без скандала.
Положив ноги на стол (дурацкая привычка, позаимствованная им у американцев, но сейчас полюбившаяся), он смотрел в потолок. Лепнина складывалась в странный узор, если раскачиваться на стуле равномерно. На седьмом году Революции она пошла трещинами — узор был причудлив, что-то в нём читалось. Но доброе или дурное предзнаменование — непонятно. То ли человек с мешком и дубиной, то ли всадник с саблей.
Он жил посреди огромного города в гостинице, в окна которой ломились памятники. Рядом стоял собор, который строили много лет.
Теперь он был построен, но время выламывало его судьбу, и все говорили, что его скоро закроют.
В свете того, что произошло уже в этом городе, всякий верил в новую жизнь собора.
А про жизнь тут во время блокады ему рассказывали.
Ему об этом рассказывал Шполянский.
Самого Шполянского здесь рисовал знаменитый художник. На этом портрете у Шполянского была почти оторвана пуговица и держалась она на одной нитке.
Шполянский был лыс, и внезапно лыс. Он рассказывал про брошенный правительством город, а правительство уехало отсюда в восемнадцатом году. Ещё некоторое время город, который разжаловали из столицы, живёт по-прежнему, но потом самые заметные люди начинают покидать его.
Это старый закон — когда открывают крышку кастрюли, самые быстрые молекулы воды начинают покидать поверхность, и вскоре кастрюля остывает. Город остывал в недавнюю войну быстро.
Шполянский рассказывал о том, что сквозь торцы мостовых проросла трава.
Ещё он говорил о том, что у женщин от голода прекратились месячные, а порезанный палец не заживал месяцами.
Шполянский как-то написал несколько стихотворений, но он не был поэтом, а оттого не был посвящён в великую тайну ремесла.
Сидящий на стуле раскачивался, глядя в пололок и вспоминал Шполянского.
Они не были дружны, но Шполянский ему нравился. По всему было видно, что Шполянский проживёт долго, а это верный знак. Он проживёт долго, но не будет бессмертен.
А сам приезжий, ожидая одних ему известных событий, жил в гостинице, которую построил неизвестный архитектор.
Дом этот несколько раз перестраивался, но главное оставалось прежним — архитектор неизвестен.
Неизвестность укрепляла мистическую силу этого места, и когда в одном из номеров умер знаменитый промышленник, иностранец, но при этом один из самых богатых людей Империи, никто не удивился.
А теперь исчезла и Империя, и золотые погоны столицы были сорваны с этого города. Он стоял перед неприятельскими пулями, как разжалованный офицер на бруствере.
Город был по-прежнему огромен, но несколько лет подряд вымирал.
По улицам бродила сумасшедшая старуха и сообщала, что будет в нем три наводнения, начиная с 1824 года. Второе будет ещё через сто лет, и третье — ещё через сто, и вот это третье окончательно затопит разжалованный город по самые купола. А уходя, вода унесёт вместе с собой всё — и купола, и кресты, и сами здания. И будет на месте этого города ровное пространство заросших ивняком болот — на веки вечные.
И подходила старуха к одному из памятников, тому, что гарцевал на площади спиной к реке, и, раскинув смрадные юбки, ела из ладони что-то непонятное.
Со страхом глядели на неё постояльцы гостиницы, и вера в пророчества прорастала в них, как трава через те самые торцы.
А трава действительно проросла через многие улицы, особенно через те, что были мощены деревянными шестиугольными плашками. Трава была высока, и, как на развалинах Рима, кое-где, особенно на окраинах, паслись козы.
Когда Шполянский рассказывал об этом времени, то его рассказы были наполнены предчувствием бегства. Шполянский потом действительно убежал прочь. Он убежал по льду залива в другую часть империи, ставшую теперь независимой. Многие бежали так, а первым, давным-давно, это сделал вождь революции. Теперь бежали уже от этого вождя, а город пустел, и трава росла.
Шполянский горячился и говорил сбивчиво. Что во время блокады люди ели столярный клей, а когда туда приехал один знаменитый иностранец, то на приёме воровали еду из соседских тарелок, пока соседи произносили тосты.
Вокруг гостиницы плыло новое время, а улицы были переименованы.
Никто не знал, по-настоящему, что за улица лежит у него под ногами.
Приятель Шполянского Драгоманов любил приводить два стихотворения про большую церковь, видную из окон гостиницы
Сей храм — двум царствам столь приличный,
Основа — мрамор, верх — кирпичный.
Но храм, говорил Драгоманов, тут же перестроили, и стихотворение стало звучать так:
Сей храм — трех царств изображенье:
Гранит, кирпич и разрушенье.
Драгоманов вставил эти стихи в свой роман, и роман обещал быть успешным. Церковь давно стала одним из главных мест города, по ней была названа площадь, и она мрачно чернела в окне, видная через холодный туман. Но человеку, лежащему в гостиничном номере, положив ноги на стол, было не до этого романа.
Он очень хорошо чувствовал перемены.
И перемены близились.
Город, который плыл мимо гостиницы «Англетер», будто вода наводнения, был пластичен и мягок, как всегда это бывает пред переменой участи. Город был текуч, как тёмная вода реки, как чёрная вода залива, бьющаяся подо льдом.
Он будет течь ещё сто лет, пока не сбудутся пророчества, и медный всадник не заскачет по воде, яки посуху, и волны не скроют финский камень под ним.
И гостиница, этот улей для хозяев нового времени, идеально подходила для точки излома.
Только что, по привычке, он попробовал провести несколько опытов — они всегда веселили друзей. Однажды он долго думал о кружке и-таки заставил её исчезнуть. «Где же кружка? Где же кружка?» — повторяла мать недоумённо, растерянно разводя руками посреди горницы — но он так и не раскрыл ей тайны.
Она ведь ещё жива, моя старушка, и я пока жив. А над её избушкой сейчас струится лёгкий дымок…
Впрочем, он отвёл этой женщине глаза так, что фокус с кружкой кажется детской шалостью.
Ложки, кстати, поддавались мистическим практикам куда лучше.
Ему вообще поддавался мир русских вещей — вещи заграничные слушались хуже. Так же происходило и с русскими словами — там буквы подбирались одна к другой, как рожь на поле, а латиница — шла с трудом.
Раньше, много лет назад, он знал латынь, но теперь время вытравило из него все языки, кроме русского. Многие звали его Серёжей — когда тебе под тридцать, это немного обидно.
Но он-то знал, что ему никогда не будет больше. Что он просто не может стареть.
Поэзия не только не давала ему стареть, она позволяла ему понимать чужие жизни. Как-то, в двадцать втором, в Германии, где он был проездом со своей будущей бывшей женой, к нему подошёл один немец.
Немец писал стихи — отвратительные.
Он хотел эмигрировать, и метал на стол страны, как карты. Испания, Турция, Прибалтика, Россия, Перу…
Он пришёл в постпредство РСФСР и предложил себя в качестве управляющего в какое-нибудь агрохозяйство на Украину. Визу ему не дали.
«Нет, не Рембо, совсем нет», — подумал тогда Серёжа. И тут же увидел не Украину, А Казахскую степь и ровные ряды бараков, Рождество и тонкие голоса крестьянских детей, что поют «Stille Nacht». Потом что-то щёлкнуло в его сознании, и он увидел пожары над украинской степью, его собеседник подписывает фольклист, а через три года уходит на свою бывшую родину, могильный камень в Гамбурге, 1900–1955, от безутешных родных.
— Езжайте, обязательно езжайте, Генрих, — говорил он ему. — Нельзя оставаться.
Оставаться было нельзя потому, что он видел собеседника в будущем — сверкающего очками, в какой-то неприятной форме. Там пахло гарью, и никому дела не было до поэзии.
Когда Генрих ушёл, Серёжа вспомнил, как уговаривал ехать в Аргентину одного Итальянца, но, кажется, не уговорил. Итальянец был молод, но уже тучен, стихи писал трескучие, как стрельба митральезы, а когда читал их, даже подпрыгивал.
Итальянец обещал подумать, но Серёже казалось, что его аргументы были недостаточно убедительны. Он тут же забыл об этой встрече — потому что пришёл Габриэль, красавец, аристократ, герой войны и командир группы торпедных катеров. Они поехали к морю, девушки хохотали, ничего не понимая в русской речи… Сразу забыл, а сейчас вот вспомнил.
Сейчас Серёжа сжимал в руке стакан — водка-рыковка, только что подорожавшая, давно степлилась на столе.
Скрипнула тяжёлая резная дверь — наконец-то.
Он пришёл — человек в чёрной коже, с его лицом.
В первую секунду Серёжа даже поразился задумке — действительно, зеркало отражало близнецов — одного в костюме, с задранными ногами, а другого — в чёрной коже и косоворотке.
— Вот мы и встретились, Сергунчик.
Чёрный человек говорил с неуловимым акцентом.
Интересно, как они это сделали — грим? Непохоже — наверное, всё-таки маска.
— Пришёл твой срок, — продолжал человек в пальто, садясь за стол.
Поэт про себя вздохнул — тут надо бы сыграть ужас, но что знает собеседник о его сроке. Можно сейчас глянуть ему в глаза, как он умел — глянуть страшно, как глядел он в глаза убийце с ножом, что пристал к нему на Сухаревке, так глянул, что тот сполз по стене, выронив свой засапожный инструмент.
Но сейчас Серёжа сдержался.
— Помнишь Рязань-то? Помнишь, милый, детство наше… — это было бы безупречным ходом, да только кто мог знать, что Сережино детство прошло совсем в другом месте.
Какая Рязань, что за глупость? Он родился в Константинополе.
На второй год Революции Серёжа встретился с Морозовым, только что выпущенным на свет шлиссельбургским узником. Старика-народовольца неволя законсервировала — он был розов, свеж, грозно топорщилась абсолютно белая борода. Морозов занимался путаницей в летописях и нашёл там сведения о нём, Сергунчике. Он раскопал, что переписчики перепутали документы (знал бы он, каких смешных денег это стоило) и заменили Константинополь на Константиново.
Они шли здесь же — по левую руку была мрачная громада Исаакиевской церкви, знаменитого собора, а по правую — эта гостиница, в которой переменялись судьбы.
Старик с розовой кожей хотел мстить истории, и решил начать с поэта, то есть с него.
Под ногами у них росла чахлая трава петроградских площадей и улиц.
Торцы набухли водой, и новая жизнь росла через них неумолимо.
Старик ждал ответа, а борода его торчала, как занесённый для удара топор.
Серёжа улыбнулся, глядя ему в глаза. Кто ж тебе поверит, старичок, разве потом какой-нибудь академик начнёт вслед тебе тасовать века и короны — но и ему никто не поверит.
А сам он хорошо помнил тот горячий май пятьсот лет назад, когда треск огня, крики воинов Фатиха и вопли жителей, когда окружили храм и начали бить тараном в двери. Наконец, со звоном отскочили петли, и толпа янычар ворвалась внутрь. Среди них было несколько выделявшихся, даже среди отборных головорезов Фатиха. Отрок знал — эти воины, похожие на спешившихся всадников, были аггелами. Лица их были покрыты чертами и резами, будто выточены из дерева.
Звуки литургии ещё не стихли, и священники, один за другим вошли в расступившуюся каменную кладку, бережно держа перед собой Святые дары.
Отрок рвался за ними, но старый монах схватил его за руку и повёл через длинный подземный ход к морю. Они бежали мимо гулких подземных цистерн, а в спины им били тяжёлые капли с потолка.
Монах посадил его на рыбачью лодку, из которой два грека хмуро смотрели на полыхающий город.
Это были два брата — Янаки и Ставраки, что везли отрока вдоль берега, боясь терять землю из вида.
Он читал им стихи по-гречески и на латыни — море занималось цензурой, забивая отроку рот солёной водой.
Скоро они достигли странной местности, где степь смыкалась с водой, и отрок ступил на чужую землю.
С каждым шагом, сделанным им по направлению к северу, что-то менялось в нём.
Он ощущал, как преображается его душа — тело теперь будет навеки неизменным.
Он стал Вечным Русским — душа была одинока, и привязана не к земной любви, а к небесной. Но никогда не забывал он о Деревянных всадниках — ибо про них было сказано ещё в Писании: Михаилъ и аггли его брань сотвориша со зміемъ, и змій брася, и аггели его.
Сражение было вечным.
Гость в чёрном бубнил что-то, время от времени посматривая на него. Верно — решил, что Серёжа совсем пьян.
Точно так же думал мальчик, что приходил вчера — в шутку Серёжа записал ему кровью свой старый экспромт — и понял, что случайность спасла его тайну.
Кровь сворачивалась мгновенно — пришлось колоть палец много раз. И только наивность мальчика не дала ему заметить, как мгновенно затягивается ранка.
Стихи — вот что вело его по жизни, но этот виток надо было заканчивать. Он действительно обманулся во времени, Вечный Русский купился — купился, как мальчишка, которого папаша привёз в город. Да тайком сбежав, проиграл мальчишка все свои, замотанные в тряпицу, копеечки на базаре.
Его предназначение — стихи, а стихов на этом месте не будет.
Без стихов вечность ничего не значит, всё остальное ничего не значит. Вот когда он дрался на кулаках с известным поэтом Сельдереем, то внезапно почувствовал его особую ненависть. Только сейчас он догадался, что Сельдерей ненавидел не его, а судьбу. Сельдерей угадывал его смерть, и по молодости лет она казалась ему почётной. Сельдерей чуть не подрался и с их другом Моссельпромом.
Судьба распорядилась так, что Вечный Жид, вечный поэт-еврей — не он, а нищий поэт Моссельпром. Сельдерей не понимал этого вполне, он, как тонкая натура, просто чувствовал обман судьбы и дрался именно с ней, а не с товарищем по цеху.
Ему была уготована жизнь человека, что умрёт в своей постели, испытав раннюю и позднюю любовь, хулу и хвалу, но умрёт навсегда, а Моссельпром будет вечно странствовать по Земле, выбравшись из-под груды мертвецов на дальневосточной пересылке.
Серёжа не к месту вспомнил, как он приехал к Сельдерею в Павлово-на-Оке. Там Сельдерей служил домашним учителем у символиста Сидорова. Серёжа с Сельдереем пьянствовали, а, как стемнело, потом купались нагишом. На реке они завывали и ухали.
Наутро Сидоров вышел к завтраку с пророческими словами: «Всю ночь на реке филин ухал — быть войне».
И действительно, наутро принесли газеты — Империя объявила войну германцам.
Сельдерей был в унынии, а Серёжа объяснял ему, что в этом и заключена сила поэзии. Бережное отношение к звуку — вот ключ.
Человек за дверью переминался неловко, шуршал чем-то в ожидании дела, и Серёжа совсем загрустил. Было даже обидно от этой топорной работы.
Он вспомнил, как в берлинском кабаке встретил Вечного Шотландца. Серёжа сразу узнал его — по волнистым волосам. Они всю ночь шатались по Берлину, и, захмелев, Вечный Шотландец стал показывать ему приёмы японской борьбы баритцу. Совсем распаляясь, Шотландец вытащил из саквояжа меч и начал им махать, как косарь на берегу Оки.
В одно движение, поднырнув сбоку, Серёжа воткнул ему в бок вилку, украденную в ресторане.
Шотландец хлопал глазами, икал и ждал, пока затянется рана.
Он признал себя побеждённым, и до рассвета они читали стихи — Вечный Шотландец читал стихи друга — о сухом жаре Персии, о волооких девушках, руки которых извиваются, как змеи, а Серёжа — шотландские стихи о застигнутом в зимней ночи путнике, о северной деве, что, приютив странника, засыпает между ним и стеной своего скромного дома. Наутро она шьёт путнику рубашку, зная, что не увидит его больше никогда — и Серёжа понимал, что это стихи про них, про бесприютную жизнь вечно странствующих поэтов.
Прощаясь на мосту через Шпрее, Серёжа подарил Шотландцу злополучную вилку, которую тот сунул в футляр для меча. Роберт, как Серёжа звал его по привычке, удалялся в лучах немецкого рассвета со своим нелепым мечом, и волосы его развевались на ветру.
И теперь, сидя в фальшивой ловушке, Серёжа понимал, что может убить обоих чекистов (а у него уже не было сомнения, кто это), выдернуть из жизни, как два червивых гриба из земли, оставив небольшие, почти невидимые лунки в реальности. Зарезать, скажем, вилкой. Или — ложкой… Нет, ложка исчезла во время медитативных опытов.
Но не то было ему нужно, не то. Поэтому он и был поэтом, что тащила его большая цель, а не звериная жажда крови.
Как зверю — берлогу, нужно было ему покидать своё место, потому что ошибся он с рифмой на слово Революция.
Гость достал откуда-то из недр пальто засаленный том и, шелестя рваными страницами, принялся читать вслух какие-то гадости — кажется, слёзное письмо Гали (стоны вперемешку с просьбами). Вот это было уже пошло — как-то совершенно унизительно. Он позволил себе не слушать дальше — про счастье и изломы рук, про деревянных всадников.
А вот он действительно знал, кто такие Деревянные всадники, что появились внезапно в высокой траве — едва лишь он сошёл с поезда у Константинова. Надо было убедить родных в собственном существовании (это удалось), но всюду за ним следовали Деревянные всадники — в одном из них он сразу узнал Омара, одного из Воинов Фатиха, который чуть было не зарубил его в храме пятьсот лет назад.
Деревянные всадники — вот это было бы действительно страшно, ибо только им дана власть над странствующими поэтами. Один из них гнался за автомобилем, в котором он ехал с женой. Деревянный всадник начал отставать — и, понял, что не может достать Серёжу кривой саблей. Тогда всадник-убийца рванул на себя синий шарф женщины и выдернул её из машины — прямо под копыта.
Серёжа не мог простить себе этой смерти — хоть и не любил жену. Мстить было бессмысленно — у Деревянных всадников была особая, неодолимая сила, и тогда он плакал, слушая, как удаляется грохот дубовых подков о брусчатку.
Аггелы — это не наивные и доверчивые чекисты, если бы он сейчас услышал деревянное ржание их коней на Исаакиевской площади, здесь, под окнами — весь план бы разрушился. А эти… Пусть думают, что поймали его в ловушку гостиничного номера.
Гость в этот момент завернул про каких-то гимназистов, и Серёжа нарочито неловко налил себе водки.
У водки был вкус разочарования — да, от красной иллюзии нужно уходить…
Вдруг человек в пальто прыгнул на него, и тут же в номер вбежал второй. Они вдвоём навалились на него, и тот, второй, начал накидывать на шею тонкий ремень от чемодана.
Поэт перестал сопротивляться и отдал своё тело в их руки.
Ловушка сработала. Сработала их ловушка. Но тут же начал воплощаться и его замысел. Пусть они думают об успехе.
Человек в чёрном ещё несколько раз ударил поэта в живот, и Серёжа запоздало удивился человеческой жестокости.
Он ждал своей смерти, как неприятной процедуры — он умирал много раз, да только это было очень неприятно, будто грубый фельдшер ставит тебе клистир.
Глухо стукнув, распахнулась форточка, и он почувствовал, что уже висит, прикасаясь боком к раскалённой трубе парового отопления.
«Вот это уже совсем ни к чему», — подумал он, глядя сквозь ресницы на чекистов, что отряхивались, притоптывали и поправляли рукава, как после игры в снежки. Один вышел из номера, а второй начал обыск.
Висеть было ужасно неудобно, но вот человек утомился, встал и скрылся за дверью туалета.
Поэт быстро ослабил узел, спрыгнул на пол и скользнул за дверцу платяного шкафа.
Ждать пришлось недолго.
Из глубины шкафа он услышал дикий вопль человека, увидевшего пропажу тела. Он слышал сбивчивые объяснения, перемежавшиеся угрозами, слышал, как они шепчутся.
Однако чекистам было уже не из чего выбирать, время удавкой схлёстывало им горло — подтягивало на той же форточке.
Сквозь щёлку двери поэт видел, как один из пришельцев вдруг зашёл за спину серёжиного двойника и с размаху ударил его рукояткой револьвера по затылку.
В просвете мелькнули ноги мертвеца, безжизненная рука — и вот новый повешенный качался в петле.
Чекисты ещё пытались поправить вмятины и складки гуттаперчевой маски, нервничали, торопились, и поэт слышал их прерывистое дыхание.
Когда, наконец, они ушли, Серёжа выбрался из шкафа и с печалью посмотрел в безжизненное лицо двойника. Прощаясь с самим собой, он прикоснулся к холодной, мёртвой руке, и вышел из номера.
Серёжа закрыл дверь, пользуясь дубликатом ключа, и вышел на улицу мимо спящего портье в полувоенной форме.
Ленинград был чёрен и тих.
Сырой холод проник за пазуху, заставил очнуться. Волкодав промахнулся — и ловушка поэта сработала, как, впрочем, сработал и чекистский капкан.
Теперь можно было двинуться далеко, на восток, укрыться под снежной шубой Сибири — там, где имена городов и посёлков чудны. Например — «Ерофей Палыч». Или вот — «Зима»… Зима — хорошее название. Почему бы не поселиться там?
Жизнь шла с нового листа: рассветным снегом, тусклым солнцем — сразу набело.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
21 марта 2015
(обратно)
Хорошая погода (День метеоролога. 23 марта) (2015-03-23)

— Папа… Папа… Папа… — Сын не унимался, и Сидоров понял, что так просто он не уснёт.
Дождь равномерно стучал по крыше, спать бы да спать самому, но сын просил сказку.
— Про гномиков, пап, а? Про гномиков? — Сидоров прикрутил самодельный реостат на лампе и вздохнул. — Ну вот слушай. Жил один мальчик на берегу большого водохранилища… Водохранилище было огромным — недаром его звали морем. Горы на другом берегу едва виднелись, но мальчик никогда там не был.
Он почти нигде не был.
— Я тоже нигде не был, — сказал сын из сонного мрака.
— Ты давай, слушай, — сурово сказал Сидоров, — сам же просил про гномиков.
— А будут гномики?
— Гномики обязательно будут. Мальчик жил на берегу… Так… Мать уехала из посёлка давно, и мальчик жил с отцом. Отца за глаза звали Повелителем вещей, оттого что отец работал ремонтником — и чинил всё. Сейчас он сидел в пустом цеху и возвращал к жизни одноразовые китайские игрушки, оживлял магнитофоны и автомобили, ставил на ножки сломанную мебель, паял чайники и кастрюли.
Много лет назад, когда посёлок возник на берегу водохранилища, там одновременно построили завод. Времена были суровые, и строительством завода ведал сам Министр Нутряных Дел и ещё двенадцать академиков. Завод получился небольшой, но очень важный. На этом совсем небольшом заводе много лет подряд делали очень большую Ракету. Посёлок тогда был не то, что сейчас — куда больше и веселее. Два автобуса везли людей на завод, а потом обратно. В кинотеатре крутили кино — по утрам за десять копеек детское, а вечером, за рубль — интересное.
Мальчик это помнил плохо, может, это были просто чужие рассказы, превращённые в собственную память — ему казалось, что он вечно сидит в своём доме, обычной деревенской избе на окраине посёлка. Правда печь давно не топилась — и тепло и огонь давал газ. Жизнь давно изменилась — и в доме редко пахло своим хлебом.
Но потом оказалось, что Ракета не нужна, или она вовсе построена неверно, и люди разъехались кто куда. Дома опустели, а саму Ракету разрезали на несколько частей. Из одного куска сделали козырёк над входом в кинотеатр, да только фильмов там уже не показывали.
— А у них были Испытания? — перебил не к месту сын.
— Конечно. Испытания — очень важная вещь, без них ничего работать не будет, — ответил Сидоров, а про себя подумал, что часто — и после. Он хлебнул спитого чая и продолжил: — На заводе осталось всего несколько людей, и среди них — Повелитель Вещей. Он привычно ходил на завод, а в выходные исчезал из дома, взяв рыболовную снасть.
Повелитель вещей замкнулся в себе с тех пор, как уехала жена. Мальчика он тоже не жаловал — за схожесть с ней.
А вот на рыбалке было хорошо — хоть никакой рыбы там давно не было.
Нет, посёлок, стоявший на мысу, издавна славился своей щукой,
сомом и стерлядью. Объясняли это идеальным микроклиматом, сочетанием ветров и холмов, приехали даже учёные-метеорологи и уставили весь берег треногами с пропеллерами и мудрёными барометрами. Но потом, когда начали строить Ракету, метеорологов выгнали, чтобы они не подсматривали и не подслушивали. К тому же одну важную и ужасную деталь для Ракеты при перевозке уронили с баржи в воду. И деталь эта была до того ужасна и важна, что вся рыба ушла от берега и рядом с посёлком теперь не казала ни носа, ни плавника.
Впрочем, в обезлюдевшем посёлке никому до этого не было дела.
Повелитель вещей просто отплывал от берега недалеко и смотрел на отражение солнца в гладкой солнечной воде. Возвращаться домой ему не хотелось — дом был пуст и разорён, а сын (он снова думал об этом) слишком похож на бросившую Повелителя Вещей женщину.
Когда отца не было, Мальчик слонялся по всему городу — от их дома до свалки на пустыре, где стоял памятник неизвестному пионеру-герою.
Однажды мальчик нашёл на этом пустыре военный прибор, похожий на кастрюлю. Мальчик часто ходил на пустырь, потому что там, у памятника безвестному пионеру-герою, можно было найти много странных и полезных в хозяйстве вещей. Но этот прибор был совсем странным, он был кругл и непонятен — даже мальчику, который навидался разных военных приборов. Можно было отнести его домой и отдать отцу, но мальчик прекрасно знал, что нести военный прибор в дом не следует, поэтому он положил кастрюлю на чугунную крышку водостока.
Тогда он стал представлять, как увидит гномиков.
Но только он отвернулся, чтобы открыть дверь, как услышал за спиной писк.
Бесхозный драный кот гонял военную кастрюлю по пустынной улице. От кастрюли отвалилась крышка, и из её нутра жалостно вопили крохотные человечки.
Мальчик кинул в кота камнем, и тот, взвизгнув, исчез.
Содержимое кастрюли высыпалось в пыль и стояло перед мальчиком, отряхиваясь.
Мальчик хмуро спросил:
— Ну, и кто будете?
Он привык ничему не удивляться — с тех самых пор, как из недостроенной Ракеты что-то вытекло, и несколько рабочих, попавших под струю, заросли по всему телу длинным жёстким волосом.
Ответил один, самый толстый:
— Мы — ружейные гномы. Есть у нас химический гном, есть ядерный — вон тот, сзади — который светится. Много есть разных гномов, но название всё равно неверное. Лучше зови нас «технические специалисты». Много лет назад мы были заключены в узилище могущественным Министром Нутряных Дел, и с тех пор трудились не покладая рук. И вот, мы на свободе, наконец, и даже избежали зубов этого отвратительного подопытного животного.
— Ну а теперь я вас спас, и вы мне подарите клад?
— Мальчик, зачем тебе клад? В твоём городе золото с серебром хрустит под ногами, а на свалке лежит химическая цистерна из чистой платины. Мы, правда, можем убить какого-нибудь твоего врага.
— У меня нет врагов, — печально ответил мальчик, — у меня все враги уехали. У нас вообще все уехали.
Технические специалисты согласились, что это большой непорядок — когда нет настоящих врагов. Каждый из них мог легко передать мальчику свой дар, но дар этот был не впрок. Гном с ружьём мог только научить стрелять, гном с колбой мог научить смертельной химии, гном с мышкой — смертельной биологии, лысый светящийся гном вообще не мог ничему мальчика научить, потому что только трясся и мычал. Правда, оставался ещё один, самый неприметный, с зонтиком.
— А ты-то за что отвечаешь?
— Я отвечаю за метеорологическое оружие. Правда, в меня никто не верит, оттого я такой маленький…
Но мальчик уже зажал его в кулаке и строго посмотрел в маленькие глазки:
— Ты-то мне и нужен.
Суббота началась как обычно. Отец собрал удочки, но только отворил дверь, как порыв ветра кинул в дом мелкую дождевую пыль.
Погода стремительно менялась, и отец удивлённо крякнул, но отложил снасть и принялся за приборку. Мальчик таскал ему вёдра с водой и подавал тряпки.
И в воскресенье стада чёрных туч прибежали ниоткуда, и, наконец, в воздухе раздался сухой треск первого громового удара.
На следующей неделе рыбалка опять не вышла — погода переменилась за час до выхода, и отец, вздохнув, снова поставил удочки к стене.
Так шло от субботы к субботе, от воскресенья к воскресенью — отец сидел дома. Сначала они как бы случайно встречались взглядами, а потом начали говорить. Говорили они, правда, мало — но от недели к неделе всё больше.
Вдруг оказалось, что Ракета снова стала кому-то нужна, и в посёлок приехали новые технические специалисты — нормального, впрочем, роста. Первым делом они оторвали от заброшенного кинотеатра козырёк и отнесли его обратно за заводской забор. Съехались в посёлок и прежние люди — те из них, что помнили о микроклимате, изрядно удивились перемене погоды.
Погода портилась в субботу, а в понедельник утром снова приходила в норму.
Сначала природный феномен всех интересовал. Первыми приехали волосатые люди с обручами на головах и объявили посёлок местом силы. Но один из них засмотрелся на продавщицу, и против него оборотилась сила всего посёлка. За ними появились люди с телекамерой. Красивая девушка с микрофоном снялась на фоне памятника пионеру-герою и сразу уехала — так что парни у магазина не успели на неё насмотреться.
Приезжали учёные-метеорологи, измеряли что-то, да только забыли на берегу странную треногу.
Так всё и успокоилось.
Погода действительно отвратительная — ни дождь, ни вёдро. То подморозит, то отпустит. И, главное, на неделе всё как у людей, а наступят выходные — носа из дому не высунешь.
Но все быстро к этому привыкли. Люди вообще ко всему привыкают.
Мальчик сидит рядом с отцом и смотрит, как он чинит чужой телевизор. Повелитель вещей окутан канифольным дымом, рядом на деревяшке, как живые, шевелятся капельки олова. Телевизор принесли старый, похожий на улей, в котором вместо пчёл сидят гладкие прозрачные лампы. Внутри ламп видны внутренности — что-то похожее на позвоночник и рёбра.
Недавно отец стал объяснять мальчику, что это за пчёлы. Но больше мальчику нравилось, когда отец чинит большие вещи. Тогда мальчик подавал ему отвёртки и придерживал гайки плоскогубцами.
Жизнь длилась, на водохранилище шла волна, горы на том берегу совсем скрылись из виду, а здесь, хоть ветер и выл в трубе, а от печки пахло кашей и хлебом.
Сидоров понял, что он давно рассказывает сказку спящему. Сын сопел, закинув руку за голову. Сидоров поправил одеяло, хозяйски осмотрел комнату и вышел курить на крыльцо.
Дождь барабанил по жести мерно и успокаивающе, как барабанил, не прерываясь, уже десятый год после Испытаний. За десять лет тут не было ни одного солнечного дня.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
23 марта 2015
(обратно)
В пуще (День заповедников. 13 января) (2015-03-24)

Леонид Абрамович переночевал на почте.
— Ничего удивительного, — сказал ему почтальон. — Вот лет пять назад мы бы вас вовсе не пустили. Только с охранением.
— Да у вас-то что? Поляки — не бандеровцы.
— Да у нас и бандеровцы были, — с некоторой обидой сказал почтальон, будто его родину кто-то хотел обделить. — Были, с юга заходили. И поляки были, все были. Но не в том дело. Это ведь всё война, война людей портит, и она почти десять лет как кончилась, а вот у нас всё не славно. Люди войною раненые, и других научились ранить.
Их слушал местный участковый. Участковый, судя по виду, был философ — с тремя медалями, две из которых были «За отвагу» — значит, видал лихо — глядел в потолок. Он смотрел на него, как смотрел бы Кант в звёздное небо. Как на загадку, что переживёт философа, и будет вечна — созвездия мушиных следов начали складываться ещё при Пилсудском, так, по крайней мере, казалось Леониду Абрамовичу. Он хорошо выспался в боковой комнатке, где пахло сургучом и польскими порядками — какой-то корицей и ванилью.
Ни война, ни движение границ не смогли вытравить этот запах.
Почтальон тут звался начальником отделения, но сам возил письма. Собеседников у него было мало, и он хотел длить разговор с гостем из Минска, да только разговор второй день был о том, что тут опасно и страшно, будто на передовой. А никакой опасности не было, и Леонид Абрамович это знал — потому как дотошно расспрашивал разное начальство перед полевой командировкой.
Всё кончилось, страна была сильна, как Пуща, что начиналась сразу за посёлком.
Пуща шла на многие километры на север и запад и была плохо описана. Не от того, что её никто не описывал или тут были какие-то тайны, а от того, что её описатели и исследовали разбрелись куда-то. Многих убили, когда они надели военные мундиры разных армий, а некоторых убили просто так. Их отчёты сгорели в Варшаве, Берлине и Минске, а то, что уцелело, предстояло прочесть заново. Стволы деревьев хранили в себе осколки и пули, не попавшие в людей, но война обтекла Пущу, потому что внутри этого леса воевать было бессмысленно. Там можно было только прятаться.
«Кажется, тут и прятались родственники жены», — вспомнил Леонид Абрамович. — «А, может, и не тут, вот загадка». Неизвестно где они прятались, но спрятались где-то так, что никто не смог найти их и по сей день. Леса проглотили Марию Моисеевну и мужа её Лазаря, и никто не знал их судьбы, кроме бога, что евреи не пишут полностью, русские писали с большой буквы, а Советская власть пишет с маленькой.
Жена, конечно, просила навести справки, но Леонид Абрамович никого не спрашивал, потому что жизнь отучила его наводить справки об исчезнувших людях.
Оттого он слушал начальника почтового отделения и улыбался.
Почтальон говорил долго, но завод в нем всё же кончился. Что-то треснуло в гортани, будто в механическом органе, он замолк и выразительно посмотрел на лейтенанта-участкового. Милиционер, который, слушая всё это, не слышал ничего, демонстративно перевёл взгляд с одной коричневой кляксы на потолке на другую. Призраки вооружённых лесных людей сгустились в почтовом отделении, постояли в воздухе как дымный столб над курильщиком, но исчезли. Приезжий, наконец, понял, что почтальону ещё и жалко лошадь.
Тогда Леонид Абрамович примирительно сказал:
— Да я и не настаиваю. А вот хотя бы завтра — поедет кто?
— Завтра-то? Завтра, дорогой товарищ, всенепременно поедут.
Вчера почтальон говорил ровно то же самое.
В этот момент с визгом отворилась дверь, и в почтовое отделение впал, споткнувшись о порог, крепкий жилистый человек с саквояжем.
— А вот и фельдшер. Вот вам фельдшер, — с надеждой выдохнул почтальон.
Фельдшеру нужно было в дальние деревни, и он взял Леонида Абрамовича с собой.
Они долго ехали вдоль опушки леса, лошадь брела задумчиво, будто философ.
— Вам правильно сказали. Места у нас непростые, лес дикий, одно слово — Пуща. — Он показал глазами — в подводе, прямо под рукой, лежал автомат с круглым диском.
— А кто тут? Не верю я в этих фашистов.
— Да разве поймёшь — кто, дезертиры, к примеру. Живут, чисто звери, — но выживают, потому как родственники есть. Оставит сердобольная мамаша коробчонок на опушке, а им-то мало надо. Они-то не с этого живут, а с Пущи. Но вас убьют не задумываясь. Они ведь уже и не люди, а часть живой природы. Вон у вас плащик какой справный. Да и ружьё.
— А немцы?
— Немцам-то что тут? Немец — культурный, он в лесу жить не будет. Да и то, кто из них у нас в плену сидел, уж давно дома. Даже аковцы пропали все. Лесника с собой чуть не увели, но наш Казимир решил остаться. Вы ведь ботаник? Ботаник? Так не будете древнего быка искать? Про древнего быка тут вам многие могут рассказать, но вы Каземира слушайте. Он прирождённый охотник, притом лишённый способности привирать в охотничьих историях. Так вот жизнь с ним распорядилась. Наука? Не знаю, с кем вы тут наукой хотите заниматься, немцы, вон, отзанимались. Все сгинули. Ну, Казимиру поклон от меня передавайте.
Казимир Янович оказался потомственным лесником давнего времени. И в прошлую войну он был лесником, и при Санации он ходил по лесу, и при Советах он был лесником, а как пришли немцы, то и они его не тронули, нужен им был лесник и охотник Казимир Янович.
Пред Гольденмауэром лесник робел, но всё же бумаги его прочёл внимательно, на слово не поверил.
Леонид Абрамович стал жить в охотничьем домике — добротном, сработанном в немецком духе немецкими руками. Камин, голова оленя на стене, душевая комната, впрочем, неработающая и затянутая паутиной.
На стенах чернели прямоугольники от каких-то исчезнувших фотографий, вот уже десять лет прошло, а их контуры не сравнялись со стенами.
Гольденмауэр занял гостевую комнату с роскошной кроватью, застеленную рваным бельём.
— Мне сказали, что у вас есть машинка…
Казимир вынес ему короб и убедился, что пишущая машинка в исправном состоянии, и действительно, с русским шрифтом. Могла быть с каким угодно — кто-то ему рассказывал, что нашёл где-то в Польше пишущую машинку и решил переставить на ней литеры. Но оказалось, что пишущая машинка имела не просто латинские литеры. На ней печатали справа налево — на иврите. И переделать её не было никакой возможности.
Куда сгинули её хозяева, никто, конечно, не знал. Куда вообще сгинуло всё — время просто заблудилось в чаще, как в этой Пуще.
— А откуда у вас советская машинка?
Лесник сказал, что писатели приезжали, забыли.
— Почему писатели?
Лесник непонимающе посмотрел на него.
— Пан, кто же знает, отчего становятся писателями?
— Да я не об этом. Из Минска?
— Нет, из Москвы. Я думал, что они напишут, попросят выслать, вещь-то дорогая.
Но они не написали.
Наверное, писатели в Москве богаты.
Внизу играло радио — большая немецкая радиола. Настроено оно было на Варшаву, и Леонид Абрамович заснул под печальные польские песни. Потрескивал и шипел эфир, да и в песнях было полно шипящих.
Утром радио молчало. Лесник объяснил, что электричество тут дают с перебоями: если оборвётся провод, так чинят неделю. Если бы офицеры не приезжали охотиться, то и вовсе бы не чинили. А он проживёт и так. Да и зачем днём электричество — днём и так светло.
Леонид Абрамович тщательно и аккуратно оделся, разметил по военной карте маршрут и двинулся в путь.
Он искал не только место для биостанции, но оценивал и взвешивал Пущу, постепенно понимая, что оценить её невозможно.
Пуща была огромна.
Это был отдельный мир — что-то из высшей математики, что ему читали в сельскохозяйственной академии. Курс был рудиментарным, но что-то Леонид Абрамович помнил до сих пор.
Однажды, где-то вдалеке, треснула ветка, и Леониду Абрамовичу почудилось, что он слышит разговор.
Он тут же спрятался — отошёл в сторону от тропы и стал за дерево. Звуки не повторялись. Что-то заухало, затрещало в ветвях в отдалении, дунуло ветром.
Ничего.
Но Леонид Абрамович был готов поклясться, что слышал людей. Можно было списать это на галлюцинации, но ещё не раз ему казалось, что кто-то идёт по лесу — по-хозяйски, но укромно, двигаясь по своим делам. Это были люди — неслышные и невидные под пологом леса, как жучок-типограф под корой.
Вернувшись, он спросил об этом лесника.
— А что там за люди в Пуще?
— Да кто знает, шановный пан… Жиды… То есть — явреи.
— Почему — «явреи»?
— Так как явреев гонять начали, некоторые сюда побежали. Кто из городских да образованных был, те сразу перемёрли, а кто из простых был — ушли дальше в болота. Их ведь ловить — себе дороже. Там, поди, и живут.
— Да ты ловил, что ли, дедушка?
Казимир Янович насупился вдруг и больше не отвечал.
А пока они жили параллельными жизнями, почти не соприкасаясь.
Леонид Абрамович возвращался в домик лесника всё позже, а когда зарядили дожди, стучал на машинке.
Однажды к ним в домик заехал фельдшер.
Казимир Янович, судя по всему, его очень уважал. Фельдшер сидел в огромном кресле, положив ноги на скамеечку. Прямо на ней сохли носки.
— Нашли что-нибудь интересное?
Гольденмауэр рассказал, что немецкого тура так и не увидел.
Он много слышал про след странного эксперимента по возвращению древнего животного — впрочем, говорят, это была обманка. Внешне это был тур, а внутри — обычная корова.
Фельдшер в ответ заметил, что теперь наука делает чудеса, и радиация может создавать много новых причудливых существ. Здесь во время войны был один русский из Берлина, вот и Казимир Янович подтвердит, он на этой теме специализировался.
Рептилий разводил при помощи атома.
— А вы тут были, что ли?
— Не я, а Казимир Янович. Я в другом месте был.
— Да где же?
— Я на Колыме был, пятнадцать лет подряд. КРТД, хотя вам это ничего не скажет. Я ведь — троцкист, Леонид Абрамович.
— В смысле — по ложному обвинению…
— Ну, отчего же ложному. Троцкист, да. Настоящий, лжи тут нет, и тут я согласен с Особым совещанием. Помните Особое совещание — «ОСО — два руля, одно колесо». Да только дело это прошлое, скучное — одно слово, я тут недавно. Теперь ко мне претензий не имеется, о чём располагаю справкой.
Но про корову эту в виде тура, я как раз там слышал.
Я ведь с разными людьми сидел, и кабы не медицинский навык, давно истлел бы с ними. Знаете, есть такая теория — ничего не исчезает, всё как-то остаётся. А ведь на земле каждый день умирает какой-то вид, ну, конечно, не коровы эти, а мошки. Кто мошек пожалеет? Никто. Но вдруг природа их всех откладывает в какой-то карман — на всякий случай, для будущего. И, придёт час, они понадобятся и прорастут. А пока они сидят в своём кармане, ждут нужного часа, скребутся и выглядывают.
Про немецкие коровы — правда.
Человек же вечно норовит изобрести что-то, да только в итоге изобретает что-то другое. Поплывёт в Индию, откроет Америку. Решит облатки лекарственные делать, военные газы изобретёт. Так и тут — хотели тура, а вышло чёрт те что. Вы сходите, сходите к селекционной станции, далековато отсюда, но за день управитесь.
Леонид Абрамович только покачал головой.
Он вышел на следующее утро — на рассвете, в сером и холодном растворе лесного воздуха. Он действительно шёл долго, полдня, пока, наконец, не достиг точки, которая была помечена на карте — (разв.)
Развалины были налицо, хоть и выглядели не развалинами, а недостроенными домами.
Леонид Абрамович с опаской подошёл к этому сооружению.
Оно напоминало ему бронеколпаки военного времени. Он видел их много — на финской границе. Взорванные в сороковом, наскоро переделанные год спустя, они и после войны хранили былое величие.
Но тут замысел был очевидно мирный.
У здания была устроена площадка, явно для стоянки и разворота автомобилей — видимо, хозяева рассчитывали на гостей.
Дорога, когда-то основательная, была занесена палой листвой и уходила куда-то вдаль.
То, что он принял за долговременные огневые точки, оказалось зданием, похожим на казарму.
Прочное, сделанное на века, оно напоминало древнего зверя, затаившегося в лесу. Справа и слева его замыкали круглые купола.
Леонид Абрамович с опаской осмотрелся — сорок второй год в болотах под Ленинградом научил его безошибочно находить мины по изменённому цвету дёрна, по блеснувшей вдруг проволоке, но, главное, — по наитию.
У него был нечеловеческий нюх на опасность.
Тут опасности не было — был тлен и запустение.
Он быстро понял, в чём дело, — здесь никто никогда не жил.
Разве только начали работать в одном из флигелей под куполом.
Стройка не была закончена, будто польский магнат, замахнувшись на великое сооружение, неожиданно разорился. Магнат был, впрочем, не польский, и разорение было закономерным.
Теперь единственными обитателям заброшенного места были две статуи — одна упавшая, а другая — только покосившаяся. Наклонившийся серый человек со странным копьём был похож на пьяного, а его бетонный товарищ уже лежал близ дороги.
Леонид Абрамович прошёл чуть дальше и понял, что стоит на краю болота.
Отчего-то сразу было понятно, что вот это — край. До этого был лес, хоть и сырой, но лес, а вот тут, с этих полян начинается и тянется на десятки километров великое болото.
Что-то ухнуло вдали, прошёл раскат, затем булькнуло рядом, и на Леонида Абрамовича обрушилась лавина звуков, которые понимал не всякий человек.
Да и он, считавший себя биологом, понимал лишь половину.
На минуту ему показалось, что он стоит на краю огромной кастрюли, наполненной биомассой, и в ней бродит, перемешиваясь, какая-то новая жизнь.
Внезапно в стороне, он успел заметить это периферийным зрением, пробежал кто-то маленький и с разбега плюхнулся в воду. Ряска сомкнулась за ним, и всё пропало.
Похоже было на бобра, но с каких это пор бобры бегают на задних лапах?
Присмотревшись, Леонид Абрамович увидел следы маленьких лапок. Это был не бобр, а ящерица, кое-где касавшаяся глины хвостом.
Эта ящерица бегала на задних лапах — вот удивительно.
Он подумал, что судьба дала ему в руки внезапное открытие, славу, может быть. Боже мой, он никогда не занимался ящерицами. Да что там, он был даже не ботаник, а агроном. Но и эту науку выколотило из него за четыре года войны и ещё три года службы после. Теперь-то он может доказать этим дуракам, что он — настоящий. Что его дело — лес, а не отчёты в хозяйственное управление.
Он так и не успел защититься — защита была назначена на сентябрь сорок первого, и в её день он стал начхимом полка, отступавшего к Ленинграду.
Потом он стал администратором, и хорошим администратором, именно поэтому его перевели в Минск — на усиление.
Он ведь был оттуда родом, вот и анкетные данные и провернулись, будто шестерёнки, выбросив его из Ленинграда — да и то хорошо, потому что в Ленинграде вскоре стало неуютно.
То, что он выторговал себе эту командировку, было, скорее, отпуском от бумажной работы.
Нужно только было писать отчёты.
Но за отчёты платили, как всякий хороший администратор, он хорошо умел их писать. А деньги были нужны, девочки болели, они вообще росли бледными, и врачи рекомендовали Крым и фрукты. Крым был далеко, он был недёшев, а за два месяца экспедиции в Пущу платили кормовые и полевые.
Если бы он был царём, то немного бы шил — он вспомнил этот старый анекдот, который любил его тесть.
Ящерицы… Надо поймать хотя бы одну, да как поймать? Поставить силки?
Мысли прыгали в голове, как зайцы.
Чтобы успокоиться, он сел на трухлявое дерево и достал коробочку с таблетками.
Очень хорошо, я прихожу в себя, всё прошло, надо двигаться домой.
Он раскрыл пишущую машинку, отставил её жёсткий короб и начал настукивать: «Академия наук БССР. Отчёт об экспедиции полевой группы Института биологии.
В продолжение доложенного ранее, сообщаю, что наиболее привлекательным местом для строительства биостанции является…»
Машинка лязгала и заедала, но давала, тем самым, время на обдумывание.
«Сооружение, на вид крепкое, требует, конечно, дополнительного обследования, в ходе которого…»
Ящерица не давала ему покоя.
Чем ловить — мышеловкой?
Нет, писать в Академию можно, только имея образец.
Прежде чем сообщить хоть кому-то про ходячую ящерицу с хвостом-балансиром, он отправился к болоту ещё раз — уже на охоту.
Леонид Абрамович блуждал долго, пока вдруг не остановился перед препятствием.
На тропе перед ним лежала туша бобра. Это был гигантский матёрый бобр, но половину его кто-то уже съел. Причем этот кто-то был очень маленький, судя по укусам.
Вдруг из кустов выскочила та самая странная ящерица на двух ногах и остановилась перед ним. Ящерица зашипела, очевидно, защищая свою добычу.
Леонид Абрамович пригляделся — в зарослях папоротника притаилось с полдюжины таких же.
«Вот тебе и редкий вид», — подумал он ошарашено.
Понемногу пятясь, он покинул поле противостояния
Ящерицы вылезли из зарослей и присоединились к вожаку. Мгновенно они объели бобра до костей и удалились, медленно поворачивая головы, осматриваясь — нет ли чего ещё интересного.
Леонид Абрамович благоразумно спрятался.
«Храбро спрятался», — как он сам говорил про себя, когда вспоминал разные кампании по проработке и искоренению недостатков и вредительства. Во время любых катаклизмов выживают самые маленькие, больших выкашивает эволюция, а маленькие живут дольше — так он себе это объяснял. В молодости он был большим общественником, а теперь вот — стук-стук, чужая машинка лязгает под ревматическими пальцами.
Из больших общественников не выжил никто, а он — вот, маленький человек, администратор без степени, бумажная душа.
Бывший агроном, отставной майор.
Реликт.
Вечером он спросил у лесника капкан.
Лесник посмотрел на него с опаской:
— Не на кабана пойдёте? Нет?
— Нет, не на кабана, да и отчего не на кабана?
— Кабанов бойтесь.
И вдруг Казимир Янович пошутил. Это было очень странно и забавно, он раньше не шутил, и это было так, будто бы заговорил домашний кот.
— Не петш, Петша, вепша пепшем, бо пшепетшишь, Пешта вепша пепшем, — произнёс лесник. — Так это только в присказках смешно. В прошлом году приезжали два шановных пана, да хотели охотиться. Из Москвы. С офицерами приехали, так напоролись на кабана, а он их на дерево загнал — они по нему из шпалеров садят и даже из русского автомата, а у него шкера толста, пули застревают в сале, ну и он, вепрь, кабан значат, с ума сходит. Пока они вчетвером на дереве сидели, как игрушки на ёлке, у них-то с виллиса две канистры бензина увели.
Леонид Абрамович усмехнулся.
— Нет, не на кабана. Мне на зайца нужен капкан, или ещё даже меньше — нулевой номер.
Леонид Абрамович взял капкан, что был похож на старую проржавевшую мину, и двинулся в лес.
Ещё в прошлый раз он присмотрел странное гнездо прямо на земле. Гнездо явно не было птичьим, и яйца еле виднелись из-под слоя земли в нём.
Буквально через пятнадцать минут он услышал резкий щелчок и неожиданно громкий вой. Так мог бы выть волк, но звук был утробным, низким, похожим на рык.
Выглянув, он увидел, что ящерица сидит в капкане.
Вернее, она даже лежит — длинный хвост ходил параллельно земле. Только он изготовился, как из кустов выскочили три такие же, но несколько меньше в размерах. Они набросились на соплеменника, или, скорее, соплеменницу, и начали рвать ей шею. Зажатая в капкане, она сопротивлялась, но недолго.
Причём один из маленьких хищников занял оборонительную позицию и караулил Леонида Абрамовича. Потом его сменил наевшийся, а на поле битвы остался капкан с зажатой в нём лапой, одиноко торчавшей в небо. Ну и остатки шкуры и костей.
Вздохнув, Леонид Абрамович собрал всё это в мешок, а потом решил прихватить и яйца — сунул несколько в котелок.
Дома он выбрал два неповреждённых яйца и положил их, прямо в котелке, в тёплый круг лампы.
Он стучал на машинке, ощущая, что в котелке начинается новая жизнь.
Фельдшер сидел у лесника.
— Вы, Леонид Абрамович, всё же из леса ничего не несите, не надо это. Вот и Казимир Янович вам подтвердит.
Администратор без степени ни в чём не признался, но возразил:
— Скоро поставим тут биостанцию, как не носить. Не по лесу же с микроскопом бегать.
— Воля ваша. Да только зачем вам микроскоп, когда вы древнего тура тут ищете. Нету тут тура никакого.
— А немцы говорили, что есть.
— Видите ли, Леонид Абрамович, немцы — люди упорные. А многое в жизни получается, если упереться рогом и ждать результатов. Вот у них и получилось.
Рогом, хехе. Мои несчастные товарищи плакали, когда рассказывали мне про этот метод обратного скрещивания и половой диморфизм. Народные академики скрестили этих моих товарищей так, что мало не покажется. У немцев тогда получилась такая странная корова. Но это не тур, конечно.
Походя они открыли много всего полезного.
Это ведь очень красивая идея была — воссоздать тут девственный лес. Что такое «девственный» — никто не понимает, но звучит-то как! Девственный!
Казимир Янович закивал, как китайский болванчик.
— Ряженые древние германцы… — продолжил фельдшер. — Ряженые германцы охотились бы на гигантских медведей, да и на этих самых туров. Вы ведь наш охотничий домик со всех сторон видели, всё осмотрели? Вот это с тех времен. Рейхсмаршал сюда приезжал, вон этот чёрный прямоугольник у вас над головой — там был его портрет со свитой.
Нет больше рейхсмаршала, как мамонтов нет. Вымерли.
В этом заключена великая правда природы — что не нужно, так прочь его с доски. В карман, в карман!
Не о том я хотел вас спросить — вы точно меня не помните? Согласен, как тут помнить, столько лет прошло, а нам не было ещё двадцати. Помните ноябрьские праздники двадцать седьмого? Вы несли портрет Зиновьева на демонстрации, а я шёл рядом с портретом Троцкого, и, помните, нас вдруг начали бить? Полетели камни… Вы меня прикрыли, я ведь нёс листовки, ещё не успел бросить — «Выполним завещание Ленина», «Долой нэпмана и бюрократа»… Мы с вами прятались в одном подъезде, нам боялись открыть двери и мы дошли до чердака — вы же учились в Тимирязевской академии, а я — во 2-м МГУ. Помните, мы дождались темноты и разошлись?
Я-то всё помню. И с нами ещё эта была… В высоких таких ботиночках, как раньше курсистки ходили… Не помните? Она мне в Бодайбо, когда я доходил, снилась всё. А имя забыл тогда спросить.
А на следующий день меня жизнь спрятала в карман, вот так — раз! — и в карман. Листовки это дело такое, клейкое. Не надо было в общежитие напоследок заходить. В карман! А уж потом, кто из кармана вынет доброй рукой, а так-то голову страшно высунуть, посмотреть, как там, что там…
Леонид Абрамович присмотрелся и понял, что фельдшер-троцкист совершенно пьян, видать, кто-то угостил его с утра мутным картофельным самогоном-бимбером.
Фельдшер был пьян, но ещё больше упивался своей картофельной свободой.
Вернувшись к себе в комнату, Леонид Абрамович увидел, что котелок опрокинут, а на столе сидит маленькая ящерица.
Она неловко спрыгнула со стола на стул, а оттуда на пол. Ящерица приблизилась к его ноге, и Леонид Абрамович решил, что она хочет напасть на него. Но нет, она ждала чего-то.
Тогда ботаник пошёл в угол — ящерица, балансируя хвостом, побежала за ним, он двинулся в обратную сторону — ящерица повторила его движения.
Он вспомнил цыплят, что ходят за первым, кого увидят, появившись на свет.
Тогда он бережно поднял новорождённую ящерицу за середину туловища и посадил её в пустую плетёную корзину.
В неё собирали грибы, и даже запах она сохранила — тонкий, мирный грибной запах, неизвестно, правда, с какого года.
— Вот и хорошо, милая.
В этот момент маленькая ящерица развернулась и больно укусила его за палец.
Жадно, до крови.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
24 марта 2015
(обратно)
Диалог MCXVIII (2015-03-29)
— Володичько, песать надо лучше.
— Поздно.
— Никогда не поздно писателю Земли Русской прийти к Богу. Покайса, анафеме.
— Я, брат Мидянине, с Богом говорю по утрам и ежечасно. А ты — безбожник и слуга тёмных сил. Ты же ради тела погубил душу, презрел нетленную славу ради быстротекущей и, на человека разъярившись, против бога восстал. Пойми же, несчастный, с какой высоты в какую пропасть ты низвергся душой и телом! Сбылись на тебе пророческие слова: «Кто думает, что он имеет, всего лишится».
— Вот ты развоевался, бес. Эк тебя слова правды корежат. А помрешь, так завоняешься небось, как тот старец Зосима.
— Вот и вижу, что змеиный яд ты спрятал под языком своим, и каменты твои на вкус горше полыни; как сказал пророк: «Слова их мягче елея, но подобны они стрелам». И ты, не будучи христианином, ещё русские деньги берёшь у людей, и клавиши жмёшь, изрыгая яд, подобно бесу. Что ты, собака, совершив такое злодейство, пишешь и советуешь?! Чему подобен твой совет, смердящий гнуснее кала? Сам пиши лучше.
— Да, да. Тебе со мной лаяться честь, мне с тобою бесчестье, все дела. Паче кала смердяй, живяху звериньским образем. Носу перстом не чисти.
— У тебя, собака, и носа нет. Одни ноздри рваные.
— Сам собака. Коллаборационист.
— Что, передохнул и вновь открыл злобесный рот свой? Бес гунявый, и слушать тебя в приличном месте зазорно, ступай к поросям в сено коричневое. Среди коричневого тебе и место.
— Да ты, холоп, не уймёшьсо!..
— Ишь, снова, собака рот открыл — ишь, пасть смердяча, зубы гнилые, жижа с языка каплет… Жы-ы-ыжа! Жы-ы-ыжа!
— А… да ты бесноват. Не жужжи, постой, дай сусала тебе утру ветошью.
— Да ты и в лицо мне брызжешь! Прожуй свое коричневое, прежде, чем лаяться. Ишь, падолище! Лишь, пес, снова вылез к людям, шелудивым боком тереться… Ступай в Литву, проказа!
— Хватит, хватит, ты уже всем доказал, что в Гугле тебя еще не забанили, хоть это и прискорбно.
— Смотри, Православный народ, тать этот в нощи не уймется. В плащ завернись и Лысую гору лети, солоха, бренча своими монистами… Нет, нет, не успокоюсь! Прилежно б ты учился русской литературе у приличных людей, вот как я, к примеру, — тебе не то, что гугль, так я Яндекс не понадобился. Тьфу!
— Вася, Владимир Сергеич, люблю Вас to the moon and back, как говорят наши заокеанские друзья. Ваши диалоги — единственно услада ввечеру-с.
— Весь вечер на арене — Тарталья и Панталоне.
— Василий, а кто Панталоне, ты или Владимир Сергеич?
— Не знаю, честно говоря. Но если брать более близкие нам культурные реалии, то мы двое весьма напоминаем мне дуэт Стюи и Брайана из мультсериала "Гриффины". При этом я скорее первый, а Владимир Сергеич скорее пёс. Из Википедии: "17 серия восьмого сезона. Брайан и Стьюи отправляются в банк, где пёс хочет положить кое-что в ячейку на хранение. За ними случайно захлопывается бронированная дверь, и друзья оказываются запертыми, а рабочий день в банке уже окончен. От переживаний Стьюи пачкает свой единственный подгузник, а после, опасаясь, что от этого у него по коже пойдёт раздражение, под дулом пистолета заставляет Брайана съесть свой кал. Наблюдая за этим, Стьюи тошнит, и Брайану также приходится подъедать и рвоту. У Стьюи есть с собой мобильный телефон, но он тратит единственный звонок, пока не села батарея, на магазин одежды. Приятели решают подремать, но вскоре понимают, что завтра — воскресенье, а значит, сидеть им здесь ещё долго. Проснувшись, Брайан решает выпить виски (и оружие и алкоголь хранились в его ячейке), угощает Стьюи, и в итоге оба напиваются. В результате совместного распития между ними возникает ссора: Брайан утверждает, что людям есть чему поучиться у собак, что только у собак есть цели в жизни. На что Стьюи едко замечает, что у самого Брайана этой цели нет, и что он вообще ему не друг, а «мимолётное увлечение». Стьюи всё-таки стреляет из пистолета, и друзьям приходится укрыться под столом, сидя в обнимку, так как пуля бесконечно рикошетит от металлических стен. В этот момент они извиняются друг перед другом. Вскоре у Брайана новая вспышка ярости: оказывается, у Стьюи всё это время с собой была пища, которую он утаивал. Когда пёс успокаивается, начинается разговор «по душам»: Стьюи спрашивает, зачем Брайан хранит здесь пистолет, на что тот признаётся, что, возможно, он скоро совершит самоубийство, так как никак не может найти цель в жизни. Растроганный Стьюи отвечает, что Брайан нравится ему больше всех из их семьи, оба признаются в любви друг другу. Брайан начинает читать Стьюи книгу, и тот засыпает. На следующее утро дверь открывается, и Брайан нежно выносит на руках спящего малыша". Разве же это не про нас с батюшкою Березиным?! Скажы? Скажы?!
— Мне что нравится в Вашем дуэте, так это его станцованность, видно, что бросала молодость на кронштадский лед именно вдвоем, а не порознь. Умилилась искренне. И "Гриффины", да.
— Да, эта парочка из Гриффинов регулярно начинает выдавать какой-нибудь слаженный концертный номер из мюзикла. Прямо как мы с батюшкою.
Извините, если кого обидел.
29 марта 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-04-06)
А вот вопрос, довольно общий и довольно странный.
Все в школе учили историю про Крестовые походы, и отвечали у доски (если придётся) о ом, что Крестовые походы окончились неудачей по объективным причинам. Советские учебники были жёстки в своей правоте — феодальная природа этого предприятия была такова, что Иерусалимское королевство было малоуправляемым, экономика — тупиковой, ну и марксизм в очередной раз корчил рожи идеализму.
Не говоря уж о том, что сама демографическая картина была не в пользу крестоносцев, будь ты сколь угодно убеждён и вооружён технологиями, твоя сила вязнет в чужом численном превосходстве и истончается климатом.
Но вопрос в другом: вот что могло бы привести к успеху самого предприятия?
Какая сила, политические решения или вовсе чудо. (Некоторые политические решения на расстоянии кажутся чудом).
Скажем к тому состоянию альтернативной истории, когда до сих пор существовало бы Иерусалимское королевство, находилось бы в дружеских, но холодноватых отношениях с Израилем, ну и… Да нет, неважно даже, дожило ли оно бы до наши дней, заключались бы хитроумные соотношения между Николаем II и Болдуином XII перед высадкой англичан и французов в Акко.
Нет, ну вот что подправить в истории крестоносцев, чтобы она стала не глуповатым сюжетом про попаданцев, а упражнением для ума.
Извините, если кого обидел.
06 апреля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-04-08)

Он говорит: «А я всю жизнь бананами занимался. Бананы ведь для нас была такая диковинка — праздничный фрукт, похожий на кривой огурец. Это ведь — ягода, как и арбуз, об этом многие в школе узнали. Но что бананы разные, многие не ведали. Жрали всю жизнь кормовые бананы, так до смерти и не узнав, что они — кормовые. А, вообще-то, их сотни сортов. Меня ещё при прежней власти перевели в Эквадор — так, доложу я вам, там бананы что-то вроде нашей нефти, ну и розы конечно, в Москве все розы были эквадорские, но я про бананы рассказываю. Причём, там своя мафия.
Ты поди, попробуй, сам там бананы выращивать, всё уж поделено, еле ноги унесёшь, вот что я тебе скажу.
А то и не унесёшь. Но и этих хозяев жизни можно прочувствовать, как дозревающий банан. Взять в руки и понять.
Не пальцы гнуть, не гоношиться, а сделать потихоньку своё дело.
Так что лучше меньше, да лучше.
У меня за забором одна пальма — хоть это не пальмы вовсе — была, но так, для забавы. Дочь приезжала, и говорит: “А что это они у тебя такие маленькие?” Не знала, что маленькие — это самое то.
Мы-то к кормовым привыкли.
А больше — не значит “лучше”.
Нам и красные бананы были неведомы, и с яблочным вкусом, и прочие, и вовсе не имеющие у нас названия.
Ну, тут у нас всякая перестройка случилась. Я к этому был подготовлен — в моих банановых рощах раз в год революции случались, мало — в два. Да только тем, у кого бананы в руке, революция — не помеха.
Тут бананы и пригодились. Я по цвету мог многое сказать — вот сероватый, к примеру, подмороженный, а зеленоватый никогда не дозреет. Или видно, в какой плёнке бананы везли — в полипаке или в хайденсити. А у нас тогда и слыхом не слыхивали, зачем в процессе этилен, скажу я вам.
И страна такая, вместо какой своей валюты на руках привычные нам баксы. Только металлический доллар им чеканить разрешили — на нём индианка с младенцем, с надеждой в глазах. Бананы б нарисовали.
Но и не в этом мой рассказ.
Был у меня одноклассник, в смутные времена стал он риелтором. Занятие это было не легче, чем у лётчика-испытателя. Вон, у нас в Жуковском полкладбища таких рисковых.
Испытателей, конечно.
Впрочем, вторая половина, кажется, уже из риелторов.
И решил этот мой одноклассник, от греха подальше, переменить участь. Захотел бананами торговать. Я ему объяснял, что хуже нет, от тоски и страха бананами заниматься. Бананы нужно чувствовать. Это не смешной фрукт, не праздничный дуралей, а фрукт хитрый, Фрукт себе на уме.
Но меня этот риелтор не слушал.
Продал какую-то квартиру, может статься и свою, наверное, ещё что-то продал, купил большую партию бананов и погнал куда-то в Сибирь.
В Томск. Или, может, в Новосибирск.
Поезд едет себе, едет, а этот бывший риелтор, знай себе, прибыль подсчитывает.
Да только на наших железных дорогах может всякое случиться, ну и, разумеется, случилось.
Встали его рефрежираторы посреди Сибири на запасном пути.
По неизвестной, а значит, обычной причине.
Стали посреди сибирской жары, где тридцать градусов и плавится асфальт, если бы он был.
Ну и через некоторое время перестали холодить холодильники.
А в Томске жара. Или там, в Новосибирске.
И товарищ мой ловит по телефону новости, и думает, прямо так сразу повеситься, или дождаться того момента, когда за ним владельцы квартир придут.
Потому что бананы — хитрый фрукт. Отрицательных температур они вовсе не терпят, при плюс восемь полчаса проживут, при девятнадцати — трое суток. А выше двадцати одного бананам и вовсе очко наступает, вернее — перебор. Превращаются они тогда в жидкую чёрную массу.
Я же говорю — особый фрукт.
Можно сказать, ягода.
Ну и покрылся мой риелтор крупным потом и впал в ступор.
Даже звонить на железную дорогу перестал.
Три дня стояли его рефрижераторы на какой-то станции, а потом — ничего, подвели тепловоз, дёрнули и приехали в Новосибирск. Ну, или в Томск.
Но все эти три дня стояла вокруг его состава аномальная погода в тринадцать градусов.
Вокруг пожары, жара, озёра сохнут, великие реки мелеют.
А там — тринадцать градусов. Ну, или тринадцать с половиной.
Самое то, что бананам нужно.
То, и больше ничего.
Получил мой одноклассник свои деньги. Пришёл, поблагодарил за наводки и советы, а потом и говорит:
— Нет, ну их, эти твои бананы, я лучше квартирами буду заниматься. С квартирами как-то проще, там этих твоих плясок с бубнами не нужно. Там, коли можешь сталинку от панели отличить, то всё хорошо. Ну, а хрущоба всё равно больше моей жизни простоит, не испортится.
С тем и пошёл.
Правда, через год его застрелили.
Ну дело-то житейское.
Я не только в Эквадоре такое видел.
Я честно скажу — возникло у меня тогда недоверие к этой его риэлтерской простоте.
Наверняка и с квартирами вдохновение нужно.
Но с бананами его нужно, разумеется, больше».
Извините, если кого обидел.
08 апреля 2015
(обратно)
Долгая, долгая жизнь (День здоровья. 7 апреля) (2015-04-08)

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
7 апреля
(долгая, долгая жизнь)
Иосиф, тяжело дыша, протиснулся через щель в заборе. Очутившись на улице, он пошёл медленно — только безумец мог бежать по утренней московской улице, чтобы скрыться от любопытных глаз.
Человек в пижаме пошёл медленно, высматривая просвет в длинной череде заборов. Нырнув в один из дворов, он появился обратно через несколько минут, уже в чьей-то гимнастёрке и штанах, ещё хранивших складку от бельевой верёвки.
На трамвайной остановке он украл бумажник и, не трогая крупных денег и мелочи, пообедал по талону в рабочей столовой. Город он знал плохо, но в своей жизни он видел множество городов и сейчас легко угадывал, куда идти. На рынке у Киевского вокзала он безошибочно определил торговца краденым и прикупил сносный пиджак. Так же задёшево Иосиф разжился потёртым портфелем, явно тоже ворованным.
Человек, продававший портфель, предлагал купить и содержимое, но в таких обстоятельствах и смотреть на чужие бумаги не стоило.
Иосиф покинул его и, как нож сквозь масло, прошёл через толпу — только одна сцена заинтересовала его. Женщина торговалась с крестьянкой из-за курицы. Она азартно спорила, взмахивала руками, сама похожая на суматошную курицу.
Беглец шёл по одной из малых улиц, что ручейками впадают в Садовое кольцо.
Наконец, он услышал то, что хотел услышать — стук пишущей машинки. Он сел в тополиную тень и стал ждать. Стук замолк, и из подъезда, торопясь, выскочил человек в шляпе. Переждав немного, Иосиф легко открыл замок и залез в квартиру. Пишущая машинка стояла посередине письменного стола.
Беглец заправил в неё чистый лист и мгновенно отпечатал несколько удостоверений и тут же, с помощью чернильной ручки и ластика, изобразил на них печати. Он умел подделывать печати с помощью резины, кожи, варёных яиц и сотней других способов — и с развитием цивилизации это было всё легче и легче. Этому искусству его обучил один константинопольский турок, которого давно не было на свете. Удостоверения просили оказывать всемерное содействие вымышленным людям. Только имя было в этих бумагах правдой.
Всё это делалось быстро и споро — за годы скитаний он привык убегать. Теперь, перестав торопиться, он осмотрел комнату пристальнее — на него сурово смотрели портреты со стен. Глядели вниз старики и старухи, какие-то люди в шляпах, среди которых повторялся один человек, видимо, хозяин. На самой большой фотографии сидел хозяин в обнимку с красивой женщиной. Этого хозяина он, кажется, видел — лет десять назад, в Киеве.
Обстоятельства тогда были довольно неприятные.
Тогда его поймали петлюровцы — прямо у памятника святому Владимиру. Патруль подошёл к Иосифу сзади, и бежать было некуда, разве сломать шею на склоне. У него даже не спросили документов, а внешность говорила сама за себя. Им вовсе было неважно, как его зовут — Иосиф или Хаим. Даже то, что он был выкрест, его спасти не могло. Двое вытащили шашки и ударили его по спине — сперва просто взрезая полушубок, желая натешиться.
Но всё дело им испортил мальчишка в новом жупане. Он выхватил наган и расстрелял в Иосифа сразу весь барабан. Отец, бывший тут же, отвесил сыну затрещину, но было поздно.
Патруль ушёл разочарованный, а зеваки разбрелись. И среди них был этот, с фотографии на стене, Иосиф сразу узнал его. Правда, тогда рядом с этим человеком была другая женщина. Но это не удивительно — люди во время гражданской войны сочетаются быстро и причудливо, как стекляшки в калейдоскопе.
Мальчишка стрелял плохо, револьвер плясал в его руке, однако мальчик два раза попал в серебряный портсигар, прикрывавший сердце.
Через два дня Иосиф очнулся в незнакомом доме и долго не мог понять, с кем он говорит. С бородатым рабочим или своим заклятым другом, который всегда снился ему в трудное время перемены участи. Его лицо было залито кровью, точь-в-точь как лицо Иосифа сейчас. И Иосиф по-прежнему был перед ним крепко виноват, несмотря на то, что судьба отомстила Иосифу сторицей.
К неприятным обстоятельствам было не привыкать.
Он ещё раз всмотрелся в портрет, в книги, расставленные повсюду. И от его взгляда не ускользнуло то, что на одном из снимков в объектив щурилась женщина, только что торговавшая курицу у Киевского вокзала.
Усмехнувшись, он вынул из ящика стола фотоаппарат — дорогой и хороший. Застёжка щёлкнула, и аппарат раскрылся как гармонь. Ярким зайчиком подмигнул объектив. И тут же, сложившись обратно в плоскую коробку, фотоаппарат скрылся в ворованном портфеле.
Он задумался, не лучше ли чуть отъехать от Москвы, и уже там искать путь на юг. Можно было попытаться сразу двинуться на один из вокзалов — и лучше всего подходило их троецветие на Каланчёвской площади
Поколебавшись, Иосиф всё же двинулся на Каланчёвку.
Купив газету, он притворился встречающим, а сам стал высматривать подходящий поезд. И вот, на дальнем пути обнаружил один, всего из шести вагонов. Вокруг толпились отъезжающие и провожающие, мешаясь друг с другом. Среди провожающих он увидел женщину с газетным кульком, откуда торчали культи варёной курицы.
Женщину он узнал сразу, это ведь её он только что видел на базаре. Правда, курица с тех пор сильно изменилась.
Он, уцепив за рукав железнодорожника в фуражке, быстро спросил, махнув в сторону короткого поезда:
— Во сколько уходит литерный?
Поезд уходил через пять минут, и тогда он повесил на шею фотоаппарат. Затем он купил у разносчицы пива. Иосиф держал бутылки так, чтобы в портфеле поместилось полдюжины, а в другой руке — ещё три штуки.
Когда паровоз ударил паром в шпалы, Иосиф пошёл в направлении последнего вагона. И как только он попал в поле зрения хвостового кондуктора, бросился бежать к нему.
Не спрашивая ничего, его вдёрнули внутрь и пропустили по коридору. Бренча пивом, он прошёл три вагона, пока не упёрся в международный.
Можно было, конечно, притвориться иностранцем, и никто не поймал бы его на незнании языков.
Но для этого одет он был неудачно, да везение нельзя было долго испытывать.
Поэтому он шёл, заглядывая в купе, и, наконец увидел то, что нужно — веселящуюся разношёрстную компанию.
— Товарищи, это не вы пиво спрашивали?
Товарищи обрадованно загалдели, и он сел с краю.
— Иосиф, — скромно отвечал он, знакомясь.
Его спросили, из какой он газеты.
— Из еврейской.
— Нашей? Советской?
— Из Палестины, — загадочно ответил Иосиф.
Палестинское происхождение никого не удивило, сейчас оттуда возвращались многие. Но его всё же спросили:
— Что-то связанное с Коминтерном?
Иосиф многозначительно завёл глаза наверх, и его перестали спрашивать.
Поддерживая необязательный разговор, он трясся на полосатом чехле вагонного сиденья. Потом Иосиф заснул, так как привык засыпать в любом положении.
Люди, не знавшие его, иногда говорили, что у Иосифа плохая память. Но всё было куда хуже: память у него была чрезвычайно хорошая. Он помнил всё, все события своей длинной жизни, и это было несказанной мукой, когда вдруг на него наваливались цвета и запахи прошлого.
Вот и сейчас он провалился в тот день, когда в первый раз переступил порог Института биологических структур. Он пришёл туда сам. Он пришёл туда, потому что поверил в зарю нового мира. На стороне нового мира был выхаживавший его бородатый рабочий, теперь ставший командармом. На той же стороне был бритоголовый поэт, что умолял учёных воскресить его. Он много раз разочаровывался в разных утопиях, но всё же решил рискнуть. И вот Иосиф пришёл в Институт добровольно, чтобы помочь людям открыть тайну бессмертия.
В Институте он задержался надолго, и отдал за свою веру много крови — буквальным образом. Анализы этой крови не дали науке ничего. Его голову опутывали электродами, но слабые токи его организма не дали никакой разгадки его бессмертия. Он был абсолютно нормален, и к нему даже приходила простуда — весной и по осени.
Один из учёных считал его самозванцем. Он оказался библиофилом, и тогда Иосиф подробно описал несколько книг из его библиотеки и указал, где стоит клякса на одной из них. Эту кляксу он посадил сам, когда в 1702 году переплетал её в свиную кожу.
Но всё же положение его было зыбким. Феномен бессмертия должен объясняться просто и чётко, будто движение твёрдых тел или химическая реакция. А измождённое лицо приговорённого к смерти, которого он когда-то оттолкнул, было обстоятельством неприятным. Более того, оно уничтожало политическую чистоту науки.
Несколько лет он жил там, как в колбе, но новый мир проник в её узкую горловину.
Иосиф стал тревожен.
Новый мир оказался жесток и угрюм.
Те, кто работал рядом с Иосифом, по-разному относились к несовершенству этого мира. Одни замыкались в лабораториях. Другие вводили правила нового мира в профессию и быстро достигали общественного признания.
Иосиф много раз уже разочаровывался в идеях — и тогда ему снова снился человек с разбитым в кровь лицом и разговор на солнцепёке, у жёлтой каменной стены его дома. Значит, снова нужно было бежать.
Он и бежал. Впрочем, начальство Института заподозрило в нём склонность к побегу, и он заметил, что его перестали выпускать с территории без пропуска. Пропуска ему тоже не давали, каждый раз отговариваясь смешно и нелепо. Он делал вид, что такие мелочи его не беспокоят, но опыт никуда не пропал — слишком много видел в своей жизни. Эти ужимки он уже видел, когда один француз держал его в клетке внутри своей лаборатории. Французу отрубили голову, а Иосиф ушёл вместе с восставшей чернью грабить замки.
Та революция тоже, шипя, гасла в крови, как головешка.
В жизни всё повторялось.
Поэтому в праздничный день, когда начальство было в разъездах, он тихо покинул институт.
Он бежал сотни раз, не зная покоя и пристанища. Он знал, что обречён ходить по земле и привык к дороге. Когда он крестился и принял имя Иосифа, то думал, что будет прощён, но судьба всё равно влекла его, как ком сухой колючки по степи.
И вот теперь, в вагоне литерного поезда, он говорил с австрийским писателем по-немецки, а с англичанином — по-английски. Если бы было надо, он мог бы заговорить по-арамейски, да только таких журналистов в вагоне не было.
На одной из станций в вагон пробрался незнакомый никому пассажир. Он мгновенно стал своим в поезде, ходил между вагонами, представляясь корреспондентом какой-то одесской газеты, но Иосиф сразу же понял, что перед ним самозванец.
Ведь он сам был таким самозванцем, оттого всегда видел приёмы нахлебников, что кормятся на званых ужинах без приглашения.
Самозванец сел ночью и первым делом съел чужую курицу.
Иосиф подивился хитроумию небес. Курица, с таким азартом выторгованная у крестьянки на базаре, досталась совсем другому человеку. Самозванец чисто обглодал кости, а одну даже засунул себе в нагрудный кармашек, где обычно солидные граждане носят самопишущее перо.
На закате, выпив водки, писатели и журналисты хором запели — иностранцы приходили из международного вагона и подтягивали, мыча. Но даже мычали они с иностранным акцентом. Иосиф знал множество языков, и даже разговорился с японцем, который не вмешивался в разговоры, но наблюдал за всем чрезвычайно внимательно.
Японец со своими товарищами существовал отдельно и вряд ли навёл бы на след Иосифа погоню.
Поезд шёл на восток, и утомлённые писатели, путая день и ночь, спали на полосатых диванах. В окна тянуло углём и дорожной пылью. Восток проникал в вагоны вместе с этой пылью, а коров в пейзаже заменили верблюды.
Спутники Иосифа фотографировались в обнимку с верблюдами.
Фотографировал их и сам Иосиф, выяснив, кстати, что его сосед, худощавый писатель, дружил с владельцем фотоаппарата. Этот худощавый был изображён на групповых снимках в кабинете ограбленного Иосифом человека.
По вечерам в вагонах вились кольцами резкие, как папиросный дым, разговоры.
В этих разговорах, как в бедном супе, варилось три темы — пятилетка, железная дорога и прогресс. Мировая революция понемногу исчезала из споров как тема, она вымывалась из них, как соль.
Мировая революция больше интересовала иностранцев, которые, как всякие иностранцы, всегда опаздывали лет на пять в чувстве национального стиля.
Европейцы, говорившие по-русски, заходили к журналистам в вагон, как натуралисты в тропический лес.
Среди них был и австриец. Австриец был возвышенным человеком и сочетал работу в газете с поэзией. Иосифу он не понравился. К тому же, и австрийцы были среди тех, кто убивал его — но не в девятнадцатом, а в восемнадцатом году, в Одессе, а не в Киеве. Впрочем, дело было прошлое — и можно было уже привыкнуть. Меж тем, рядом заговорили о еврейском вопросе, и фотограф всё время оборачивался на Иосифа, что, дескать, тот скажет.
Но Иосиф молчал, будто набрав мацы в рот.
Тогда как-то незаметно из воздуха сгустилась медицинская тема, будто запахло карболкой и вместо ложечек в стаканах звякнули хирургические инструменты.
Однако не болезни занимали всех, а вечная жизнь или, хотя бы — возвращённая молодость.
Несколько раз мелькнуло название Института, но и тут Иосиф не повёл бровью.
— Все искусства смертны, но вот теперь, когда к нам пришло кино… — сказал кто-то.
— Бессмертна лишь одна поэзия, — пробормотал Иосиф под нос. Он знал нескольких поэтов, что жили сквозь время. Одного из них пытались повесить в номере гостиницы, но тот вывернулся из рук дюжины убийц… Надо бы расспросить его — как, подумал он, — да только поэт снова потерялся среди людей.
— Почему поэзия? — спросил его человек с острым слухом.
— Кино требует электричества, театру нужны зрители, поэзия жива всегда. Сочинение стихов не требует ничего, кроме души. Роман умрёт, потому что ему нужен печатный станок.
Но разговор вернулся к телесному бессмертию.
— Мы все можем жить вечно, никакой причины для смерти нет, — сказал сухощавый писатель.
Ему очень нравилась эта мысль, потому что во время Гражданской войны его расстреляли белые, и он два дня лежал во рву с трупами.
— Наука стоит на пороге великих открытий, и скоро мы получим препараты для продления жизни. Мы все ещё побудем Мафусаилами.
Говорящий вдруг дёрнул головой. Библейское сравнение неприятно ожгло сухощавому писателю язык, потому что писатель сам привычно цензурировал свои речи и тексты, а библейские сравнения были не в моде.
— Вещи, сделанные из новых материалов, будут служить вечно, — заметил фотограф.
— Ах, помилуйте, зачем мне вечная игла для патефона… Или там для примуса, — бросил безбилетный. — Я не собираюсь жить вечно.
— Только один человек живёт вечно, — возразил ему остроносый. — Да и тот, кажется, только до Страшного суда. Один еврей.
— Позвольте, — отвечал безбилетный. — Вечный Жид уже закончил своё странствие. В девятнадцатом году — старика сгубило любопытство. Сейчас я расскажу вам…
И он начал рассказывать, причём ёрничая и перевирая его, Иосифа, жизнь. Безбилетный говорил, будто писал заметку в журнал «Безбожник», где Колумб мешался с железнодорожными тарифами, а пожар Рима с индийскими йогами.
И вот он перешёл к девятнадцатому году и поместил Иосифа, как шахматную фигуру, на берег Днепра.
Снова к нему, глупой пешке, потерявшей осторожность, подходил сзади патруль, и гайдамаки жарко дышали водкой и потом.
Мальчишка рвал из-за пазухи револьвер, и Иосиф валился на дорожку сада.
Кто-то видел эту сцену, но, пересказанная много раз, она отшлифовалась и приобрела дурные черты анекдота. Всё было иначе — он не носил контрабандных чулок на животе, и куренной атаман не вёл с ним разговоров.
Тоска охватывала Иосифа, потому о нём врали всегда. Когда-то один армянский епископ долго говорил с ним о событиях далёкого и важного дня, и даже записывал что-то. Но записал всё неверно, а потом, переехав в Англию, неверно пересказывал написанное.
Про него рассказывали разное, и всегда врали.
По одним историям выходило, что он до сих пор сидит в сумасшедшем доме и спрашивает всех посетителей, не идёт ли по улице человек с крестом.
По другим, что он давно проповедует Святое писание.
В 1642 году он пришёл в Лейпциг. Там за ним записывали, а когда в 1862 году он заглянул к американским мормонам, он даже дал интервью их газете. И всегда легенда перемалывала его откровения. Его хоронили множество раз, и этот, конечно, не был последним.
Тут вступил австриец.
— Я учился русскому языку в Одессе, в тысяча девятьсот восемнадцатом году, когда служил в чине лейтенанта у генерала фон Бельца. Потом случилась революция — не ваша, а уже наша — и фон Бельц выстрелил себе в голову. Он лежал в своем золотом кабинете во дворце командующего Одесским военным округом, и я понял, что не только русский, но и немецкий язык стал языком революции. Генерал был верен присяге.
— А вы почему не застрелились? — спросил его кто-то. — Как у вас там вышло с присягой? Вам-то нужна верность присяге или вечная жизнь?
Австриец не ответил. Он вздохнул и сказал:
— Но, если мы стали рассказывать друг другу библейские истории, то и я расскажу вам такую же. Представьте себе ваших комсомольцев, молодого человека, которого зовут Адам, и девушку по имени Ева. В нашей истории снова встаёт еврейский вопрос, но среди ваших комсомольцев и вправду есть много людей с такими именами.
И вот, гуляя в Парке культуры и отдыха, они говорят о пятилетке и мировой революции. И там же в парке они срывают яблоко с экспериментальной яблони. Тогда сторожа хватают их и извергают из рая культурного отдыха.
Их прогоняют, и метла у сторожа похожа на огненный меч в руках ангела, и тогда, лишившись отдыха и пролетарской культуры, Адам видит, что перед ним стоит нежная Ева, а Ева замечает, что перед ней стоит мужественный Адам. Любовь возникает между ними — неловкая любовь в стране пятилетки, когда рожать всем трудно, а хлеб выдают по политым потом карточкам. Я писал о вашей стране много, и знаю, как горек хлеб в обществе великих идей… Но через три года у Адама и Евы будет уже два сына.
— Ну, и что же? — спросил фотограф.
— А то, — печально ответил австриец, — что одного сына назовут Каин, а другого — Авель. Пройдёт время, и через известный срок Каин убьет, возможно, не ножом, а доносом, Авеля. Авраам родит Исаака, Исаак родит Иакова, и вообще вся библейская история начнется сначала, и никакой марксизм этому помешать не сможет. Всё повторяется. Будет и потоп, будет и Ной с тремя сыновьями, и Хам обидит Ноя, будет и Вавилонская башня, которая никогда не достроится. И так далее. Ничего нового на свете не произойдет.
— Вы хотите чуда, — сказал сухощавый писатель. — Запрещать вам верить в чудо у нас нет надобности. Верьте, молитесь.
— А у вас есть доказательства, что будет иначе?
— Есть. Это цифры пятилетки.
— Цифры всегда съедают людей. Но это не надолго, потом рождаются дети. Мальчики. А потом… Потом оказывается, что железо не так важно, как дух, и начинается другая война, взамен тридцатилетней или столетней, а потом опять будут сжигать людей. Людей обязательно будут сжигать, по тому или иному поводу, поверьте… И опять обманут бедного Иакова, заставив его работать семь лет бесплатно и подсунув ему некрасивую близорукую жену Лию взамен полногрудой Рахили. Всё, всё повторится. И Вечный Жид по-прежнему будет скитаться по земле…
— Так всё же его убили, а?
— Он — вечный. Зачем мне запрещать вам не верить в чудо? — улыбнувшись, ответил австриец.
Иосиф про себя усмехнулся.
Сейчас он расставался с идеей и возвращался в объятия к своему бессмертию.
Поезд шёл через ночь, его мотало на стрелках какого-то неизвестного разъезда, и паровозные искры летели вдоль вагонов.
А, может, это просто был звездопад.
Густо усеянное звёздами небо имело на горизонте громадные чёрные провалы. Это вырастали вдали горы, которые начинались здесь, а продолжались до самого центра Азии.
Через два дня Иосиф оказался в Бухаре.
Он оставил худощавому писателю записку с просьбой вернуть взятый на время фотоаппарат его владельцу. Больше в купе он не попрощался ни с кем.
Мир рождался наново в лучах утреннего солнца. Мир был нов и прекрасен, он был полон надежд, как полно надежд любое утро, даже пасмурное.
Иосиф шёл по пыльному древнему городу и вскоре смешался с толпой. На его голове была меховая шапка, и стал Иосиф неотличим от тех бухарских евреев, что наполняли базарную площадь.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
08 апреля 2015
(обратно)
История про велосипедистов, часть I (2015-04-10)
Я скажу о велосипедистах.
Но прежде, вот о чём: как начинаются сухие тёплые деньки, так пачками бьются на московских улицах и прочих трассах мотоциклисты. Их друзья оглашают окрестности плачем, а некоторые с патетикой говорят о недопетой песне. Не то, что бы мне было не жаль мальчиков и девочек, часто без прав и навыков вождения, но мне как-то жаль и всех остальных участников дорожного движения. И если бы лозунг «Живи быстро, умри молодым» был исключительно стерильным методом регуляции численности мотоциклистов, так они норовят ещё куда-то въехать, кого-то сбить и т. д. И тем, кто безумству храбрых поёт песню, я бы эту песню вколотил обратно с противоположной стороны.
Потому что они всегда рискуют не только своими жизнью, здоровьем и имуществом, но и чужими.
Тут налицо одна срамота, и мне про мертвых не надо говорить.
Не надо путать погибших мотоциклистов и павших солдат — вот мертвые солдаты-то сраму не имут.
Но дело в том, что велосипедисты (а я езжу по городу и просёлочным дорогам уже несколько десятилетий подряд) — народ не менее рисковый. Водители думают, что мы, велосипедисты — двумерны, что-то наподобие картонных фигур для фотографирования, и норовят столкнуть нас на тротуар. Часто водитель думает, что велосипедист — что пешеход. То есть, участник дорожного движения с нулевым тормозным путём.
Много разных заблуждений есть у водителей. Но и у велосипедистов их в достатке.
Я сформулирую, как говорится, гражданскую позицию: я считаю, что передвижение на велосипеде по городу — занятие экстремальное, подвергающего велосипедиста и окружающих опасности. Уменьшают общий риск масса и скорость велосипедиста (впрочем, достигаемая иногда 40–50 км/ч скорость не маленькая), увеличивают общий риск отсутствие формального и внутрикорпоративного контроля и повальная демократизация велосипеда. Опасность велосипеда, по моему мнению, чрезвычайно недооценена. Причём его опасность на дорогах будет расти.
Вот в чём дело — велосипедист есть довольно сильная угроза коллективной безопасности. Ей много кто угрожает, но велосипедист last, but not least.
Тут чистый Дарвин, а не Толстой. Среди велосипедистов достаточно отмороженных идиотов — даже больше, чем мотоциклистов. Этому способствует отсутствие регистрации, лёгкость покупки и замены велосипеда и ещё несколько.
В этом месте мне обычно возражают, что велосипед не разгоняется обычно сверх пятидесяти километров в час, и масса его меньше, чем у джипа.
Всё это решительно не аргумент.
Во-первых, упавший велосипедист в тоннеле или на трассе может собрать на себя десять-пятнадцать машин, убив не только себя, но ещё несколько человек. Уходя от него, перестраивающегося, могут столкнуться машины, идущие на куда большей, чем он сам, скорости.
Во-вторых, много мы видим на московских улицах (sic! Что говорить о нашей доброй провинции?) велосипедистов в шлемах и защите? Не прыгунов на Поклонной горе, а именно уличных рейсеров? Да и я не без греха, хоть в остальном предельно аккуратен. Я стараюсь выехать, обвешенный лампочками, как новогодняя ёлка, и не сунусь не то, что на официально запретный для велосипедистов МКАД с автострадами, но и в тоннель ещё сто раз подумаю, прежде чем заехать.
В-третьих, и от велосипедистов несут увечья и погибают.
Я же лично знаю случаи переломов (вплоть до шейки бедра) после наезда велосипедистов на прохожих. Нет, позиция «мы, велосипедисты безвредны, потому что масса наша невелика и скорость невысока» — гнилая.
Убить можно и на скорости 10 км/ч, убить ребёнка можно и того проще.
Кстати, знаменитый роман Малкольма Брэдбери кончается так: «История же Басло Криминале завершилась приблизительно через неделю после окончания Шлоссбургского семинара. Так как он, вернувшись в Санта — Барбару, штат Калифорния, погиб. Его сбил велосипедист в шлеме и в наушниках «Сони уокмен», который был, как видно, так заворожен какой-то кульминацией оргазма на вновь вышедшем хите Мадонны, что не заметил великого философа, рассеянно шагавшего тропинкой по зеленой университетской территории. Край шлема этого парнишки угодил философу в висок; его доставили в прекрасную больницу, но в сознание он так и не пришел. Лучшее, что можно здесь сказать, — что он скончался с карточкой на лацкане, — поскольку он, конечно же, участвовал в работе конференции на тему «Есть ли у философии будущее?», которая тотчас прервала свою работу, отдавая дань уважения покойному великому мыслителю».
Ну, тут разные хорошие люди мне начинают возражать, что велосипедисты вносят куда меньший вклад в дорожную статистику, чем упыри-автомобилисты, пьяницы за рулём. Статистика начинает черкаться снизу ссылками на разные сайты и кудрявиться цифрами.
Это лукавая статистика. На сайтах велоклубов — одно, в ГАИ другое, причём регистрируются ДТП с участием велосипедистов мало (если уж никуда не деться и кто-то лежит, проткнутый музыкой серебряных спиц. А так, кто пойдёт заявляться сам?).
Метафора: у вас в выборке померло девять пьяниц от цирроза печени, и один человек попил чайку с полонием. И вот вы сделали научный вывод о том, что алкоголь куда страшнее, чем ложка полония вместо сахара.
Велосипедист именно что один из источников коллективной небезопасности. Сама по себе бензопила — очень полезная вещь, но принеси её в детский сад и оставь без присмотра посреди комнаты — сраму не оберёшься. А у нас не работает даже минимальный возрастной ценз.
Действительно, автомобилисты с мотоциклистами тянут на себя большую массу трупов и увечий. Не мне оправдывать пьяного за рулём, несдержанного, да и просто невнимательного водителя, но и велосипедисты вносят посильный вклад. Часто ли по тротуару несутся на крейсерской скорости «Жигули»? — бывает, но редко. А безответственный хам-велосипедист, лавирующий между прохожих — дело, увы, частое.
Извините, если кого обидел.
10 апреля 2015
(обратно)
История про велосипедистов. Часть II. Кто виноват? (2015-04-10)
Был такой старый анекдот о спиритическом сеансе со Сталиным, которого спрашивают, как спасти страну (Страну как бы постоянно нужно спасать, поэтому я слушаю этот анекдот всю свою жизнь — а перечитав роман немецкого писателя Ремарка «Чёрный обелиск» (1956, действие происходит в 1923), обнаружил его и там. Без Сталина, правда). Итак, Сталин откликается с того света и произносит: «Расстрелять всех евреев и велосипедистов». Смысл анекдота был в том, что непосвящённый спрашивал: «А велосипедистов-то за что?» И ему тут же говорили: «Мы рады, что по первому вопросу у вас нет возражений».
Но вот однажды девушка в нашей большой компании закрутила роман с дальнобойщиком. Он сидел за нашим столом и при нём рассказали всё тот же анекдот. «А евреев-то за что?» — недоумённо спросил дальнобойщик. Из всех евреев у него перед глазами был один — его приятель экспедитор, которого он уважал, а вот к велосипедистам у него был особый счёт.
Я это вспоминаю в те дни, когда кончается особый велосипедный сезон.
Правительство Москвы озаботилось велосипедным делом, будто откуда-то сверху раздался глас: «Развивать!»
Ну и понеслось. Я этого ожидал, потому как я живу довольно долго и жизнь узнаю не только из анекдотов. Вижу, как у нас происходит развитие самых положительных идей.
Всё дальнейшее я рассказываю только для того, чтобы предсказать: в начале следующего сезона велосипедистов начнут бить. Причём не какие-то негодяи, а простые граждане. Хорошие люди. Даже не автомобилисты и не дальнобойщики в частности.
Дело в том, что велосипедист в моём родном городе — человек безответственный. То есть, он отвечает только перед законами физики, а вот ни документов у него нет, ни номер для него не предусмотрен (номера эти, кстати, отменили не так давно, в 1960-е годы — они были делом местным, и одного стандарта для них не существовало). Пока не принято велосипедистов останавливать, чтобы дать подышать им в трубочку. При этом их количество растёт лавинообразно, и уж куда быстрее, чем количество велодорожек. Никто не знает доподлинно, сколько миллионов велосипедов в Москве.
Знания Правил дорожного движения у их хозяев весьма смутные.
Вот я уже читаю в социальных сетях милых девушек, что сообщают, что их задолбали два типа пешеходов: люди в наушниках, которые ничего не замечают. Они, дескать, первые претенденты на гибель, ведь они ничего не замечают вокруг. Ну и неповоротливые бабушки задолбали, особенно с собачками на длинном поводке.
Меж тем, Правила дорожного движения в своём пункте 24.1, нам прямо говорят, что велосипедисты должны двигаться либо по велодорожке, либо по правому краю проезжей части (пункт 24.2), а по тротуару можно двигаться только если невозможно по всему вышеперечисленному. В довесок пункт 24.6 сообщает: «Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов».
Тут начинается бормотание: «А вы знаете, как страшно ездить по проезжей части?»
Знаю. Страшно ездить — не езди.
Я вообще-то давнишний городской велосипедист. Начал я ездить в те времена, когда из велосипедов были только «Школьник» и «Орлёнок» для детей, складная «Кама», «Украина» для дам и спортивный «Спутник». Вот на «Спутнике я и рассекал по московским улицам, когда машин на них было вполовину меньше. А потом ездил по ним на современных велосипедах. На тротуары не совался.
Ведь пешехода можно угробить и безо всякого наезда — ну-ка, пролетит мимо старушки что-то быстрое, мелькнёт, обдав потом (ну, хорошо, хорошо — тонкими девичьими духами), глянь, старушка уж за сердце хватается. Я-то хватаюсь, а она-то и подавно. Тротуар вообще священная территория, место водяного перемирия, заповедник людей в наушниках, рассеянных с улицы Бассейной, с Малой Бронной и Моховой. Не смейте им сигналить, братья, а будете пугать и сигналить, вы мне никогда не будете братья.
Когда велосипедист был редкостью, проблема эта тоже существовала, но её можно было не замечать. Все эмоции пожирала нежность к велосипедистам, которых автомобилисты ласково звали «хрустики».
А когда количество наездов увеличится, а оно увеличится, велосипедистов просто будут бить.
Я как-то проживал в благополучной Германии, в иностранном городе К., и оказался в тамошней компании единственным, на кого никогда не наезжал велосипедист. И то потому, что был многократно предупреждён, шарахался от велодорожек, жался к стенам, и вообще вёл себя, пробираясь к магазину Aldi, как в уличном бою.
Так это в Германии, где ordnung űber alles, а у нас-то…
Дело в том, что в моей, спасаемой богом стране, люди довольно мало думают об удобстве других. Общество привыкло к тому, что на дорогах хамство происходит от движения больших чёрных машин. Сначала это были бандиты, потом депутаты, потом как-то всё перепуталось. Наш брат велосипедист (и простые водители) справедливо опасался этих машин, как, впрочем, и вообще автомобильного потока. Напомню, кстати, что ПДД прямо запрещают велосипедисту ездить по автомагистралям, и ещё, по другим, правда, причинам, МКАД из их карты исключён.
Самый свободный хипстер относится с удивлением к тому, что велосипед, может помешать кому-то в электричке, преградив проход. Вообще, велосипед оказывается удивительным индикатором свободы — и, одновременно, несвободы. То есть, понимания того, что твоя свобода кончается там, где начинается свобода другого гражданина.
Велосипед романтичен и полезен, совершенно прекрасен, если находится в хороших руках, и представляет собой транспортное средство общественной опасности, когда на нём сидит неумный человек. А когда индикаторов становится много, то они прямо лезут на тебя. Происходит коллизия (от латинского collisio — столкновение).
И виноват в эти коллизиях не Президент Российской Федерации, не Государственный департамент США, ни даже евреи.
Велосипедисты виноваты.
И то не все.
Извините, если кого обидел.
10 апреля 2015
(обратно)
Собачья кривая (День войск ПВО. Второе воскресенье апреля) (2015-04-12)

Маленькая история о сегодняшнем празднике третьего плана:
Профессор быстро шёл по набережной. Встречные уверяли бы, что он шёл медленно, еле волоча ноги, но на самом деле он был необычно взволнован и тороплив.
Он был невысок и бежал по улице стремительно, будто локомотив по рельсам. Прохожие проносились мимо, как верстовые столбы. Дым от профессорской трубки отмечал его путь, цепляясь за фонари и афишные тумбы.
Сходство с паровозом усиливалось тем, что верхняя часть профессорского туловища была неподвижна, и только ноги крутились как колёса.
На несколько минут пришлось остановиться, потому что на набережную поворачивала колонна военных грузовиков. Старик-орудовец махнул необычным жезлом и повернулся к Профессору спиной. Тот, не глядя в сторону орудовца, воткнул щепоть табака в трубку и прикурил. Профессор шёл к себе домой, погружённый в себя, не обращая внимания ни на что. Дым от трубки опять стелился за ним, как кильватерный след. Старик с палкой неодобрительно посмотрел на него, но ничего не сказал. Профессор перевалил мост, слоистая мёрзлая Нева мелькнула внизу и исчезла.
Час назад его вызвали в комнату, пользовавшуюся дурной славой. Два года назад в ней арестовали его товарища, вполне безобидного биолога. А теперь эту дверь открыл он, и, как оказалось, совсем не по страшному поводу.
Несмотря на яркий день, в комнате горела лампа. Два человека с земляными лицами уставились на него. Они, как тролли, вылезшие из подземных тоннелей, не выносили естественного света.
Один, тот, что постарше, был одет с некоторым щегольством и похож на европейского денди. На втором, молодом татарине, штатская одежда висела неловко. Галстук он совсем не умеет завязывать, — заметил про себя Профессор.
Татарин кашлянул и произнёс:
— Вы знаете, что сейчас происходит на Востоке…
Восток в этой фразе, понятное дело, был с большой буквы. На Востоке горел яркий костёр войны.
Профессор всё понял, — это было для него ясно, как одна из тех математических формул, которые он писал несколько тысяч раз на доске.
Воздух вокруг стал лёгок, и он подумал, что, даже открывая дверь сюда, в неприятную комнату, он не боялся.
Давным-давно всё происходило с лёгкостью, которой он сам побаивался. Его миновали предвоенные неприятности, кампании и чистки. А жена его умерла до войны. Она была нелюбима, и эта смерть, как цинично Профессор признавался себе, подготовила его к лишениям сороковых. Вместе с ней в доме умерли все цветы, хотя домработница клялась, что поливала их как следует. Старуха пичкала горшки удобрениями, но домашняя трава засохла разом. Цепочка несчастий этим закончилась — Профессор перестал бояться.
Внутри него образовалась пустота — за счёт пропажи страха.
И теперь, глядя в глаза стареющего денди, неуместного в победившей и разорённой войной стране, он не сказал «да».
Он сказал:
— Конечно.
Через десять минут стукнула заслонка казённого окошка, чуть не прищемив Профессору пальцы. Он собрал с лотка часть необходимых бумаг, и шестерёнки кадрового механизма, сцепившись, начали своё движение.
И вот он шёл домой, спокойно и весело обдумывая порядок сборов.
Быстро темнело. Тень от столба, как галстук при сильном ветре, промотнулась через плечо. Открыв дверь, он увидел, как кто-то, стремительный и юркий, перебежал ему дорогу.
— Кошка или крыса, — подумал Профессор. — Скорее, всё-таки крыса. Кошек у нас почти нет после Блокады. До сих пор у нас мало кошек.
Во время Блокады он был здесь — один раз его вывезли в Москву на маленьком самолёте, но потом пришлось вернуться. Он всегда был нужен этому городу. Ну и стране, конечно.
Он не боялся и в Блокаду. Тогда к нему, и к теплу его печки-буржуйки, переехал единственный друг — востоковед Розенблюм.
Розенблюм принёс с собой рукопись своей книги и кастрюлю со сладкой землей пожарища Бадаевских складов. За ним приплёлся отощавший восточный пёс.
Два Профессора лежали по разные стороны буржуйки. Они не сожгли ни одной книги, но мебель вокруг них уменьшалась в размерах, стулья теряли ножки и спинки, потом тоже исчезали в печном алтаре. Сначала печка чадила, а потом начинала гудеть, как аэродинамическая труба.
Профессор, а он был профессор-физик, говорил, разглядывая дым, в который превращался чиппэндейловский стул:
— Даже если мы уберём трубу, градиент температуры вытянет весь дым.
Он занимался совсем другим — ему подчинялись радиоволны, он учил металлические конструкции слышать движение чужих самолётов и кораблей. Но сейчас было время тепла и Первого закона термодинамики.
Профессор рассказывал своему другу, как реактивный снаряд будет гоняться за немецкими самолётами, каждую секунду сам измеряя расстояние до цели — точь-в-точь, как борзая за зайцем. Профессор чертил в воздухе эту собачью кривую, но понимал при этом, что никаких реактивных борзых нет, а есть ровный гул умирающей мебели в печке.
— Смотрите, как просто… — И копоть на стене покрывалась буквами, толщиной, разумеется, в палец.
Дроби кривились, члены уравнения валились к окну как дети, что едут с горы на санках.
— Смотрите, — увлекался Профессор, — v — скорость зайца, w — скорость собаки, a вот этот параметр — расстояние от точки касания до начала системы координат. Да?
И профессор-востоковед молча соглашался: ведь у физика была своя тайна природы, а у востоковеда — своя. Внутренняя тайна не имела наследника, у неё не было права передачи… Поэтому профессор Розенблюм съел свою собаку.
Но никакое знание восточной собачьей тайны не сохранило Розенблюма. Он слабел с каждым днём. С потерей пса что-то произошло в нём, что-то стронулось, и он будто потерял своего ангела-хранителя.
Теперь он шептал будто на семинаре — «кэ-га чичжосо, накыл нэдапонда», будто объяснял деепричастие причины и искал рукой мелок.
Он не хотел умирать и завидовал своему другу, для которого смерть стала математической абстракцией.
— Это счастье, но счастье не твоё, оно заёмное. Это счастье того, кто рождён под телегой.
Профессор ничего не понял про заёмное счастье, и уж тем более про телегу. Он хотел было расспросить потом, но тем же вечером Розенблюм умер.
Мёртвая рука профессора держала руку живого Профессора. Они были одинаковой температуры. Теперь собаки не было, и духа собаки не было — осталось только одиночество.
Время он мерил стуком ножниц в магазине. Ножницы, кусая карточки, отделяли прошлое от будущего.
Но судьба была легка, и всё равно выбор делался другими, — его вывезли из города той же голодной зимой. Он клепал заумную технику и ковал оружие Победы, хотя ни разу не держал в руках заклёпок, и ковка лежала вне его научных интересов. Счастье действительно следовало поэтическому определению — покой и воля. Пустое сердце, открытое логике.
А после войны он снова оказался нужен, на него посыпались звания и чины, утраты которых он тоже не боялся, — друзей не было, и даже тратить деньги было не на кого.
Решётки из металла давно научились слышать летающего врага, и вот теперь нужно было испробовать их слух вдали от дома.
Легко и стремительно Профессор собрался и уже через день вылетел на Восток. Он продвигался в этом направлении скачками, мёрз в самолётах, что садились часто — и всё на военных аэродромах.
Наконец, ему прямо в лицо открылся океан, и ноздри наполнила свежесть неизвестных цветов.
Город, лежавший на полуострове, раньше принадлежал Империи. С севера в него втыкалась железная дорога, с юга его обнимала желтизна моря. Город был свободным портом, на тридцать лет его склады и пристани стали принадлежать родине Профессора,
Но люди в русских погонах наводняли этот чужой город, как и полвека назад.
Они должны были уйти, но разгорелась новая восточная война, и, как туча за горы, армия и флот зацепились за сопки и гаолян.
Несколько дивизий вросли в землю, а Профессор вместе с подчинёнными, похожими на молчаливых исполнительных псов, развешивал по сопкам свои электрические уши.
Он развешивал электронную требуху, точь-в-точь как ёлочную мишуру, укоренял в зелени укрытия, как игрушки среди ёлочных ветвей. Профессор время от времени представлял, как в нужный час пробежит ток по скрытым цепям, и каждое звено его гирлянды заработает чётко и слаженно.
Дело было сделано, хоть и вчерне.
Но большие начальники не дали Профессору вернуться в прохладную пустоту его одинокой квартиры.
Его, как шахматную фигуру, решили передвинуть на одну клетку восточнее, — Профессора начали вызывать в военный штаб и готовить к новой командировке.
Через две недели он совершил путешествие с жёлтой клетки на розовую.
На прощание человек с земляным лицом — такой же, что и те, кого Профессор видел в маленькой комнатке на университетской набережной, повёл его в местный ресторан.
На стене было объявление на русском — со многими, правда, ошибками. Они сели за шаткий стол, и земляной человек, давая последние, избыточные инструкции, вдруг предложил заказать собаку.
— Ну, это же экзотика, профессор, попробуйте…
Профессор вдруг вспомнил умирающего Розенблюма и решительного отказался. Он промотнул головой даже чересчур решительно, и от этого в поле его зрения попал старик в китайском кафтане. Старик смотрел на него внимательно, как гончар смотрит на кусок глины на круге, — он уже взят в дело, но неизвестно, выйдет из него кувшин или нет. Старик держал в руках полосатый стек, похожий на
палку орудовца.
Когда Профессор посмотрел в ту же сторону снова, там никого уже не было.
Нет, собак есть не надо, — подумал он про себя, — теперь я знаю, от смерти это не спасает. Но оказалось, что он подумал это вслух, и оттого человек с земляным лицом дёрнулся, моргнул, и решил, что Профессор чего-то боится.
И всё же Профессор приземлился на розовой клетке и начал отзываться на чужое имя.
Теперь, по неясной необходимости, в кармане у него было удостоверение корреспондента главной газеты его страны. Фальшивый корреспондент снова рассаживал свои искусственные уши — точь-в-точь, как цветы.
Как прилежный цветовод, он выбирал своим гигантским металлическим растениям места получше и поудобнее. Сигналы в наушниках таких же безликих, как и прежде, военнослужащих — только в чуть другом обмундировании — были похожи на жужжание насекомых над цветочным полем.
И, повинуясь тонкому комариному писку, с аэродромов взлетали десятки тупорылых истребителей с его соотечественниками, у которых и вовсе не было никаких удостоверений.
Война шла успешно, но внезапно Восток перемешался с Западом. Вести были тревожные — фронт был прорван. Армия бежала на Север и теперь прижималась к границе, как прижимается к стене прохожий, которого теснят хулиганы.
Профессор в этот момент приехал на один из аэродромов и налаживал свою хитрую технику.
Противник окружил их, и аэродром спешно эвакуировали. Маленький самолёт, что вывозил их в безопасное место, был сбит на взлёте. Когда они сделали вынужденную посадку, Профессор обнаружил, что он, как всегда, остался цел и невредим, а летчик перевязывает раненую руку, зажав бинт зубами.
Международные военные силы за холмами убивали их товарищей, а они лежали под пустым танком из аэродромного охранения, ещё с Блокады знакомой практически штатскому Профессору тридцатичетвёркой, и думали, как быть дальше.
— Глупо получилось, — сказал лётчик, — меня три раза сбивали и всё над нашими — два раза на Кубани, и один — в Белоруссии. Нам ведь в плен никак нельзя. В плен я не дамся.
— Интересно, что будет со мной? — задумчиво спросил-сказал Профессор.
— Я вас застрелю, а потом… — лётчик показал гранату.
— Обнадёживающе.
— А, что, не боитесь?
Профессор объяснил, что не боится и начал рассказывать про Блокаду. Оказалось, что лётчик — тоже ленинградец, и тут же, кирпичами собственной памяти, выстроил своё здание существования Профессора.
— Тогда, если что, — вы меня, а потом себя. Вам я доверяю — подытожил он.
Ночью они медленно пошли на север.
Они двигались вслед недавнему бою, обнаруживая битую технику и мёртвых, изломанных взрывами людей.
В самых красивых местах смерть оставила свой след. Профессор как-то хотел присесть в сумерках на бревно. Но это было не бревно.
Мертвец лежал на поляне, и трава росла ему в ухо.
Однажды Профессор, отправившись искать воду, услышал голоса на чужих языках. Он залёг в высокую траву на склоне сопки и пополз вперёд.
На краю котловины стояли несколько солдат и офицеров в светлых мешковатых куртках. Один из них держал у глаз кинокамеру и водил ей из стороны в сторону. Под ними, в грязи на коленях стояли несколько человек с раскосыми лицами и жалобно причитали, судя по всему, умоляя их не убивать. Это были соседи-добровольцы, которых Профессор ещё не видел.
Они тянули руки в камеру и ползли на коленях к краю обрыва. Главный из победителей, видимо, офицер — на мгновение повернулся к своим подчинённым, чтобы отдать какое-то указание.
Один из добровольцев тут же выдернул из рукава острый тонкий нож и всё с тем же заплаканным лицом, на котором слёзы прочертили борозды в толстом слое грязи, располосовал офицеру горло.
Другие кинулись на оставшихся — слаженно, с протяжными визгами, похожими на мартовский крик котов. Профессора удивило, как это победители умерли абсолютно молча, а бывшие пленные перерезали их как кроликов.
На всякий случай он решил не показываться, а через минуту в котловине уже никого не было, кроме нескольких полураздетых трупов.
Когда Профессор рассказал об этом лётчику, тот сильно огорчился, но, подумав, рассудил, что им вряд ли бы удалось угнаться за этими добровольцами.
— Я видел их в тайге, — сказал он. — У них свои мерки. Я видел, как они бегут с винтовкой по тайге, с запасом патронов и товарищем на плечах. Да так и пробегают километров пятьдесят.
И двое скитальцев продолжали идти по ночам, боясь и своих, и чужих.
Наконец, в очередной ложбине между холмов их остановил человек в кепке со звездой — маленький и толстый.
Сначала, испугавшись окрика, два путешественника спрятались за кустами, но, увидев знакомую форму, вышли на открытое пространство.
— Товарищ, там хва-чжон… То есть, огневая точка. Туда идти не надо, — крикнул ещё раз маленький и толстый, похожий на бульдога человек.
— Это наши! — выдохнул лётчик.
— Какие наши, — про себя подумал Профессор. И действительно, френчи освободительной армии сидели на них хуже, чем на чучелах. Но было поздно.
— Товарищ, товарищ, — залопотал человек-бульдог.
Вечером они сидели в доме у огня. Человек-бульдог и его помощник сидели у двери. Дом был — одно название. В хижине не хватало стены, но огонь в очаге был настоящий. Трубы не было, но интернациональная термодинамика вытягивала весь дым через узкое отверстие в крыше.
У огня, строго глядя на Профессора, устроился старик всё в той же зелёной форме. Судя по всему, он был главный.
— Самое время поговорить, — старик, кряхтя, вытянул ноги.
Профессор оглянулся — лётчик спал, а свита молчаливо сидела поодаль.
— Мы всё время думаем, что, настрадавшись, мы меняем наше страдание на счастье, а это всё не так. Авансов тут не бывает. Со страхом — тоже самое. Нельзя набояться впрок.
Завтра вы познакомитесь с вашим счастьем, потому что настоящее счастье это предназначение.
Профессор не понял о чём речь, но никакого ужаса в этом не было. Граната уютно пригрелась у него в кармане ватника — на всякий случай.
Горячий воздух пел в дырке потолка, а старик говорил дальше:
— Это неправильная война. Вы воюете на стороне котов, а против вас — собаки. Вам надо было воевать за собак. Говоря иначе, вы — люди Запада, воюете на стороне Востока. Проку не будет.
Профессор поёжился. А может, это всё-таки враги? Эмигранты. Вероятно, это плен. Или это просто сумасшедший. И неизвестно, что хуже.
Но старик смотрел в сторону. Он поправил палкой полено в очаге:
— Розенблюм вам рассказал о счастье?
Ничуть не удивившись, Профессор помотал головой.
— Нет. Розенблюм мне этого не рассказывал, — произнеся это, Профессор ощутил, что покривил душой, но не мог точно вспомнить, в чём. Что-то ускользало из памяти.
— Знаете, — старик вздохнул. — Есть старинная сказка о том, как человек взял счастье взаймы. На небе ему сказали, что он может занять счастья у человека Чапоги, что он и сделал. А потом он, разбогатев, услышал рядом с домом тонкий и долгий крик. Ему сказали, что это кричит Чапоги — этот человек понял, что пришёл конец его займу и выскочил из дома с мечом, чтобы защитить свою семью и добро… Или умереть в бою.
— Ваше дело — найти своего Чапоги. А то, что вы счастливы чужим счастьем, вы уже давно сами знаете. Тогда вы станете человеком из пустого сосуда человеческого тела. Тогда в вас появится страх и боль, и вы много раз проклянёте свой выбор, но именно так и надо сделать.
Если вы сделаете его правильно, я потом расскажу, чем закончилась эта сказка.
Утром Профессор и лётчик проснулись одни. Рядом лежал русский вещмешок с едой.
На недоумённые расспросы летчика Профессор отвечал, что это были партизаны, и им тоже не стоит оставаться здесь долго…
Они шли ещё день, и вот над их головами с рёвом, возвращаясь с юга, прошли тупорылые истребители.
— Наши, — летчик, задрав голову вверх, пристально смотрел на удаляющиеся машины. — Это наши, значит, всё правильно.
Они спустились в долину.
— Нужно искать по квадратам, — сказал профессор. Он мысленно расчертил долину на шестьдесят четыре шахматных квадрата, потом выбросил заведомо неподходящие.
И рассказал лётчику, по какой замысловатой кривой они пойдут. Тот не понимал, зачем это нужно, и ему пришлось соврать, что так лучше избежать минированных участков.
Двое спускались и поднимались по склонам, пока, наконец, на b6, они не увидели остатки повозки. Мёртвая мать лежала ничком, а в спине её угнездился кусок металла, сделанный не то в Денвере, не то в Харькове. Рядом с телом женщины сидел крохотный мальчик и спокойно смотрел на пришельцев немигающими глазами. Эти глаза, как два горных озера, были полны холодного кристаллического ужаса.
Мальчик схватился за колесо и встал на кривых ножках — был он совершенно гол и только что обгадился.
Двое русских забросали женщину землёй, и накормили мальчика.
Надо было идти. Профессору не было жаль маленькое случайное существо, деталь природы, сорное, как трава. Он навидался смерти — и видел детей и взрослых в ужасе и страхе, видел людей в отчаянии, и тех, кто должен умереть вот-вот.
Он просто удивился этому мальчику, как решению долгой и трудной задачи, доведённой до числа, вдруг давшей целый результат с тремя нулями после запятой.
Отчасти это было радостное удивление, но теперь приходилось тащить мальчика на себе. Мальчик сидел на плечах у Профессора, обхватив его голову, как ствол дерева.
— Я усыновлю его, — бормотал сзади лётчик. — Моих убили ещё в июне — в Лиепае. А малец бесхозный. Бесхозных нам нужно защищать — белых, чёрных, и в крапинку.
— Знаете что, — сказал профессор, — он может воспитываться у меня. У меня большая квартира. Отчего бы вам и ему — у меня. И у меня домработница есть.
Домработница умерла в Блокаду, и Профессор не понимал, зачем он солгал.
Впрочем, лётчик, кажется, и сам не поверил в домработницу и строил какие-то свои планы. Раненая рука мешала ему нести мальчика. Его тащил Профессор, время от времени скармливая ему жёванный хлеб с водой.
Ребёнок оказался хорошим талисманом — через два дня они вышли к своим. Лётчика положили в госпиталь, а мальчик стал жить там же, у местной медсестры. Потом мальчика повёз через границу на Север совсем другой офицер. Мальчик был молчалив, и пугался громкого звука, случайного крика, и даже резкого порыва ветра. Но постепенно это проходило — кристаллический ужас вытаивал из глаз по мере удаления от войны.
Офицер вёз его с той же целью — усыновить, поскольку раненый лётчик уже не вспоминал о своём желании. Профессору нравилось думать, что он встретится с мальчиком через несколько лет, может быть, через двадцать лет, вероятно на экзамене. Ну-с, молодой человек, а изобразите кривую…
Впрочем, в Профессоре возникло необычное беспокойство и тревога. Ему пришлось подробно описать свои приключения, два раза его допрашивали.
Прошло полгода, и Профессор, уже готовясь отбыть на родину, вдруг снова встретился с тем странным стариком, которого он нашёл в безвестной долине. Он приехал на машине на их аэродром, всё так же одетый в зелёный френч.
Накануне Профессор заболел — сначала ему казалось, что это сам организм сопротивляется ласковым беседам-допросам. Пока ещё ласковым. Но он был болен не дипломатической, а самой настоящей болезнью. В горле профессора стоял твёрдый ком, лоб поминутно покрывался испариной. Тело стало профессору чужим.
Профессор был непонятно и смертно болен.
Но увидев старика, он забыл о болезни. Профессор думал, что приехал очередной чекист — свой или местный, но это был именно тот старик из хижины между холмами. Профессор удивлялся, отчего его пропускают повсюду — ведь явно форма была для него чужой. Больше всего он был похож на старого генерала двенадцатого года, с морщинистой черепашьей шеей, болтавшейся в вырезе между петлиц.
Старик был взволнован, торопился, и Профессору приказали ехать с ним. Снова неудобство, почти страх коснулось Профессора тонким лезвием.
Они двинулись по пыльной дороге к ближайшей цепочке холмов. Старик начал подниматься по склону самого высокого из них, притворившегося горой.
Профессор, отдуваясь, лез в гору вслед за стариком. Шофёр беззвучно, легкими шагами шёл сзади. Там на вершине, у зелёных кустов, сидели человек-бульдог и его товарищ. Они задумчиво глядели в ровную каменистую поляну перед собой.
— А вы что тут?.. — задыхаясь, спросил профессор.
— Ккочх-и ихиги-рыл кидаримнида, — ответил маленький и толстый.
— Что он говорит?
— Он говорит, что они ждут, когда расцветут цветы.
Профессор вспомнил своего друга Розенблюма и подумал, что никогда уже не узнает восточной тайны. Как можно ждать возникновения того, что не сеял и не растил? Как цветы решают — родится им или умереть?
На плоской полянке рядом чья-то рука провела глубокую борозду, вычертив идеальный (Профессор сразу понял это) круг.
— У нас большие трудности, — грустно сказал старик. — И нам нужна помощь. Я был не прав, я непростительно ошибался. Они всё-таки сделали это. Приказ отдан, и всё изменилось. Но сейчас ещё можно что-то исправить — сейчас нужно делать выбор.
Сейчас нужны именно вы — человек с пустой головой, которая поросла формулами.
— Таких, как я — много.
— Нет, совсем нет. Вы дышали без страха, но не оттого, что разучились бояться. Вы не научились этому, и оттого ваша голова сильнее рук. В вас пробуждаются чувства, и они убьют силу разума, но сейчас, сейчас всё ещё по-прежнему.
— И что, что?
— Лёгкость вам казалась обманчивой, и это правда. Лёгкость кончилась. Нужно было делать выбор.
— Что за выбор? Зачем?
— Вы сделаете выбор между тем, что умели раньше и тем, что должно принадлежать Чапоги.
Это был странный разговор, потому что каждый знал наперёд реплику собеседника.
Профессор понимал, что сейчас получит в дар чувство страха и неуверенности, но ответ сделает что-то, что лишит ужаса и трепета мальчика, рождённого под телегой.
Тогда, повинуясь руке старика, он сел в круг, и садясь, услышал, как успокоенно выдохнули двое поодаль.
Старик покосился и сказал:
— Теперь я расскажу вам то, что не успел договорить Розенблюм. Человек из старинной сказки, услышав крик, понял, что пришёл конец его заёмному счастью и выскочил из дома с мечом, чтобы защитить свои деньги и семейство.
И тогда он увидел, что нищенка родила под телегой мальчика, и мальчик лежит там, маленький и жалкий, но уже имеющий имя Чапоги — потому что Чапоги значит «рождённый под телегой».
А теперь попробуйте поверить, что всё счастье — и ваше, и его — под угрозой. Край мира остёр, и сейчас мир встал на это ребро. Попробуйте понять это, и круг замкнётся. Надо сосредоточиться и представить себе самое важное…
Профессор представил себе земной шар и начал оглядывать этот шар, будто огромную лабораторную колбу. Граница его обзора двигалась по поверхности, как линия терминатора, отсчитывала сотни километров и тысячи, бежала через меридианы и параллели, не останавливаясь нигде, и от этого появилось тоскливое уныние, морок вязкого сна, как вдруг нечто особенное прекратило это движение.
Совсем рядом — несколько градусов по счисленной столетия назад градусной сетке.
Он видел далекий самолёт, что раскручивал винты — четыре радужных круга вспыхивали у крыльев, видение окружала тысяча деталей, он слышал, как скребёт ладонью небритый техник, сматывающий шланг, щелчок тумблера, шорохи и звуки в требухе огромной машины. Одно наслаивалось на другое, и детали мешали друг другу.
Потом он понял, что нужно читать это изображение как длинный ряд, и выделить при этом главный его член. Снова потекли рекой подробности. Работающие моторы, движение топлива по трубкам, движение масла в гидравлике — что-то мешалось, что-то отсутствовало в этом ряду.
Стоп. Он прошёлся снова — длинная сигара самолёта начала разгоняться по бетонной полосе, выгибались крылья, увеличивалась высота. Стоп. В теле самолёта была странная пустота — там была пустота величиной в каплю.
И профессор сразу понял, что это за капля. Он понял, что пустой она кажется оттого, что это не просто бомба, и даже не оттого, что она пахла плутонием.
В бомбе была пустота, похожая на воронку, что втянет в себя весь мир.
Теперь было понятно, что через час эта воронка откроет свою пасть, и на этом месте видение профессора заканчивалось. Дальше просто ничего не было, дальше история обрывалась.
Старик тронул его за плечо.
— Не надо, не рассказывай. Теперь ты понимаешь — всегда можно выделить главное. Всегда можно понять, какая песчинка вызовет обвал, смерть какого воина вызовет поражение армии. Постарайся представить себе самое дорогое, что у тебя есть, и у тебя получится всё исправить.
— Мне ничего не дорого, — ответил он и не покривил душой.
В нём не было идеалов, время прошло лёгко, оттого что он потерял всё давным-давно и не привязался ни к чему. Судьбы была — пустой мешок. Но нет, подумал он, подумал он, что-то мешает. Значение не нулевое, нет, что-то есть ещё. И он вспомнил о рождённом под телегой и своём заёмном счастье.
Тогда он снова закрыл глаза.
Там, в белом океане воздуха снова летел бомбардировщик, а справа и слева от него шли истребители охранения.
За много километров от них заходил в вираж русский воздушный патруль.
Профессор представлял себе этот мир как совокупность десятка точек, как крупу, рассыпанную по столу.
Вдруг он понял, что он не может действовать на бомбардировщик, тот был слишком велик, и пустота внутри него была бездонна для чужой мысли.
И вот, по плоскости небесного стола, с востока к Профессору двигались две крупинки — одна, окружённая стаей защитников, а другая, всего с двумя помощниками, пробивала себе дорогу чуть севернее. Он понял, что именно эта, остающаяся незамеченной, движущаяся на севере, и несёт в себе пустоту разрушения.
Всё новые и новые волны тупорылых истребителей готовились вступить в схватку с воздушной армадой, но пустота, никем не замеченная, приближалась совсем с другой стороны.
Мальчик, родившийся под телегой, в этот момент заворочался во сне на окраине сибирского города, застонал, сбивая в ком одеяльце.
Профессор услышал его за многие сотни километров, вдруг понял, что это — главное. Но, использовав этот звук, как зажигание, потом отогнал его — как уже не нужный теперь параметр.
Итак, точки двигались перед ним в разных направлениях.
Всё было очень просто — выбрать правильную, или лучше — две, и начать сводить их с теми тремя, что двигаются на севере. Это простая собачья кривая, да.
Это очень простая математика.
Переменные сочетались в его голове, будто цифры, пробегающие в окошечке арифмометра.
И воображаемым пальцем он начал сдвигать крупинки.
Тут же он услышал ругань в эфире, потому что пара истребителей нарушила строй, это было необъяснимо для оставшихся, эфир накалялся, но ничто уже не могло помешать движению этих двух точек по незатейливой кривой.
Борзая бежала к зайцу.
И русский истребитель вполне подчинялся — он был свой, сочетание родного металла и родного электричества, родного пламени и даже горючего, привезённого сюда, за тридевять земель, и сделанного из бакинской нефти.
И человек, что сидел в нём — был свой, с которым Профессор делил воду и хлеб во время их долго путешествия, этот человек хранил в голове ненужную сейчас память о мосте через Неву и дворцах на её берегу, об умерших и убитых из их общего города.
Поэтому связь между ним и Профессором была прочна, как кривая, прочерченная на диссертационном плакате — толстая, жирная, среди шахматных квадратов плоскостных координат.
Самолёты сближались, и вот остроносые истребители открыли огонь, а тупорылые ушли вверх, вот они закружились в карусели, сузили в круг, вот задымил один, и тут же превратился в огненный шар остроносый, сразу же две точки были исключены из уравнения, но тупорылый всё же дорвался до длинного самолёта, и пустота вдруг начала уменьшаться.
Истребитель был обречён.
Снаряды рвали его обшивку, пилот был убит, но ручка в кабине шевелилась сама, и мёртвая рука жала на гашетку. Будто струя раскалённого воздуха из самодельной печки, самолёт двигался по заданному направлению, даже лишённый управления.
На мгновение перед Профессором мелькнуло залитое кровью лицо его давнего знакомого, с которым он брёл между холмов в поисках Чапоги, но тут же исчезло.
Бомбардировщик, словно человек, подвернувший ногу, вдруг подломил крыло.
И Профессор увидел, как в этот момент капля пустоты снова превращается в электрическую начинку, плутониевые сегменты, взрывчатку — и нормальное, счётное, измеряемое вещество. У бомбардировщика оторвался хвост, и, наконец, море приняло все его части.
Одинокий остроносый самолёт, потеряв цель своего существования, ещё рыскал из стороны в сторону, но он уже был неинтересен профессору.
Он был зёрнышком, бусиной, шариком — только точкой на кривой, что, как известно, включает в себя бесконечное количество точек.
Всё снова стало легко, потому что мир снова был гармоничен.
Профессор выполз из круга на четвереньках — старик и его свита сидели рядом. Посередине поляны, будто зелёная бабочка, шевелил лепестками непонятный росток.
Профессор сел рядом с толстым восточным человеком, поглядеть на обыденное чудо цветка.
И ещё до конца не устроившись на голой земле, он осознал страх и тревогу за своё будущее.
Череда смятённых мыслей пронеслась в его голове — о неустойчивости его положения, и уязвимости его слабого тела. Снова испарина покрыла его лоб, он ощутил себя пустой скорлупой — орех был выеден, всё совершено, поле перейдено, а век кончен.
Но уравнение сошлось, и это было важнее хрупкости скорлупы.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
12 апреля 2015
(обратно)
Семиструнка (День цыган. 8 апреля) (2015-04-13)

Я ждал Гамулина, а никакого Гамулина не было — встала у него машина на Егорьевском шоссе.
Вечер, как сонное одеяло, укрывал землю, и начал моросить осенний дождик. Мне надоело, стоя на обочине, держать над головой зонтик, и я пошёл через подлесок к станции, чтобы спрятаться под её худую крышу.
Там, у кассы, уже сидел один человек.
Старик в резиновых сапогах и хорошей спортивной куртке ждал чего-то на перевёрнутой плетёной корзине.
Я дал ему закурить, и мы молча стали смотреть на мокнущие пути.
Подошёл, пыхтя, дизель на Егорьевск, выплюнул рабочих, сразу севших в отправляющуюся мотодрезину, и какого-то похожего на цыгана туриста с разноцветным рюкзаком. Жаль, что не надо было мне на Егорьевск, совсем не надо.
Старик оглядел опустевшую платформу и засобирался.
— Не приехали? — спросил я.
— Кто?
— Ну, там… Ваши…
Но, оказалось, старик никого не ждал, а просто каждый день выходил на станцию, чтобы встретить поезд, а потом поглядеть, как он исчезает вдали. Он давно жил здесь, купив дом в товариществе садоводов, и даже подрабатывал там же сторожем.
Время сторожа было — с сентября по апрель, когда домики садоводов пустели. Тогда старик чувствовал себя настоящим хозяином необитаемого островка на просеке под линией электропередач.
— У нас места-то хорошие. У нас тут Ленин умер, — сказал старик веско.
Мы пошли по тропинке, что вела под мачтами ЛЭП к зелёному забору. Пахло осенней сыростью и мочёным песком прошлого, на котором так хорошо работает двигатель ностальгии.
Я воткнул посреди стола бутылку коньяка, припасённого вовсе не для этого случая. Но и хозяин, пошарив под столом, достал какую-то наливку ядовито-красного цвета.
Старик извлёк откуда-то два стакана — чуть почище для меня, а другой, с несмываемой чайной плёнкой, для себя. Мы выпили, каждый — чужого, и стали слушать нарастающий свист электрического чайника. Дождь разошёлся и уже вовсю барабанил по жестяной крыше.
Потом мы поменялись, и каждый выпил своего, а потом и вовсе перестали обращать внимание на принадлежность жидкостей.
Странный звук вдруг раздался где-то рядом, мне показалось — за калиткой, будто кто-то быстро перебрал гитарные струны — я с недоумением посмотрел на сторожа.
— А ты про потерянный слёт слыхал? — спросил он.
— В смысле? Какой слёт? Туристов?
— Ну, это только так называется — туристов. Никаких не туристов… Давай ещё выпьем, и я расскажу. Дело было так: один грибник пошёл как-то в лес, набрал немеряно опят, а потом понял, что заблудился, и настала ночь. Нечего делать, надо было устраиваться как-то в лесу, ждать рассвета, чтобы найти дорогу обратно. Тогда ведь народу было по лесам мало, дачников считай по пальцам, тропы сплошь звериные, а машина по лесным колеям раз в год проедет.
Только он собрался коротать ночь у костерка, как услышал неподалёку гитарный перебор и пение. Да такое чудное пение, что дух захватывает — про то, что всякой встрече суждены разлуки, и самолёт уже расправил крылья, чтобы унести суженого от любимой. Пошёл грибник на голоса и через некоторое время увидел слёт любителей пения под гитару. Вокруг горят костры, а у костров сидят люди, и всяк что-то поёт. Гудит, звенит над лесом гитара семиструнная, что иногда зовётся русской или цыганской, а ночь такая лунная, и вся душа полна предвкушением и любовью. Один парень про речные перекаты, другой про то, как спит картошка в золе, а третий про голубую ель. Несутся во все стороны песни, как птицы с дерева, вспугнутые детьми. И есть в них всё — и люди, идущие по свету, и песня шин, и боль расставания, и тревожность встреч.
Грибник остановился неподалёку и решил сначала осмотреться, ведь странный народ эти люди с гитарами, как ещё их тогда называли — каэспэшники. А отчего каэспешники, зачем слово такое гадкое — никто не знает.
Но дело, конечно, не в этом: грибник вдруг увидел у одного из костров девушку неописуемой красоты. Скрыть эту красоту не могла ни брезентовая штормовка, ни грубый свитер.
Пела девушка про то, что нет в сердце у цыган стыда, а поглядеть, то и сердца нет. И гитара у неё была старинная — с семью струнами. Но все помнят, что и цыгане считают такую гитару своей.
Грибник был человек средних лет, разведённый, и понял он, что, во что бы то ни стало, хочет познакомиться с этой девушкой. Ещё стоя за кустами, в отблесках костра, дал он себе слово жениться на этой красавице.
А ведь в ту пору жениться было не так просто, люди в очередь стояли, чтобы к свадьбе специальный талон получить — на пиджак, или, скажем, туфли-лодочки. Супруга в квартире прописывали, бюджет семейный начинали планировать и в профкоме не за одну, а за две путёвки драться. А это в два раза сложнее.
Но пролетела ночь, которая, как известно, нежна. Хоть костры и не думали гаснуть, люди уже разбрелись по палаткам. Грибник заметил, куда скрылась его певунья, и направился следом за ней.
Уже светало, как подкрался он к палатке, просунул голову и от ужаса пополз обратно на четвереньках. Всё потому что в большой палатке лежали вповалку мёртвые каэспэшники — у кого нет рук, у кого ног, а у кого и головы. Волосы зашевелились на голове у грибника, и он понял, что встретился ему на пути мёртвый слёт, о котором он как-то когда-то и от кого-то слышал.
Но понемногу грибник успокоился, а потом увидел и свою девушку. Лежала она в обнимку с гитарой, да такая красивая, что у грибника сердце чуть из груди не выпрыгнуло. Даже смерть не мешала этой красоте, чего уж там говорить о свитере и штормовке.
Поднял грибник девушку на плечо, и зашагал к своему дачному дому. Семиструнную гитару он, впрочем, тоже не забыл. А как встречали его дачники, то он им отвечал, что это пьяная подруга его идти не может. Как настала ночь, девушка ожила и всполошилась:
— Ты с ума сошёл?! Куда ты меня притащил? Ведь сейчас придут к тебе, в твой дурацкий домик, мои друзья, лесные братья, зарубят тебя туристскими топорами да истычут кольями от туристских палаток. Отпусти меня обратно!
Но грибник был непреклонен, только, бормоча, обещал жениться и приносить домой всю свою небогатую зарплату.
Однако только он это произнёс, как его дверь затрещала под ударами незнакомцев. И вот к нему в домик вломились крепкие бородатые ребята в ветровках с топорами и гитарами в руках. Начали они бить хозяина, а один ему даже обухом рёбра пересчитал.
Очнулся он на утро — всё в доме поломано, а рядом никого нет. Отёр кровь, умылся и думает:
— Нет уж, слово комсомольское дал, от своего не отступлюсь. Видать, это испытание для моей любви, надо только что-то придумать, чтобы эти каэспэшники в дом не пролезли. Заколотил крест-накрест окна, дверь усилил, да и отправился снова в лес.
Но ничего не вышло — не помогли доски на окнах, ни запоры на двери. Снова вломились к нему мёртвые каэспешники и избили до полусмерти. В этот раз, правда, один бородач сказал ему с сожалением:
— Жаль тебя, парень. Видно, и человек ты неплохой, и смерти не боишься, но пропадёшь от любви, коли не отступишься.
Однако всё равно они унесли свою подругу петь песни о цыганском сердце.
На третий день пошёл грибник на хитрость: стал он плутать по лесу, сбивать со следа, да и залез в чужую пустующую дачу. Зажёг там свечки, запалил лампаду под какой-то старушечьей иконой, а сам, для верности, взял в руки другую.
Под самое утро всё равно нашли его мёртвые каэспешники, но бить не стали. Велели повесить портрет на стенку, а самому слушать.
— Два раза испытывали мы твою любовь, — сказали они ему. — Но есть ещё и третий раз. Выбирай, парень свою судьбу, хоть, по совести сказать, выбирать тебе нечего. Не было раньше такого, что живой человек на мёртвом женился, а мёртвая замуж за живого шла. Никогда ещё женщина с гитарой за нормального мужика не шла. Но всё Бог ведает, а чудеса в руце божией зажаты. Пока ты дрожишь и ждёшь, что будет, мы тебе расскажем нашу историю: случилось с нами вот что: много лет назад поехали мы на гитарный слёт, пели и пили, веселились, но в какой-то момент заснули у костров. А двое наших пошли в соседнюю деревню за водкой и подрались там с местными. Подрались так крепко, что тамошнего тракториста нашли поутру мёртвым. Тогда взяли колхозники косы да дреколье и пришли к нашей стоянке. Так и стал наш слёт мёртвым. С тех пор видят мёртвый слёт в разных местах — то на Нерской, то в Опалихе, то в Снегирях, то на Наре. С тех пор и не знают наши души покоя, и только гитара умаляет нашу боль по ночам.
Ты, мы видим, хоть и комсомолец, но Бога боишься. Похорони нас, прочитай Псалтырь над могилой, и тогда живи себе спокойно. Это тебе третье испытание, самое главное — потому что настоящая любовь не та, что ведёт тебя к смерти, а та, что позволит тебе остаться человеком, а твоей возлюбленной — успокоить свою душу.
Ну, грибник так и сделал — похоронил каэспешников и прочитал над ними Псалтырь, который нашёл всё в том же заброшенном дачном доме. Да только девушку с гитарой хоронить не стал, да и отпевать, понятно, тоже — самому, дескать, пригодится. А любовь моя такова, решил грибник, что мне всё равно — мёртвая моя любимая или живая. И подумал грибник, что уж теперь настанет для него счастливая пора, но не тут-то было.
Ожила она ночью, да и заплакала:
— Что ты наделал? Не послушался ты моих друзей, да на нас обоих беду навёл. Не будет мне теперь покоя навек, да и тебе счастья не видать. Будем мы с тобой теперь души людские губить и рушить чужие жизни.
Так и вышло…
Вокруг нас клубилась туманом ночь. Вдруг рассказ старика прервался, потому что в другой комнатке его домика снова раздался звон гитарной струны. Пронесся окрест над местами, где умер Ленин, звуки тональности, именуемой «ля-минор», и снова всё стихло.
Старик посмотрел мне в глаза:
— Жена играет. Днём стесняется, а по ночам — ничего.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
13 апреля 2015
(обратно)
Бифуркация (День советской науки. Третье воскресенье апреля) (2015-04-18)

Они закурили.
Несмотря на едкий дым сигарет, Фролов с интересом принюхивался к запахам внутри беседки. Тут пахло сырым деревом и ржавеющим металлом. Много лет этот навес использовался как склад неработающего оборудования. Кроме них сюда забредал разве что институтский художник, в перерывах между плакатами и лозунгами, подбиравший здесь, вдали от людей, бесконечные аккорды на разбитой гитаре. Обычно он сидел как раз на этих ящиках. Если хорошо покопаться в этих уходящих уже под землю гробах, можно было обнаружить могучие изделия фирмы «Телефункен», скончавшиеся уже на чужой для них земле.
Он оперся на перила и стал рассматривать надписи на ящиках.
— Ошибки быть не может? — спросил Бажанов.
— Ну вот глупости ты, Сережа, говоришь! Глупости! Сам же знаешь всё. Ну какие в вероятностных теориях могут быть гарантии? — ответил Фролов не оборачиваясь. — Может быть ошибка, ещё как может. У нас группа динамического прогнозирования, а не аптека.
Да только, как ни крути, либо мы вмешиваемся в ход событий, либо плачем потом об упущенных возможностях.
По мокрой дорожке, попадая в лужи, оставшиеся после дождя, к ним кто-то приближался.
Фролову не нужно было и думать — тяжелое дыхание директора он узнавал сразу, даже через закрытую дверь. А тут, во дворе, он услышал его, ещё когда директор вышел на крыльцо. Впрочем, они звали его просто — Папа.
— Ну что, группа в сборе. — Вопросительный знак в конце потерялся.
— Почти вся, — машинально поправил Фролов.
— Знаю. Я отпустил Гринблата, — продожил Папа. — Справимся без него. Кто доложит?
Взялся Бажанов. Фролов чувствовал в товарище эту страсть — Бажанову всё хотелось покомандовать. «Недовоевал он, что ли, — подумал Фролов лениво. — У меня вот вовсе нет этого желания».
Они ждали разговора с Папой, потому что три дня назад написали обтекаемый отчет.
Он был похож на днище британского чайного клипера, такой он был обтекаемый, но внутри него было много тревожных предсказаний. Много более тревожных, чем те, что они сформулировали в октябре шестьдесят второго.
Мир тогда стоял на краю, и всё, что содержалось в двенадцати страницах машинописи, сбылось по писаному. Фролов тогда не тешил себя надеждой, что к ним прислушались, принимая решения, но верным знаком было то, что их сразу же засекретили. У них и так-то была первая форма, но Фролов отметил про себя, что даже уборщице, что пыхтела в лаборатории, подняли степень секретности с третьей на вторую.
Но он заметил, что больше они не занимались политическими прогнозами.
После этого им ставили только экономические задачи — этим они и занимались шесть дней в неделю. Впрочем, и это, кажется, было ненадолго: одной из рекомендаций был переход на пятидневную рабочую неделю.
Гринблат как-то, хохоча, сказал, что это его посильный вклад в национальный вопрос — к пятидесятилетию Советской власти евреи перестанут работать по субботам.
Несколько раз Папа проговорился, что их материалы читает сам Главный Инженер. Он не стал уточнять — гадайте, дескать, сами. Но они догадывались, что существовали в общем русле перемен этого десятилетия.
Их держали из суеверия, как держали средневековые герцоги астрологов — иногда принимая в расчет их слова, иногда забывая о них. Да и сейчас Фролов мог назвать пару академиков, что тормозили свои казенные «Чайки», если дорогу перебегала черная кошка.
Они знали, что весь этот нелегкий век страна меняла структуры управления — вот задача группы и была оптимизировать эти структуры. Только что отшумела история совнархозов.
Некоторые бумаги приходили к ним на бланках уже исчезнувшего Мосгорсовнархоза — то есть Московского городского Совета народного хозяйства. Недавно произошла, как говорили, «реорганизация», а на самом деле — роспуск этих советов. Структуры исчезли точно так же, как и появились — волевым актом руководства. Придуманные лысым крикливым вождем, они ненадолго пережили его отставку.
Гринблат даже печалился по этому поводу. Он соглашался, что структуры эти были нежизнеспособны, но он построил столько моделей их поведения, что напоминал директора цирка химер, который сохранил в клетках не виданных никем уродцев. С разгона он попытался анализировать и недавнее прошлое — в котором были «Министерство вооружений» и «Военно-морское министерство», но тут его одернули. Сокращение количества министерств в начале пятидесятых годов было одним из пунктов обвинения могущественного наркома, а потом и министра в пенсне. Но вот он сгорел в печи неизвестного никому крематория (и пенсне, наверное, вместе с ним) — а штат снова раздулся.
Потом пришли иные времена, и стало понятно, что вся страна перетряхивается, как огромный ковер с тысячами вышитых рисунков. Расправляются и снова ложатся складки — государственная машина зашевелилась, сдвинулась с места.
Говорили, что этот новый курс ведет тайная группа, действия которой вовсе не были тайной. Но минул год знаменитого съезда, пятилетний план трещал по швам, вождь снова сделал доклад о переменах, и вот Гринблат уже начал плодить свои модели.
За ним подтянулась и вся группа — дело было в том, что разваливалась устойчивая пирамида власти. Нарушилась вертикаль принятия решения: от ЦК и Совмина, через министерства — на заводы.
В графических моделях Гринблата появилась географическая составляющая — совнархозы были именно географическим понятием. Совнархозы были при этом коллегиальным органами, и развитием промышленности он руководил комплексно — ему подчинялись все промышленные и строительные предприятия, хозяйственные учреждения, транспорт, финансы и проч. Группа извела тысячи перфокарт, и жизнь доказывала, что химера может обернуться жизнеспособным организмом — уменьшились затраты на транспортировку сырья и продукции, полезли вверх показатели кооперации предприятий.
Да только что-то забурлило в глубинных слоях. Бажанов, ездивший в командировки по стране (он чрезвычайно любил эти командировки, оттого Папа даже прозвал его «туристом»), говорил, что налицо ситуация, когда хозяйственники оказывались относи¬тельно самостоятельными по отношению к обкомам.
А потом высшая партийная власть соединилась с высшей государственной властью. Даже не выходя из лаборатории, группа Бажанова почувствовала, как холодный липкий испуг заливает колесики и винтики партийного аппарата. Из их защитника вождь мог превратиться в человека, отобравшего у них власть.
Даже смотрящие из органов были вне себя — что-то нависло над ними, так что они начинали жаловаться при чужих. Как-то на пьянке их куратор сказал, что их хотят «распогонить, разлампасить».
Ну и судя по чуть изменившейся тональности данных, приходивших издалека, коллеги поняли, что совнархозам не жить.
И они стали заниматься «хозрасчетом».
Это слово Гринблат называл дурацким и бессмысленным, как и слово «самофинансирование».
Но их заметили — заметил и сам Главный Инженер, про которого говорил Папа.
Наверху понравилась идея маленьким, точечным изменением сильно изменить ближайшее будущее. Заменить директора цементного завода и получить в отдаленной области резкий прирост строительства.
Найти узкое место в транспортном снабжении, и строительством железнодорожного моста обеспечить перевыполнение плана целой областью.
Но суть того, чем занимались группа, была, если говорить официальным языком, не в генерации своих идей, а в поддержке чужих.
Там, наверху, в аппарате Главного Инженера решили дать больше хозяйственной самостоятельности предприятиям. Предполагалось, что государство, разрешающее хозяйственникам оставлять в своем распоряжении часть заработанных денег, получит в ответ повышение производительности труда, рост качества и увеличение выпуска продукции, особенно той, которая необходима для повышения жизненного уровня населения.
При этом государство отказывалось от свободных цен.
Папа заклинал своих подопечных от упоминания Тито, Дубчека и Кадара.
Примеры югославских преобразований, реформы в Венгрии и чехословацкий «социализм с человеческим лицом» показали, что одна реформа по цепочке влечет за собой следующую, и так — до бесконечности. Только это, конечно, не бесконечность — здесь жизнь далека от математики.
Это просто возникновение другой общественно-политической формации.
Однажды в начале ноября, как раз накануне праздников, несколько отделов сошлись за праздничным столом после собрания. Тогда они получили Государственную премию, разумеется, по закрытому списку.
Водка лилась рекой, шампанское пили только секретарши.
Под конец вечера Фролов понял, что он по-настоящему напился.
И не он один — Гринблат навалился на него, задышал тяжко в ухо:
— А тебе не кажется, Саша, что мы прошли экстремум? Мы прошли высшую точку, и высшей точкой был Гагарин. Ничего выше Гагарина у нас не было, какой-то дурной каламбур… Не слушай ты меня, вернее, слушай, хоть я и пьяный, я тебе говорю правду: ничего выше Гагарина у нас не было и не будет, весь мир под нас стелился, Гагарину любая принцесса дала б, но функции неумолимы, и кривая начинает ползти вниз. Нам любой ценой нужно не дать системе заснуть. Любой ценой, понимаешь, любой. Там, внизу, будет мрак и тлен, там новый сорок первый год будет, нас голыми руками можно брать будет, коммунизм…
Тут он икнул, и что-то забулькало, заклекотало в горле, будто Гринблат полоскал его при простуде.
Он уронил голову на грудь и так и не очнулся до дома, пока Фролов вез его по стылой ноябрьской Москве на такси.
В ту ночь Фролов поверил в идею, что давно ходила между ними тремя, но не была до конца проговорена.
Малое воздействие в точке ветвления вызывало удивительные перемены модели будущего.
Потом они много раз говорили уже на трезвую голову.
Фролов проверял выкладки, Бажанов сводил вместе их бессвязный бред и вдруг выдавал отточенные формулировки, годившиеся для академической статьи, если бы, конечно, всё это можно было печатать.
У них на большой доске разноцветными магнитиками были изображены блоки системы.
Так это и называлось: «Наглядная схема взаимодействия сложных систем». Гринблат клялся, что с лампочками было бы более красиво, но на лампочки не было фондов.
Фонды были на работу Больших электронно-счетных машин, связанных в одну сеть. Институт позволил лаборатории отбирать свое время по утрам, в рассветные часы. Обычные ученые традиционно не
спали по ночам, но к утру сворачивали деятельность. Более дисциплинированные работали днем, а вот задачи Лаборатории, или группы Бажанова, считались на рассвете.
— Мы всё можем. Мы Берлин брали, — выдохнул Гринблат.
— Что ты кипишишься? — вяло сказал Бажанов. — Ты его, что ли, брал?
Это был удар ниже пояса. Гринблат всю жизнь страдал от того, что не попал на войну. Его не взяли по зрению, да и сердце у него было не в порядке. И всё равно — теперь он чувствовал себя человеком 1924 года рождения, увильнувшим от войны. Он был единственным из мальчиков своего школьного выпуска, оставшимся в живых — оттого он никогда не ходил на встречи одноклассников. Не сказать, что за ним стелился шлейф вины, но эту вину он вырабатывал сам, вырабатывал с такой силой, что, казалось, над головой у него серый нимб еврейской виноватости.
Они поругались, но мгновенно помирились снова.
Их помирила работа, весь мир был на ладони, и всё было достижимо, как в тот майский день, когда Фролов и Бажанов, ещё не зная о существовании друг друга, палили в небо из своих пистолетов.
Аспирант Бажанов делал это под Берлином, а недоучившися студент Фролов — в Будапеште.
И точно так же, как орали в тот апрельский день, когда они, не старые ещё, крепкие сороколетние мужчины, орали в толпе, встречавшей первого космонавта.
Методику они взяли старую.
Несколько лет назад они начали моделировать заводские связи — и по их рекомендациям страна сэкономила миллионы рублей. Связи между поставщиками стали короче, производство стремительно наращивало скорость.
Самое главное было — найти точку приложения сил.
В простом раскладе это был человек, который находился не на своем месте, будто фигура, которую нужно чуть подвинуть — и шахматная партия пойдет совершенно иначе.
Потом, вот уже три года они занимались целыми отраслями — в частности, радиоэлектроникой.
Фролов понимал, что они вовсе не демиурги, просто благодаря им кто-то там, наверху, мог положить на стол перед высшим руководством простой и ясный бумажный аргумент.
Их вовсе не было в сложном раскладе большой игры, они не были даже запятой в том тексте, но на них ссылались как на старинную примету, над которой посмеиваются, но всё равно притормаживают, будто перед черной кошкой.
Наука давно стала мистикой, и особенно сейчас — когда человек полетел в космос.
И эти люди наверху, что командовали армиями ещё в Гражданскую, а потом сидели рядом с вождем в его кабинете, который Фролов представлял себе по фильмам, использовали этот стремительно увеличивающийся в размерах текст в своей загадочной игре.
Фролов не строил иллюзий.
Он был одним из тех, кем командовали эти люди двадцать лет назад. Он покорно брел в намокшей шинели, когда в сорок втором его гнали к Волге. Ему тогда повезло, его, недоучившегося студента, выдернули из окопов, чтобы переучить на артиллериста.
Математика спасла его — он попал в дивизион дальнобойных пушек. Там погибали реже.
Но в тот страшный год он поверил в силу математического расчета — враг тогда побеждал именно математикой — не арифметической численной мощью, а интегральным счислением, координацией элементов, ритмом снабжения, великой математикой войны.
А в сорок втором он был одним из тех, кто платил лихую цену за промахи в управлении, что потом казались пренебрежением математикой сложных систем.
Когда в сорок четвертом он участвовал в большом наступлении, он вдруг почувствовал, что математика уже на их стороне — всё было рассчитано иначе — тщательно, и мать писала ему, что немцы идут по молчащей Москве, что высыпала на улицы. Они идут, шаркая разбитыми сапогами, а она плачет, стоя на балконе.
Итак, методика была старая, а вот математика — куда совершеннее. Гринблат говорил, что наша математика совершеннее, потому что она не надеется на всесилие электронно-счетных машин.
И вот они дописали выводы нескольких месяцев работы. Нет, по условиям игры они расплывчато докладывали результаты напрямую Папе, и он уже догадался, что выводы будут нерядовыми.
Перед тем, как отдать отчет, они поругались снова.
Гринблат снял очки и сказал:
— У нас есть шанс преобразовать страну.
Фролов видел, что эта фраза далась ему с трудом.
— У нас есть шанс преобразить мир. Это шанс на коммунизм.
Бажанов раздраженно махнул рукой:
— Шанс! Это объективное развитие. Половину времени я трачу на совещаниях на то, чтобы отмазать нас от обвинений в субъективизме. Роль личности в истории, Плеханов и всё такое.
Гринблат, не слушая, продолжал:
— У нас два пути — либо жить путем приписок, потому что у нас есть неожиданное богатство. Нам подвалило наследство — оно состоит из древних лесов. Мы можем проматывать его год за годом, спиваясь, как капиталисты и помещики.
Фролов хотел напомнить ему, что отечественные капиталисты были из старообрядцев-трезвенников, но не стал — по сути-то Гринблат был прав.
— И есть второй путь — путь интенсивного развития. Система должна состоять из малых самоорганизующихся единиц. Вирусы сильнее мамонта.
Мы можем затормозить один сегмент, и за это время восстановить мелкие блоки развития. Через десять лет мы будем продавать мертвый лес юрского периода, точно так же, как раньше продавали необработанный лес за границу.
Гринблат знал, о чем говорил — его отец семнадцать лет подряд валил лес на Севере. И национальное богатство за эти семнадцать лет сделало из инженера Гринблата, что на спор передвигал полутонный трансформатор, из весельчака и балагура — тень.
Тень отца, вернувшегося с Севера, жила за шкафом, и Гринблат слышал, как он приподнимается с кровати, когда среди ночи во двор заезжает такси.
— Можно пойти рациональным путем. Нам верят, и наверху готовы. Не мы начали реформы, но реформы идут. Мы знаем, что они идут — мы же сами обрабатываем информацию.
Мы не декабристы, а часть этих реформ, их просто не нужно останавливать — а если мы получим это наследство…
Наследство нужно просто отложить.
— Ты много на себя берешь, — зло сказал Бажанов. — Нефть нужна промышленности. Без промышленности не будет коммунизма.
— У нас не будет промышленности, если мы будем жить нефтью. Смотри, какая у нас электроника — через три года мы полетим на Луну. У нас уже есть счетно-решающие машины — такие, что можно поставить на борт, в них будущее. 256 килобит, представляешь? Да никто не представляет, что такое память 256 килобит!
Успокоившись, они нарисовали схему на доске — Гринблат после этого был обсыпан мелом, и стал похож на мельника.
Рисовать на бумаге им давно запретили — из соображений всё той же секретности.
Линии сходились к одним прямоугольникам, исходили из других, и всё вело к одному человеку. Вернее, к группе людей, которыми он руководил.
Не будет его, уверенного и волевого, и всё развалится.
Развитие пойдет иным путем — медленным и постепенным.
Не месторождение, а целая нефтяная страна будет развиваться с запозданием на десять лет. И за эти десять лет страна переменится — весь этот хозрасчет, все реформы успеют совершить необратимый цикл.
А если нет — несколько десятилетий можно будет легко латать любые дыры в экономике.
Фролов с Гринблатом оценили рост объемов по нефти до трехсот миллионов тонн, а газа чуть не пол триллиона кубометров. Нефть и газ легко конвертировались в доллары, доллары превращались в оборудование и продовольствие, и не было в этой цепочке места совершенствованию производства — зачем оно, когда недостающее можно докупить за границей, не изменяя текущего уклада жизни.
И весь этот конус будущего сходился в настоящем только на одном человеке — на хамоватом нефтянике, почти их ровеснике.
Ему прочили большой пост в Западной Сибири. Он был, конечно, не один, с командой таких же, как он, похожих на казаков Ермака, лихих хозяйственников. В прошлые времена они пустились бы в Сибирь за мягким золотом, как сейчас пустились бы за черным. Но тогда они не побрезговали решать свои вопросы сталью сабель и голосом пищалей. Теперь они были стреножены новыми временами.
Но у них были покровители, а с этим надо считаться в любые времена.
И это будет смертью экономики.
Бажанов исчез на неделю.
Пару раз он забегал в Институт — в непривычном черном костюме с галстуком, и было впечатление, что он каждый день ходит на какие-то похороны.
— Они не могут затормозить назначение. Видишь ли, у них в Совмине образовалась целая фракция, драка бульдогов под ковром.
— Знаю, так говорил Черчилль.
— Может, и Черчилль. Но Папа говорит, что не будет этого назначения, наше дело действительно затормозится. Там просто есть конкурент — тихий хозяйственник, не рисковый. С ним всё будет проще, тише и спокойнее.
А этот пробивает не только финансирование — он делает из этого политическое направление.
— Ну не кидать же в него бомбу, как в царского сановника.
— Бомбу… Я бы кинул в него бомбу, — Бажанов усмехнулся невесело. — Но я не докину, у меня ведь рука после Сталинграда плохо гнется.
Наконец, ещё через несколько дней, он собрал их и сказал:
— Надо убрать этого человека.
Бажанов сказал это просто, точно так же, как сказал когда-то о том, что надо завалить защиту человека, метившего на место начальника Института. Тогда они и сделали это — ювелирно и точно.
Защита провалилась с треском, все и так знали, что диссертация написана другими людьми, но Фролов нагнал в зал веселых остроумцев с допуском к секретной теме, что закидали диссертанта неприятными вопросами, а Гринблат обнаружил подтасовки в расчетах. Но самое главное, Бажанов обеспечил этим людям попадание на сам спектакль.
Ретивого карьериста через месяц тихо убрали из их конторы, и Папа стал директором, а они — его великовозрастными сыновьями.
— Дело решено. Его уберут.
— Как?
— Физически. Это решено на самом верху. Не надо больше ничего спрашивать.
— Он наш, советский человек, — сказал Гринблат.
— Ты же сам этого хотел.
— Тебе что важнее — будущее страны или он? На фронте…
Фролов положил Бажанову руку на плечо:
— Не надо.
Да и сам Бажанов не хотел продолжать.
Фролов думал, что они будут долго обсуждать эту жертву, но, как ни странно, все отнеслись к этой идее спокойно. Он даже испугался — что это? Откуда в нем эта жестокость? Ладно, Бажанов, в нем до сих пор жил недовоевавший командир батареи, ладно он, Фролов, тоже посылавший людей на смерть — и они зачастую были посимпатичнее этого золотозубого нефтяника. Фролов однажды накрыл огнем своих корректировщиков — никакого «вызываю огонь на себя» там не было. Всё было буднично и просто, этого требовала логика боя, да, может, они и были к этому моменту мертвы… Но откуда такое спокойствие в Гринблате? Впрочем, тому наверняка хочется победы, недополученной на войне. Он будет казниться потом, но это — потом.
Они приехали на электричке — ни дать, ни взять, двое работяг с каким-то измерительным инструментом.
У Бажанова в руках была гигантская бело-красная линейка, размеченная штрихами.
А у его напарника на плече длинный брезентовый мешок.
Их было двое — Бажанов и приданный ему снайпер. Или, может, Бажанов был придан снайперу — им оказался невысокий парень с плоским монгольским лицом — глядя на это лицо вовсе не было понятно, сколько ему лет. Может, тридцать, а может, и все пятьдесят.
Когда они подошли к опушке леса, снайпер стал выбирать позицию.
Дорога тут была видна как на ладони — она изгибалась, делая крутой поворот, и уходила в лес, как раз к дачам министерства.
Снайпер расчехлил винтовку, и Бажанов подивился её необычной форме. На фронте он видел снайперов с простыми трёхлинейками, снабженными оптическими прицелами, а тут было что-то специальное.
— Новая разработка? — с уважением спросил Бажанов, но монгол ничего не ответил.
До дороги было метров восемьсот, и Бажанов даже обиделся за новую снайперскую винтовку — на войне он видел, что снайперы тогда били за полтора километра, но не ему тут было решать. Монгол вытащил большой бинокль и дал Бажанову.
— Я работаю по вашей команде — как опознаете машину.
Вечер догорал, как костер.
Они пропустили грузовик с песком, который, видно, прикупил один из сноровистых дачников — явно в обход строгих порядков. Оттого шофер гнал на дачи в неурочное время. Потом дорога надолго опустела.
Бажанова тянуло завязать разговор, да только понятно было, что никакого разговора не будет.
Грузовик проехал обратно.
Наконец из-за поворота показалась белая «Волга», её Бажанов узнал бы из тысячи, да много ли тут «Волг» с таким бело-серебристым отливом.
Белые цифры номера, который он выучил наизусть, были четко видны в сильную оптику. И мужчина за рулем был тоже узнаваем — точь-в-точь как на унылом фото из личного дела.
— Начали, — выдохнул он.
Хлопнул выстрел.
Машину повело по дороге, она вильнула и соскочила с дороги прямо под откос, там она несколько раз перевернулась. Белое тело «Волги» билось на камнях, как пойманная рыба на берегу. Монгол был действительно ювелиром — он пробил колесо, и всё выглядело как заурядная авария.
— Будем проверять?
Монгол ответил всё так же, без выражения:
— Не надо проверять. Всё нормально.
Папа не пришёл к ним в лабораторию, а вызвал их в беседку.
Погода была отвратительной.
Фролов сразу понял, что случилась беда, и они услышат то, что не должны услышать уши стен — ни в их комнате, ни в кабинете самого Папы.
Лицо начальника было белым.
Они никогда не видели его таким.
Оказалось, что жена нефтяника взяла его машину и поехала на дачу с любовником — таким же, как её муж, крепким и обветренным человеком. То же, только в профиль, как говорится — зачем с таким изменять, спрашивается.
Теперь любовники лежали рядом в районном морге, и их обгоревшие головы скалились в облупленный потолок — её белыми, а его — золотыми зубами.
— Что с нами будет? — спросил печальный Гринблат.
— Да что с вами будет? Ничего с вами не будет. Только дело вы загубили. Нефтяник ваш после похорон выезжает в Западную Сибирь. Всего себя отдам работе и всё такое. Дело, понимаете…
— Но расчетное…
— Да плевать там хотели на ваши расчеты, и что не вы совершили ошибку. Этих-то, кто вспомнит, дело житейское. Тут нужно было изящнее, вас за тонкость ценили.
Папа хотел сказать «нас», но гордость ему не позволила. Фролов понял, что Папа сделал какую-то большую ставку, и ставка эта была бита.
— Там, — он сделал жест наверх, — не любят позора. Глупостей смешных там не любят.
Ничего с вами не будет, но мы выбрали кредит доверия.
В том, что вы не болтливы, я уверен, я-то вас давно знаю. Да только теперь никто к вам не прислушается.
Видно было, что Папа снова хотел сказать «к нам», но эти слова ему были поперек горла.
— И что теперь? Разгонят нас?
— Да зачем вас разгонять, играйтесь в свои кубики. Эх, чижика съели!
Папа посмотрел на стену, на которой замерли магнитики, да что там — замерло экономическое развитие страны.
— Я теперь не смогу им… Я уже нечего не могу им сказать про ваши дурацкие идеи. И про нефть.
Фролов слушал всё это, чувствуя, как его понемногу отпускает.
Он смотрел на стену с некоторым облегчением — пусть всё будет, как будет.
Страна получит нефть и газ, у нас через двадцать лет будет нефть и коммунизм.
Мы его купим. Или получим как-нибудь ещё — неважно, каким способом.
Иллюстрация: Спектакль Московского драматического театра им. М.Н.Ермоловой (1972) — да, это подсказка.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
18 апреля 2015
(обратно)
Разлив (День рождения В. И. Ленина. 22 апреля) (2015-04-22)
…На память об этом поставили мы шалаш из гранита.
Рабочие города Ленина. 1927 год

Наталья Александровна поругалась со своим другом. «Мой друг», так произносила она про себя на французский манер, (или говорила вслух, когда рассказывала о нём подругам). Теперь друг разонравился ей окончательно.
И всё из-за дома, из-за домика — Наталья Александровна хотела домик, она хотела дом, а в её ягодном возрасте жить в шалаше не хотелось ни при каких обстоятельствах. Был присмотрен и коттеджный посёлок недалеко от города, но каждый раз всё откладывалось.
Теперь они поехали на шашлыки — на озеро под Петербургом, в военный пансионат. Что-то там у друга было в прошлом, какая-то история, которую Наталья Александровна предпочитала не знать. Но он с тех пор он с друзьями ездил сюда каждый год. Вот уже и отменили экскурсии и пионерские праздники, и уже ходили слухи, что новые русские за умеренную цену могут сжечь специально для них отстроенный шалаш.
Но и это Наталью Александровну занимало мало.
Она сама понимала, что полгода жизни потрачены впустую — поклонник оказался с червоточиной. Собственно, он оказался просто негодным. Часть весны и всё лето оказались посвящены бессмысленным затратным мероприятиям — и все ради этого фальшивого бизнесмена. Наши отношения не имеют будущего — так говорят в кинематографе.
Будущее — это домик.
«Мой друг» оказался вовсе не так успешен, как казалось сначала, и вовсе не так нежен, как она думала. Сейчас, напившись, он клевал носом, пока в лучах автомобильных фар пары танцевали на фоне светящейся поверхности озера. Нет, её поклонник мог ограбить детский дом или уничтожить своими руками конкурентов, это бы она простила, но напиться пьяным… Это уж никуда не годилось.
Сидеть в шезлонге, даже под двумя пледами, было холодно, и она, чтобы не заплакать от досады на людях, пошла по дорожке.
И вот она уходила всё дальше, в сторону от шашлычного чада. Было удивительно тепло, чересчур тепло для апреля. Впрочем, жалобы на сломанный климат давно стали общим местом. А ведь когда-то в эти дни нужно было идти на субботник — и снег, смёрзшийся в камень, ещё лежал в тени.
А теперь не стало ни праздников, ни субботников — только продлённая весна.
Ночь была светла, и две огромных Луны — одна небесная, другая озёрная — светили ей в спину.
Миновав пустую бетонную площадку, где уже не парковались десятками экскурсионные автобусы, и только, как чёрная ворона, скрипел на ветру потухший фонарь, она двинулась по тропинке. Стеклянное здание музея заросло тропической мочалой. Разбитые окна были заколочены чёрной фанерой.
И вдруг Наталья Александровна остановилась от ужаса — кто-то сидел на пеньке в дрожащем круге света. И действительно, посреди этого царства запустения маленький старичок, сидя в высокой траве писал что-то, засунув мизинец в рот. Рядом на бревне криво стояла древняя керосиновая лампа. Мигал свет, и старичок бормотал что-то, вскрикивал, почёсывался.
Сучок треснул под её ногой, и пишущий оторвался от бумаг.
Наталья Александровна не ожидала той прыти, с которой он подскочил к ней.
— О, счастье! Вас ко мне сам… Впрочем, не важно, кто вас послал, — и он вытащил откуда-то стакан в подстаканнике и плеснул туда из чайника.
Поколебавшись, Наталья Александровна приняла дар. После безумного шато Тетропак, что она пила весь вечер, чай показался ей счастливым даром. Правда, больше напиток напоминал переслащённый кипяток.
Старичок был подвижен и несколько суетлив. Она приняла его за смотрителя, прирабатывающего позированием. Ещё лет двадцать лет назад расплодилась эта порода, что бегала по площадям в кепках и подставлялась под объективы туристов. Эти мусорные старики были разного вида — и объединяли их только кепки, бородки и банты в петлицах. Но постепенно Наталья Александровна стала понимать, что что-то тут не так. Что-то было в этом старичке затхлое, но одновременно таинственное.
— Пойдёмте ко мне, барышня, — и они поплыли через море травы, но не к разбитому музею, а к гранитному домику-памятнику. «Это все луна, обида и скука» — подумала она вяло, но прикинув, сумеет ли дать отпор.
В домике, казавшемся монолитным, открылась дверь, и Наталья Александровна ступила на порог. Упругий лунный свет толкал её в спину. И она ступила внутрь.
Там оказалось на удивление уютно — узкая кровать с панцирной сеткой, стол, стул и «Остров мёртвых» Бёклина на стене.
— Давно здесь? — спросила она.
— С войны, — отвечал хозяин.
— А Мавзолей? — спросила она, подтрунивая над маскарадом.
— В Мавзолее лежит несчастный Посвянский, инженер-путеец. В сорок первом меня везли в Тюмень, но во время бомбёжки я случайно выпал из поезда. Сошедшая с ума охрана тут же наскоро расстреляла подвернувшегося под руку несчастного инженера и положила вместо меня в хрустальный саркофаг, изготовленный по чертежам архитектора Мельникова.
Спящие царевны не переведутся никогда, и их место пусто не бывает.
Мне обратно хода не было, и я вернулся в своё старое пристанище — сюда, среди камышей и осоки.
— Нет, это не смотритель, — обожгла Наталью Александровну догадка. — Это — сумасшедший. Маньяк. Что за чай она пила? И как всё это глупо…
Огромная луна светила сквозь маленькое оконце, и этот свет глушил страх. Она держала стакан, как бокал. Наталья Александровна вспомнила, наконец, что это за вкус — чай отдавал морковью. «Модно», подумала она про себя.
Старичок меж тем рассказывал, как сперва отсыпался, и не слышал ничего, происходившего за стеной. Нужно было хотя бы выговориться, и он принялся рассказывать свою жизнь, уже не следя за реакцией. Он спал, ворочаясь на провисшей кроватной сетке, и во сне к нему приходили мёртвые друзья — пришёл даже Коба, который не прижился в Мавзолее и не стал вечно живым. Но потом он стал различать за гранитными стенами шум шагов — детские экскурсии, приём в пионеры, бодрые команды, что отдавали офицеры принимающим присягу солдатам и медленную, тяжёлую поступь официальных делегаций.
Однажды в его дом стал ломиться африканский шаман, которого по ошибке принимали за основоположника какой-то социалистической партии. Отстав от своих, шаман неуловимым движением открыл дверь, но хозяин стоял за ней наготове, и они встретились глазами.
Шаман ему не понравился: африканец был молод, и неотёсан — он жил семьсот лет и пятьсот из них был людоедом. Взгляды скрестились как шпаги, и дверь потихоньку закрылась. Африканец почувствовал силу пролетарского вождя и, повернувшись, побежал по дорожке догонять своих.
На следующий день африканец подписал договор о дружбе с Советской страной. Это, впрочем, не спасло людоеда от быстрой наведённой смерти в крымском санатории. Домой африканец летел уже потрошёный и забальзамированный. Болтаясь в брюхе военного самолёта, людоед недоумённо глядел пустыми глазами в черноту своего нового деревянного дома и ненавидел всех белых людей за их силу.
Время от времени, особенно в белые ночи, житель шалаша открывал дверь, чтобы посмотреть на мир. Залетевшие комары, напившись бальзамической крови, дурели и засыпали на лету. Он спал год за годом, и гранит приятно холодил его вечное тело. Он бы покинул это место, пошёл по Руси, как и полагалось настоящему старику-философу в этой стране, но над ним тяготело давнее проклятие. Проклятие привязало гения к месту, к очагу, с которого всё начиналось и лишило сил покинуть гранитное убежище.
Потом пришли иные времена, людей вокруг стало меньше. Персональная ненависть к нему ослабла — и он стал чаще выходить наружу. Теперь это можно было делать днём, а не ночью. Но всё равно он не мог покинуть эти берёзы, озеро и болота.
Сила его слабела, одновременно с тем, как слабела в мире вера в его непогрешимость и вечность. Однажды к нему в лес пришёл смуглый восточный человек, чтобы заключить договор. Но желания справедливости не было в этом восточном человеке, чем-то он напоминал жителю шалаша мумию, сбежавшую из Эрмитажа.
Старик слушал пришельца, и злость вскипала в нём.
Восточный человек предлагал ему продать первородство классовой борьбы за свободу. Вместо счастья всего человечества нужно было драться за преимущества одной нации. Старик хмуро смотрел на пришельца, но сила русского затворника была уже не та.
«Натуральный басмач», подумал он, вдыхая незнакомые запахи — пыль пустыни и прах предгорий Центральной Азии.
Это было мерзко — и то, что предлагал гость, и то, что его было невозможно прогнать.
Но перед уходом хан-басмач сделал ему неожиданный подарок. Обернувшись, уходя, он напомнил ему историю старого игумена. Хозяина Разлива проклинали многажды — и разные люди. Проклятия ложились тонкими плёнками, одно поверх другого. Но было среди прочих одно, что держало его именно здесь, среди болот и осоки. Его когда-то наложил обладавший особой силой игумен. Игумен стоял в Кремле, среди тех храмов, которые скоро исчезнут, и ждал его. И когда мимо проехала чёрная открытая машина, стремительно и резко взмахнул рукой. Священник потом уехал на Север, но его всё равно нашли. Игумена давным-давно не было на свете, а вот проклятие осталось.
Игумен был строг в вере и обвинял большевиков в том, что они украли у Господа тринадцать дней. Сначала проклятый думал, что это глупость — проклятия были и посильнее, пропитанные кровью и выкрикнутые перед смертью, но постепенно стал вязнуть в календаре. Время ограничивало пространство, и в 1924 году календарь окончательно смешался в его голове.
А потом, в сорок первом, когда его повезли на восток, время и вовсе сошло с ума, и, схватившись за голову от боли, он вылез из-под хрустального колпака. Тогда и сделал роковой — или счастливый — шаг к открытой двери теплушки.
Многие годы он думал, что это проклятие календарём вечно, но оказалось, что раз в год его можно снять — в две недели, что лежат, между 10 и 22 апреля. Вот о чём рассказал ему восточный хан, старый басмач в европейском костюме.
Но каждый год срок кончался бессмысленно и глупо, освобождения не происходило, и снова накатывала тоска. Никто не приходил поцеловать спящую душу и за руку вывести его из гранитного дома-убежища.
И сделать нужно совсем немного.
Старик наклонился к Наталье Александровне и каркнул прямо ей в лицо:
— Поцелуй меня.
— С какой стати?
— Поцелуй. Время может повернуть вспять, и я войду второй раз в его реку. Сила народной ненависти переполняет меня, и я имею власть над угнетёнными. Поцелуй, и я изменю мир — теперь я знаю, как нужно это сделать и не повторю прошлых ошибок.
— Ошибок?!..
— Ты не представляешь, что за будущее нас ждёт — я не упущу ничего, меня не догонит пуля Каплан, впрочем, дело не в Каплан, там было всё совсем иначе… Но это ещё не всё. Я ведь бессмертен — и ты тоже станешь бессмертна, соединяясь со мной. Тело твоё будет жить в веках, вот что я тебе предлагаю.
Наталья Александровна поискала глазами скрытую камеру. Нет, не похоже, и не похоже на сон, что может присниться под пледом в шезлонге после двух бокалов.
Вокруг была реальность, данная в ощущениях. Внутри гранитного домика было холодно и сыро. Тянуло кислым, как от полотенец в доме одинокого немолодого мужчины.
Она встала и приоткрыла дверку. Старик тоже вскочил и умоляюще протянул к ней руки.
Они посмотрели друг на друга. Старик со страхом думал о том, понимает ли эта женщина, что судьбы мира сейчас в её руках? То есть, в устах.
А она смотрела на старика-затворника с удивлением. Он не очень понравился Наталье Александровне. Никакой пассионарности она в нём не увидела, а лишь тоску и печаль. И с этим человеком нужно провести вечную жизнь.
Или всё-таки поцеловать?
Или нет?
Или просто рискнуть — в ожидании фотовспышки и визгов тех подонков, что придумали розыгрыш.
Хозяин, не утерпев, придвинулся к ней, обдав запахом пыли и сырости. Наталья Александровна отстранилась, и они рухнули с крохотных ступенек домика.
Занимался рассвет.
Старик закричал страшно, швырнул кепку оземь и рванулся внутрь гранитного шалаша.
Дверь за ним с грохотом захлопнулась, обсыпав Наталью Александровну колкой гранитной крошкой.
Занимался рассвет, но в сумраке было видно, как мечутся в лесу друзья Натальи Александровны, как безумцы, маша фонариками. Световые столбы то втыкались в туманное небо, то стелились по земле.
Она вздохнула и пошла им навстречу.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
22 апреля 2015
(обратно)
Рассказ непогашенной луны (День астронома. Суббота между серединой апреля и серединой мая, вблизи или перед 1-й четвертью луны) (2015-04-23)
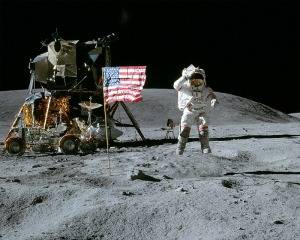
Она уже давно ездила этим маршрутом — сначала на автобусе до вокзала, а потом электричкой до Подлипок. За несколькими заборами, за скучающими солдатами, которые охраняли периметр, она сидела день за днём, грея пальцы кружкой с крепким чаем. Но каждый день, когда истекали положенные восемь часов, она аккуратно мыла чашку ледяной водой в туалете, запирала и опечатывала комнату.
И точно так же — одиноко, последней из всех, ехала домой.
Жизнь давно изменила смысл.
На двери ещё виднелись следы от накладных букв — они исчезли давно, но надпись всё же читалась — «Восход-Аполлон».
Совместная лунная программа была свёрнута, перспективных сотрудников разобрали более удачливые коллеги.
Комната была пуста — вынесли даже лишние столы. В углу как скрученное знамя торчала настоящая ракета.
Розалия Самуиловна равнодушно скользнула по ней взглядом, но вдруг вспомнила, что ракета стоит тут ровно десять лет, потому что ровно десять лет назад она стала заведовать сектором — единственная женщина среди десятков начальников. «На десятилетие мне подарили настоящую ракету, а двадцатилетия у меня точно уже не будет», — подумала она. Ракета была действительно настоящая, ещё ГИРДовская, собранная задолго до войны, да только так и не взлетевшая.
Сейчас она стояла в углу, и, глядя на неё, хозяйка кабинета тщетно пыталась вспомнить, кто её собирал. Кажется, Каплевич. Или не он? Каплевича расстреляли в тридцать восьмом, и его уже не спросишь. Да, он, кажется.
Подарок довольно странный, учитывая то, что за территорию его не вынесешь.
Розалия Самуиловна пережила всех, и, что страшнее, пережила сыновей. Один сгорел в истребителе где-то над Кубанью, а другой погиб вместе с первым космонавтом, врезавшись на учебном самолёте в лес под Киржачом. Кого другого это бы сломало, но Розалия Самуиловна была сделана из особого теста. В её сухом старом теле горело пламя великой идеи, и, одновременно, великой тайны. Оттого смерть детей осталась для неё досадным эпизодом, чем-то вроде проигранной шахматной партии.
Смертей она видела достаточно — лет сорок назад она убивала сама, и за ночь ствол наградного нагана раскалялся настолько, что приходилось просить у конвойных их оружие. Но всё это осталось в прошлом.
Жизнь текла прочь, как слитое после отмены старта топливо. Но это всё глупости, глупости, повторяла она про себя — больше всего ей досаждали варикозное расширение вен, ну и, как водится, американцы.
В углу кабинета бормотало радио — передавали новости, и в какой-то момент стали говорить о главном: американцы готовились стартовать на Луну. Розалия Самуиловна поймала себя на том, что ей жалко эту американскую троицу хороших, славных, наверное, парней. Одна среди немногих людей на Земле, она понимала, что они никуда не полетят, а, скорее всего, погибнут на старте.
В остальном сегодня всё шло как обычно — она прошла по коридору, зажурчала водой в туалете и вернулась к двери, отряхивая мокрые руки.
Мимо неё по коридору, раскачиваясь на деревянных ногах, шёл техник Фадеев. Фадеев тоже был немолод, но никаких чинов и званий не имел, а имел звание бога экспериментальных моделей.
Розалию Самуиловну он укорял за дурной характер, ведь если бы не характер, то Розалия Самуиловна, поди, заведовала бы не сектором, а институтом, и не каталась бы в электричках, а ездила в персональной машине Горьковского автозавода.
Технику Фадееву было хорошо — он уезжал домой на «Москвиче» с ручным управлением.
Жёлтому «Москвичу» многие завидовали, несмотря на то, что Фадеев получил его только потому, что у него не было ног. В сорок втором подорвал себя вместе со своей «Катюшей». Взрыв подбросил Фадеева вверх, и он целую ночь, умирая, провисел на макушке огромной сосны, пока немцы бродили внизу.
Он умирал долго и мучительно, но так и не умер. Теперь, уже двадцать с лишком лет, он собирал слаботочное и высокоточное, и не было ему равных в ручной экспериментальной работе. Бояться ему было нечего — и действительно, он единственный не боялся Розалии Самуиловны, которой боялись все — от солдата внутренних войск у ворот до покойного главного конструктора.
Один из молодых инженеров сочинил про неё стишки для стенгазеты ко Дню космонавтики.
Там предлагалось —
От канцелярщины и спячки
Чтоб оградить себя вполне
Портрет завсектора, товарищ,
Повесь, скорее, на стене!
Художник, оформлявший стенгазету, так выразительно посмотрел на молодого инженера, что он сам скомкал листок с эпиграммой и разве что не съел его.
Иногда Фадееву казалось, что Розалия Самуиловна хранит какую-то тайну, и эта тайна позволила ей пройти между опасностей её века, как одному наркому между струй дождя. Но эту мысль он от себя гнал — тогда бы она не завалила лунную программу, а лунная программа была завалена — это факт.
Он тоже следил за тем, как американцы рвутся к ноздреватому спутнику, что висел в холодном небе, как фонарь, и думал, что сейчас он поговорит об этом.
Но Розалия Самуиловна была грустна и неразговорчива — она вошла в комнату и аккуратно закрыла дверь перед его носом.
И в это время грянул телефонный звонок.
Фадеева как ветром сдуло от двери, потому что он понял, что так звонит только один аппарат — матовый телефон с диском, на котором не было цифр. На этом диске был только маленький цветной герб Советского Союза. Таких телефонов в институте было всего два — в кабинете Главного и отчего-то — в комнате Розалии Самуиловны.
Она, между тем, сняла трубку, и с каждым словом, что било в мембрану, грусть на её лице сменялась озабоченностью.
— Ты что, не поняла? Они действительно хотят лететь.
— Куда?
— Известно куда — до конца, по-настоящему… А всё началось с Кеннеди. Мы поздно убрали Кеннеди, вот в чём дело. Мы опоздали, и всё пошло к чёрту.
— Да, Кеннеди много напортил. Но я думала, что мы договорились.
— Мы тоже думали.
— Завтра Луны не станет. То есть, все узнают…
Розалия Самуиловна и так, впрочем, давным-давно знала, что никакой Луны нет. Её очень давно не было — а был лишь оптический обман, фикция. Настоящая Луна в незапамятные времена рухнула на Землю и, вырыв гигантский кратер, сгубила в пыльном катаклизме всех динозавров.
С тех пор вокруг планеты вращался белый диск — глаза и уши дозорной цивилизации.
Во славу ночного светила сочинялись стихи и музыка, а оно исправно ловило все эти звуки, чтобы передать их куда-то наверх, дальше. Человечество жило в своём медленно меняющемся мире, а фальшивая Луна, инопланетный ретранслятор, крутилась бессмертным стражем рядом. Точно так же наблюдал монитор, сделанный людьми, за собаками.
Теми собаками, которых Розалия Самуиловна запускала в космическую пустоту сперва безо всякой надежды на возвращение, потом с некоторой надеждой, а потом и вовсе с некоторой долей уверенности. А теперь подопытное население планеты было готово выйти из-под контроля, и, возможно, прийти в безумие, как те дворняжки, что бесновались в космических капсулах, предчувствуя гибель.
Один раз история с Луной чуть не раскрылась — с гигантской антенны оторвался гиродин, корректирующий её орбиту. Он упал, выкрошив сотни километров тунгусской тайги, и группа дозорной цивилизации потратила два долгих года, чтобы вывести все, даже самые крохотные обломки.
Тогда же чужая раса и пошла на контакт. Тогда-то и появились посвящённые. Посвящённых было немного, всего двенадцать человек, и среди них — несгибаемый революционер, бескомпромиссный партиец Розалия Самуиловна. Об этом не знал даже её муж, погибший в тридцать третьем году в Нахабино при испытании точно такой же ракеты, что теперь стояла у неё в кабинете.
Другого, может быть, и раздражало напоминание о ракете-убийце, но только не её.
Это был просто выхолощенный кусок железа, пустая труба. А лицо своего мужа она давно забыла.
Когда часть посвящённых после войны перебралась из Германии за океан, все двенадцать договорились, что они займут ключевые посты в ракетной индустрии великих держав.
Изнутри было легче держать отрасль под контролем.
Но и тогда не обошлось без накладок — пришлось уничтожить несколько советских межпланетных станций и изрядно притормозить американскую программу освоения космоса.
Прежний Генеральный секретарь, отправившись в Америку, вдруг раздухарился и, как это с ним иногда бывало, прямо посреди кукурузного поля предложил американцам лететь к Луне вместе — на соединённых кораблях «Восход» и «Аполлон».
Генерального секретаря тут же убрали, поместив за дачный забор — вскапывать грядки и растить подмосковную кукурузу.
Но было поздно. Опасность не исчезла, американцы, воодушевлённые Кеннеди, требовали космического реванша, и сдерживать их получалось с трудом.
Она вдруг вспомнила, на кого был похож Кеннеди. Похож он был на того штабс-капитана, которого она собственноручно расстреляла в Ялте. Точно, такой же гладкий и сытый. Но воспоминание об этом всеми забытом белогвардейце быстро покинуло её память — будто тело булькнуло в холодную воду Чёрного моря.
Меж тем посвящённые понимали, что может произойти не то что при попытке посадки на Луну, а даже при её фотографировании в непривычных ракурсах. Всем станет очевидно, что самый большой спутник — искусственный. И более того, что он представляет из себя не шар, а гигантский плоский щит-антенну надзорной цивилизации. Именно поэтому никто не видел оборотной стороны Луны.
Десять лет подряд державы обгоняли друг друга в космической гонке, отставали, вкладывали миллиарды в новые технологии, но миллиарды землян каждую ночь наблюдали Луну на небосводе и не догадывались об обмане.
Усилиями немногих посвящённых равновесие сохранялось.
Иногда Розалия Самуиловна представляла себе, что произойдёт, если вдруг Луна сложится, свернётся и улетит перелётной птицей в иные края. Ей представлялся ужас африканских племён, и ужасу этому она сочувствовала. Европейцы были циники, их Розалии Самуиловне жалко не было — но она представляла масштаб паники, когда просвещённые люди, век за веком проводившие в спорах о религии и устройстве мира, поймут, что за ними давно наблюдает огромный чужой глаз — точь-в-точь как за подопытными собаками. Но и исчезновение этого глаза было гибельно — как если бы подопытные собаки пустились в самостоятельное космическое путешествие.
Розалии Самуиловне никогда не приходило в голову, зачем другой цивилизации этот эксперимент. Она просто поверила в его необходимость, как поверила когда-то в необходимость революции, а потом поверила в необходимость уничтожения расплодившихся врагов, она верила в это свято, и вера замещала счастье, славу, семью и любовь.
До недавнего времени всё шло своим ходом, и посвящённые обдумывали, как спустить это дело на тормозах — Луна была никому не нужна, и несколько десятков килограмм лунного или как бы лунного грунта ничего в жизни Земли не изменят. Луна нужна людям только в виде острого серпа или круга на небе.
Но, в конце концов, у одного из игроков игра вышла из-под контроля. Посвящённые не справились со своей задачей — и Розалии Самуиловне было отчасти приятно, что это случилось не с ней, а с теми, за океаном.
Надо было что-то придумать; если не решить проблему навсегда, то хотя бы отодвинуть её в то время, когда слово «капитализм» будет помечено в словарях как устаревшее.
— Нет, машину не высылайте, не успеете, и это лишнее время, — сказала она в трубку и выглянула при этом в окно. — Просто обеспечьте зелёную волну и мотоциклистов в городе.
Техник Фадеев чрезвычайно удивился, когда увидел, как Розалия Самуиловна лёгкой летящей походкой устремилась к его «Москвичу».
— Александр Александрович, вы мне нужны, — сейчас мы с вами поедем в город.
Фадеев был поражён таким желанием и помедлил с ответом. Однако его согласия вовсе не требовалось.
— Мы поедем очень быстро, очень быстро. Все проблемы с дорожной инспекцией я беру на себя.
Розалия Самуиловна устраивалась на заднем сиденье машины, небрежно подвинув рассаду, которую Фадеев собирался везти на дачу.
— И вот ещё что, Александр Александрович. Вы мне не мешайте примерно пятнадцать минут. Я должна кое-что обдумать, а вот потом вы остановитесь в городе у телефонного автомата.
— Какого автомата?
— Любого телефонного автомата, Александр Александрович. Поехали.
И техник Фадеев поехал, да так, как никогда не гонял с того времени, когда пытался оторваться на своей БМ-13 от немецких мотоциклистов. «Москвич» с ручным управлением влетел в Москву, где к нему тут же пристроились два милицейских мотоцикла. Фадеев думал сбросить скорость, но его спутница только махнула рукой.
Машина в сопровождении двух милиционеров летела по перекрытым улицам валящегося в вечерние сумерки города. Они, как нож сквозь масло, прошли через центр, а у Калужской заставы Розалия Самуиловна велела затормозить. В первом телефонном автомате трубка была вырвана с мясом. Во втором телефон молчал как убитый.
Две копейки провалились в нутро третьего, но соединения не произошло.
Розалия Самуиловна сделала движение пальцем, и Фадеев стал лихорадочно рыться в карманах. Старуха даже притопнула от нетерпения каблучком — такой техник Фадеев её никогда не видел. Наконец монетка нашлась, и секунду спустя Розалия Самуиловна заговорила с кем-то на непонятном иностранном языке. Техник Фадеев снова отошёл, чтобы не слышать разговора. Что-то подсказывало ему, что знать подробности ему не нужно и, может, даже вредно.
Он встал у машины и стал разглядывать ожидающих на своих мотоциклах милиционеров в белых шлемах. От работающих на холостом ходу моторов тянуло сладковатым выхлопом.
— И бензин у них, поди, без лимитов, — успел подумать он, но старуха уже снова садилась в машину.
Они свернули в глухие ворота на Ленинских горах.
Во дворе, аккуратно поставив грязную машину,
Фадеев сел на лавочку и стал курить. Охрана таращилась на «Москвич» в потёках грязи, но ни слова не говорила. С помощью знаков Фадеев стал выпрашивать сигареты у главного человека в штатском. Сигареты тот давал несколько морщась, но тоже не произнося ни единого слова.
В это время Розалия Самуиловна сидела прямо на траве, вытянув ноги, на высоком откосе Ленинских гор. Сзади чернел пустой правительственный особняк, а внизу, освещённый лунным светом, плыл речной трамвайчик. Офицер связи дисциплинированно стоял в стороне, чтобы не слышать разговора. Генеральный секретарь всплёскивал руками, оттого две золотые звезды бились на его пиджаке, как живые.
— Сколько им времени осталось лететь? Я не знаю почему, но мне сказали, что их нельзя пустить к Луне. Что, сбивать их, что ли?
Розалия Самуиловна, не стесняясь его, морщась, гладила свою венозную голень. Со стороны могло показаться, что она ведьминскими пассами заговаривает боль.
— Леонид, не суетитесь.
Он осёкся и посмотрел на неё со страхом — Розалия Самуиловна его пугала. Что-то в ней было от вечно живой мумии… Живёт сквозь века, ничуть не меняясь.
Генеральный секретарь помнил её цепкий взгляд, когда она посмотрела на него во время вручения наград космонавтам. Тогда он решил, что на него смотрят, как на собаку перед вивисекцией. Теперь взгляд Розалии Самуиловны был такой же, как много лет назад. Кажется, в сорок седьмом у неё была какая-то неприятность, но сейчас он видел, что старуха переживёт и его. Она уничтожит тебя, только пикни, только заартачься, — подумал Генеральный секретарь, — и уничтожит с таким выражением лица, будто разбила яйцо для яичницы. А как они Никиту-то подвинули, я только бумаги подмахнул…
— Не суетитесь, Леонид, я поговорила с нашими по дороге. Мы закроем этот вопрос — по крайней мере, на полвека. Никто, конечно, никуда не полетит, но мы отдадим приоритет американцам.
— Как так?
— Они отснимут несколько эпизодов в павильоне. Эти шустрые ребята не погибнут, никакой нужды их устранять нет… И вот что — нам не нужна недостижимая Луна. Такая Луна долго не даст никому покоя. Нам нужна покорённая Луна, унылая и скучная. Поверьте мне, десятилетиями никто больше Луной интересоваться не будет — уж в особенности эти шиберы. Вот торговать участками на ней они будут, а задаваться вопросом, из чего она сделана — никогда.
— Но наша гордость… — Генеральный секретарь оскорблённо звякнул своими золотыми медалями. — К тому же они требуют Чехословакию. Что, сдадим? Может, чехов им сдадим? Скажем, что гражданская война и так предотвращена, выведем танки, и — привет?
— Национальная гордость — страшная вещь. Но Чехословакия — это много. Если заартачатся, то сдайте им этого хулигана в Боливии. …Молодой человек!.. — и Розалия Самуиловна сделала знак офицеру, переминавшемуся на краю площадки.
Офицер вздрогнул и вприпрыжку побежал к ним, прижимая к груди чемоданчик с телефоном.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
23 апреля 2015
(обратно)
Кошачье сердце (День биолога. Четвёртая суббота апреля) (2015-04-25)

В воздухе стоял горький запах — запах застарелого, долгого пожара, много раз залитого водой, но всё ещё тлеющего. «Виллис» пылил берегом реки, мимо обгорелых машин, которые оттащили на обочину. Из машин скалились обгоревшие и раздувшиеся беглецы из числа тех жителей, что решили в последний момент покинуть город.
Фетина вёз шофёр-украинец, которого, будто иллюстрацию, вырвали из книги Гоголя, отсутствовал разве что оселедец. Водитель несколько раз пытался заговорить, но Фетин молчал, перебирая в уме дела. Война догорала, и все ещё военные соображения становились послевоенными. А послевоенные превращались в предвоенные — и главным в них для Фетина была военная наука и наука для войны.
Он отметился в комендатуре, и ему представились выделенные в помощь офицеры. Самый молодой, но старший этой группы (две нашивки за ранения, одна красная, другая — золотая), начал докладывать на ходу. Фетин плыл по коридору, как большая рыба в окружении мальков. Лейтенант-татарин семенил за ними молча. Втроём они вышли в город, миновав автоматчиков в воротах — но города не было.
Город стал щебнем, выпачканным в саже и деревянной щепой. То, что от него осталось, плыло в море обломков и медленно погружалось в это море — как волшебный город из старинных сказок.
Пройдя по новым направлениям сквозь пропавшие улицы, они двинулись на остров к собору, разглядывая то, что было когда-то знаменитой Альбертиной. Университет был смолот в пыль. Задача Эйлера была сокращена до абсурда — когда-то великий математик доказал, что невозможно обойти все мосты и вернуться на остров, ни разу не пройдя какой-то дважды. Теперь количество мостов резко сократилось — и доказательство стало очевидным. Осторожно перешагивая через балки и кирпич исчезнувшего университета, они подошли к могиле Канта. Какой-то остряк написал на стене собора прямо над ней: «Теперь-то ты понял, что мир материален». Фетин оглянулся на капитана — пожалуй, даже этот мог так упражняться в остроумии.
Молодой Розенблюм был хорошим офицером, хотя и окончил Ленинградский университет по совсем невоенной философской специальности. Немецкий язык для него был не столько языком врага, сколько языком первой составляющей марксизма — немецкой классической философии. В прошлом, совсем как в этом городе, были одни развалины. Отец умер в Блокаду, в то самое время, когда молодой Розенблюм спокойнее чувствовал себя в окопе у Ладоги, чем на улице осаждённого города. Он дослужился до капитана, был дважды ранен и всё равно боялся гостя.
Розенблюм помнил, как в сентябре сорок первого бежал от танков фельдмаршала Лееба, потеряв винтовку. Танков тогда он боялся меньше, чем позора. К тому же Розенблюм боялся Службы, которую представлял этот немолодой человек, приехавший из столицы. И ещё он где-то его видел — впрочем, это было свойство людей этой Службы, с их неуловимой схожестью лиц, одинаковыми интонациями и особой осанкой.
Два офицера — старый и молодой, шли по тонущему в исторических обстоятельствах городу, и история хрустела под их сапогами.
Фетин смотрел на окружающее пространство спокойно, как на шахматную доску — если бы умел играть в шахматы. Это был не город, а оперативное пространство. А дело, что привело сюда, было важным, но уже неторопливым. Он слушал вполуха юношу в таких же, как у него капитанских погонах, и рассеянно смотрел на аккуратные дорожки между грудами кирпича. Оборванные немцы копошились в развалинах, их охранял солдат, сидя на позолоченном кресле с герцогской короной.
Розенблюм спросил, сразу ли они поедут по адресам из присланного шифрограммой списка, или Фетин сперва устроится. Фетин отвечал — ехать, хотя понимал, что лучше было бы сначала устроиться. Торопиться Фетину теперь было некуда.
Тот, кого он искал, был давно мёртв. Профессор Коппелиус перестал существовать 29 августа прошлого года, когда, прилетев со стороны Швеции, шестьсот брюхатых тротилом английских бомбардировщиков разгрузились над городом. Дома и скверы поднялись вверх и превратились в огненный шар над рекой. Шар долго висел в воздухе облаком горящих балок, цветочных горшков, пылающих гардин и школьных тетрадей. Вот тогда, спланировавшим с неба жестяным листом профессору Коппелиусу и отрезало голову.
Рассказывали, что безголовый профессор ещё дошёл до угла Миттельштрассе, в недоумении взмахивая руками и пытаясь нащупать свою шляпу. Но про профессора и так много говорили всяких глупостей.
На допросе его садовник рассказал, что Коппелиус разрезал на части трёх собак и сделал из них гигантского кота с тремя головами. Говорили также, что он однажды нашёл кота, оживил и пытался сделать из него человека. Другие люди, наоборот, сообщали, что этот кот сидел в пробирке целый год и слушал Вагнера, пока у него не повылезла вся шерсть.
Почти год Коппелиус был мёртв. Фетин не поверил бы в его смерть, если бы по причуде самого профессора, тело по частям не заспиртовали в университетской лаборатории. Голова Коппелиуса, оскалившись, смотрела на последних студентов, а потом банку разбил сторож. Сторож хотел достать у русских еду в обмен на спирт, перелитый в бутылки. За бутилированием странного напитка его и поймали люди Розенблюма.
Ниточка оборвалась, секретное дело повисло в воздухе, как неопрятная туча перед грозой. Поэтому Фетин прилетел в легендарный город сам, не зная ещё, зачем он это делает. Куда делось то, что Фетин искал три года, опять было неизвестно. И тот, кто мог об этом рассказать, снова скалился из-за стекла, опять погружённый в спирт — теперь уже русский спирт.
Они вернулись к комендатуре, где по-прежнему торчал пыльный «виллис». Татарин курил в машине, выставив наружу ноги в блестящих хромовых сапогах.
Первым их увидел шофёр-украинец, сидевший под деревом. Сержант затушил козью ножку о каблук и полез за руль.
— Белоруссия родная, Украина дорогая, — тихо запел сержант. Фетин никак не отреагировал на похвальный интернационализм, но водитель попытался завести разговор.
— Эх, не видели вы товарищ капитан, что тут было, — мечтательно сказал сержант и сразу осёкся под взглядом лейтенанта. Город всё ещё был завален битой посудой и какими-то рваными тряпками, и было понятно, что сержант имеет в виду.
Машину тряхнуло на трамвайных путях, и сержант окончательно замолчал.
Дом Коппелиуса стоял на окраине, похожей на дачный посёлок, но всё равно «виллис» долго петлял, объезжая воронки. Первым к дому побежал автоматчик, потом сам Фетин. Последними медленно перелезли через борт лейтенант-татарин и юный Розенблюм.
Дом был, конечно, давно пуст. Фетин подумал, о том, что у него на душе бы спокойнее, если бы профессор Коппелиус ушёл ещё до того, как Красная армия взяла все эти места в котёл, если бы он уплыл на последнем корабле по Балтике, если бы растворился в воздухе. Тогда у Фетина сохранилась бы цель, как у охотничьей собаки. А сейчас даже нора этой лисицы давно покинута, и вдобавок потом разорена.
В доме воняло дрянью и тленом, видно было, что в углах гадили не звери, а люди. Посреди комнаты лежал на спине, как мертвец после вскрытия, платяной шкаф. Из распахнутых дверок лезли никому не нужные профессорские мантии. На стене и полу коридора чернели давно высохшие потёки крови — татарин объяснил, что тут застрелили неизвестного воришку.
«Если и есть здесь что-то, то в подвале», — думал Фетин. В таких подвалах всё и происходит. В подвале у Тверской заставы он в первый раз увидел машину времени, в подвале он допрашивал одного скульптора, что помог сумасшедшему академику стать врагом. В похожем, должно быть, подвале с виварием он сам когда-то ждал трибунала.
Офицеры прошли по комнатам, топча толстый ковёр из рукописей, и ступили на металлические ступени лестницы, ведущей в подвал.
На месте замка в двери зияла дыра — кто-то просто дал автоматную очередь в замок, чтобы не высаживать дверь плечом. Фонарь осветил чёрную зеркальную поверхность — тухлая вода отчего-то не убывала. Но Фетин смело шагнул вниз.
Манометры в лучах фонарей тупо вылупили свои стёкла, дубовые поверхности покрылись липкой плесенью.
Цинковый стол, несколько шкафов, и клетки, пустые клетки — только в одной в одной из них прела груда дохлых мышей. Может, из-за этого запаха мародёры пощадили лабораторию. Фетин сжал кулаки — кажется, это уже один раз было в его жизни.
— Здесь нет никого, — сказал, помявшись, капитан Розенблюм. — Никакого гомункулуса.
Фетин резко повернулся:
— Почему гомункулуса?
— Ну, — растерялся капитан. — Продукт опытов. Или как его там.
Они обошли стола, глядя на приборы.
— Вы можете прочитать? — Фетин ткнул пальцем в этикетки.
— Это латынь, — капитан всматривался в подписи под колбами. — Знаете что тут написано? Очень странно: «Кошачья железа № 1», «Кошачья железа № 2»… «Экстракт кошачьей суспензии»… Может, пойдём? Нет тут ничего, а трофейщикам я уже указание дал, они сейчас приедут с ящиками.
Но они ещё шарили в тёмном подвале два часа, пока татарин случайно не обнаружил, наконец, журнал профессорских опытов.
Они поднялись прямо в апрельский вечер, в царство розового света и пьянящих запахов весны. Капитан вдруг ахнул:
— А я ведь вспомнил, где вас видел. Помните, в сорок втором, в Колтушах, в полевом управлении фронта?
Лучше б он этого не говорил — Фетин дёрнулся и посмотрел на капитана с ненавистью. Колтуши — это было запретное слово в его жизни, именно там началась цепочка его неудач.
Стояла страшная зима первого года войны. Через поляну у опытной станции, через газон, была прорыта щель, в которой Фетин прятался от бомбёжек. Но щель занесло снегом, и он стал ходить в подвальный виварий. Под лабораторным корпусом был устроен специальный этаж с клетками и операционными, часть лаборатории, скрытая от посторонних глаз и, что ещё важнее, — ушей.
Там, на опытной станции академика Павлова, среди никчемных, никому не интересных собак с клистирными трубками в животе, была особая клетка. И зверь из этой клетки поломал жизнь Фетину.
За металлической сеткой на ватном матрасе сидел кот с пересаженным сердцем. Может, и не сердцем, но факт оставался фактом — голодной зимой первого года войны коту полагалось молоко, которое разводили из американского концентрата. Однажды повара чуть не расстреляли, заподозрив в воровстве кошачьей пайки.
Непонятная Фетину ценность зверя подтвердилась внезапно и извне. Немцы высадились в Колтушах и, сняв часовых, украли зверя из подвала.
Немецкий десант был мал, и погоня сократила его вдвое. Но тогда Фетин понял, что что-то не так. Если трое здоровых мужчин продают свою жизнь, только чтобы дать своим уйти с похищенным котом, болтающимся в камуфляжном белом мешке, значит, он, Фетин, упустил что-то важное.
Так и вышло, на него кричали сразу два генерала — и в их крике Фетин улавливал страх и растерянность. Он ждал трибунала, недоумевая — что такого было в этом непонятном звере. И всегда при слове «Колтуши» Фетин вспоминал, как шёл мимо клеток с тощими собаками, как перед ним качался в руке смотрителя белый конус фонаря, и как он на секунду встретился взглядом с котом в клетке.
— Почему кот? — спросил тогда Фетин, и не стал вслушиваться в ответ, а надо было бы вслушаться. Надо бы вдуматься, и тогда не повернулась бы к нему судьба широкой спиной конвойного, не сидеть ему в землянке босым, без ремня и погон.
Кот в клетке обмахнул Фетина ненавидящим взглядом жёлтых, светящихся в полумраке глаз, и отвернулся.
А через два дня пришла немецкая разведгруппа и украла кота.
Кота Павлова.
Тогда ещё, оказавшийся более виновным смотритель шептал ему на ухо про то, что собаки были для Павлова не главным делом, а главным был этот бойцовый кот, причуда академика и опровержение основ — но Фетин готовился честно принять в грудь залп комендантского взвода. Ему не было дела до ускорения эволюции и стимулятора, вшитого в гуттаперчевое кошачье сердце
— Да, только вы тогда майором были, — по инерции произнёс молодой капитан и проглотил язык.
Только сейчас Розенблюм понял, что сказал непростительную глупость. Эта глупость наполнила всё его юношеское тело, и он надулся, побагровел, начал давиться от ужаса.
Фетин посмотрел на него, теперь уже с жалостью, и пошёл к выходу.
Следующее утро начиналось тяжело, будто из лёгких ещё не выветрилась подвальная гниль.
Розенблюм смотрел в белый потолок, расписанный амурами.
Он ненавидел столичного капитана, прилетевшего вчера. Вместе с капитаном прилетела тревога и растерянность — а Розенблюм знал, что такое настоящая растерянность. Он помнил, как, ещё рядовым ополченцем, он бежал в отчаянии по дороге. Ополченец Розенблюм бросил оружие, кругом были немцы, а в спину дышали бензиновым выхлопом механические звери генерал-фельдмаршала Лееба. Тогда он, вчерашний студент, усилием воли задушил эту панику, клокочущую у горла, а потом вышел к своим, выкрутившись, избежав не только позорной строки про плен в документах, но и сомнительной — про окружение. Но гость из Москвы внушал страх, и возвращал ту же панику, что охватила Розенблюма на просёлке под Петергофом.
В эту ночь Розенблюму снился немецкий сказочник, что был родом из этого города, и придуманный сказочником кот. Розенблюм знал по-немецки все сказки этого города, но теперь они, несмотря на победу, стали страшными сказками. Кот душил его, рвал на груди китель и кричал что-то по-немецки. Под утро он спихнул с одеяла реального, хоть и тощего хозяйского кота. Кот растворился, звякнуло что-то в коридоре, зашуршало — и всё стихло.
Хозяйка боготворила Розенблюма — впрочем, он и был для неё богом. Он был охранной грамотой, пропуском и рогом изобилия. Он был банкой тушёнки в довесок к четырём сотням граммов хлеба по карточке. Русский бог не спрашивал, почему в доме нет фотографий мужа, а ведь на всех фотографиях, что сгорели в камине, Отто фон Раушенбах красовался в морской форме и с двумя железными крестами.
Русский бог, горбоносый и чернявый, говорил по-немецки с лёгким оттенком идиш, но с ним можно было договориться. Он был аккуратен и предупредителен, и она не догадывалась, что он просто стесняется попросить о том, что она несколько раз делала вынужденно.
И сейчас Розенблюм не спал и угрюмо считал часы до рассвета. Сказки кончались, город кончался вместе со своими сказками, ускользая от него.
А сержант-водитель спал спокойно, с улыбкой на лице — потому что уже три недели он был счастлив. В его деревне было сто девятнадцать человек, и из них сто восемнадцать немцы сожгли в старом амбаре. Поэтому сержант, навеки с того дня одинокий, за последний год войны методично убил сто восемнадцать немцев.
Сначала в нём была ненависть, но потом он убивал их спокойно, молодых и старых, безо всяких чувств — ему нужно было сравнять счёт, чтобы мир не выглядел несправедливым. Три недели назад он убил последнего, и теперь спокойно спал, ровно дыша.
Душа его отныне была пуста и лишена боли. Теперь он вечерами играл с немецким мальчиком и кормил его семью пайковым салом. Если бы Розенблюм знал всё это, то решил бы, что сержант — настоящий гомункулус. Он считал бы так потому, что украинец вырастил себя заново, отказавшись от всего человеческого прошлого.
Но Розенблюм не знал ничего об этой истории и, ворочаясь, думал только о мёртвом профессоре Коппелиусе и живом страшном Фетине.
Фетин в этот момент не спал и бережно паковал свои больные ноги в портянки. Где-то в подвалах этого города сидит кот Павлова. Где-то в этом городе прячется кот Павлова.
Утром его подчинённые прежде самого Фетина увидели сизое облако папиросного дыма, что уже заполнило их дальнюю комнату в комендатуре.
Переводчики из штаба фронта со вчерашнего дня шелестели бумагами в доме профессора Коппелиуса, по городу двигались патрули, механизм поиска был запущен, но Фетин чувствовал себя бегуном, что ловит воздух ртом, не добежав до финиша последних метров.
Когда офицеры стояли у карты города на стене, Фетин подумал, что нет ничего фальшивее этой карты — центр перестал существовать, улицы переменили своё направления, номера домов стали бессмысленными. Чтобы отвлечься, он спросил молодого капитана:
— Вы, кстати, член партии?
— Я комсомолец, — ответил Розенблюм.
— Помните, что такое вещь в себе?
— Вы же читали моё личное дело. Я окончил философский факультет — или вам нужны точные формулировки? Непознаваемая реальность, субъективный идеализм… Я сдавал…
— Давайте считать, что мы ищем кота в себе. Это ведь чушь, дунь-плюнь, опровержение основ. Представляете, найдём мы этого искусственного зверя, чудо советской науки, а это ведь наш зверь, наш — даже не трофейный. Что тогда? А, что?
Капитан замялся.
— Так я вам скажу — ничего. Всё потом опишется, мир материален. — Фетин вспомнил слова рядом с могилой Идеалиста. — Мир материален.
— Да. Трудно искать кота в тёмном городе, особенно когда его там нет. — Розенблюм поймал на себе тяжёлый взгляд и поправился: — Это такая пословица, китайская.
Переводчики приехали вдвоём — серые от пыли и одинаковые — как две крысы.
Теперь Фетин держал в руках перевод лабораторного журнала Коппелиуса. Час за часом сумасшедший старик перечислял свои опыты, и Фетину уже казалось, что это ребёнок делал записи о том, как играет в кубики. Ребёнок собирал из них домики, затем, разрушив домики, строил башенки. Кубики кочевали из одной постройки в другую… Но Коппелиус вовсе не был ребёнком, он складывал и вычитал не дерево, а живую плоть.
И вот, его творение бродило сейчас где-то рядом.
— Зверь в городе. Зверь в городе, и он есть. И зверь ходит на задних лапах, — сказал он вслух. И добавил, уже думая о своём:
— Где искать кота, что гуляет сам по себе? Кота, что хочет найти… Что нужно найти коту?
— Коту, товарищ капитан, нужно найти кошку! — сказал весело татарин.
— Что?!
— Кошку… — испуганно повторил лейтенант.
Фетин уставился на него:
— Кошку! Значит — кошку! А большому коту, надо найти большую кошку… А большая кошка, очень большая кошка… Очень большая кошка живёт где? Очень большая кошка живёт в зоопарке.
«Виллис» уже нёсся к зоопарку, прыгая по улице как мячик.
Несколько немцев закапывали воронку посреди улицы, и разбежались в стороны, и Розенблюм увидел, что в яме, которую они зарывают, лежат вперемешку несколько трупов в штатском и вздувшаяся, похожая на шар, мёртвая лошадь. Эта картина возникла на миг, и её тут же сдуло бешеным ветром.
В зоопарке, среди пустых клеток они нашли домик, где сидел на краю мутного бассейна старый военфельдшер. Старик командовал тремя пленными животными — барсуком, пантерой и бегемотом. Грустный бегемот сразу спрятался под водой, увидев чужих.
Военфельдшер был насторожён, сначала он не понял, что от него хотят.
— У меня бегемот, — печально сказал он. — Бегемоту восемнадцать лет. Бегемот семь раз ранен, он не жрал две недели. Я дал ему четыре литра водки, и теперь он ест. Я ставлю бегемоту клизму, а на водку у меня есть разрешение. Бегемот кушает хорошо, а запоры прекратились. На водку у меня есть специальное разрешение.
«При чём тут бегемот?», — капитан Розенблюм почувствовал, как засасывает его липкий морок этого призрачного города. Бегемот был только частью этого безумия, и если его мокрая туша сейчас вылезет из бассейна и пройдёт на задних ногах, то он, Розенблюм, не удивится.
Военфельдшер всё бормотал и бормотал — он боялся навета. Раньше он лечил лошадей, и, вовсе не зная, что бегемота звали «водяной лошадью», просто использовал все свои навыки коновала. Военфельдшер лечил бегемота водкой, и вот бегемот выздоравливал. Но на эту водку многие имели виды, и старик-коновал боялся навета. Бегемота он любил, а пантеру, выжившую после боёв, — нет. Старый конник любил травоядных и не привечал хищников.
Фетин посмотрел на него медленным тягучим взглядом — и старик сбился.
— Да, приходил один такой, зверей, говорит, любит. Майор, бог войны. А я — что? Я вот бегемота лечу.
Бегемот показал голову и посмотрел на гостей добрым несчастным глазом — на чёрной шкуре у него виднелись розовые рубцы.
— Так это наш был? Точно наш, не немец?
— Наш, конечно. В форме. Хотел на пантеру посмотреть — говорил, что пять «пантер» зажёг, а живой никогда не видел. Да он сегодня придёт — тогда у нас заперто было. Да вот он, поди…
В дверь мягко поскреблись.
Сердце Фетина пропустило удар. Он шёл к этой встрече три года, и оказался к ней не готов. Офицеры сделали шаг вперёд, и в этот момент дверь открылась. Тень плавно отделилась от косяка, пока мучительно медленно Розенблюм выдирал пистолет из кармана галифе. И в этот момент фигура сжалась, как пружина, и, тут же распрямившись, прыгнула вперёд.
Фетин был проворнее, из его руки полыхнуло красным и оранжевым, но существо ушло в сторону. В лицо Розенблюма полетели кровавые брызги. Фетин прикрыл голову рукой — коготь только разорвал ему щеку — но потерял равновесие и рухнул в бассейн с бегемотом.
— Гомункулус, — выдохнул Розенблюм.
Усатый майор с круглым телом откормленного кота, посмотрел в глаза капитана Розенблюма. Он посмотрел тщательно, не мигая, как на уже сервированную мышь. Розенблюм почувствовал, как пресекается у него дыхание, как мгновение за мгновением вырастает в нём отчаяние, вернувшегося из сорок первого года, как всё туже невидимая лапа перехватывает горло.
Капитан отступил, и в этот момент когти мягко и ласково вошли в его грудь. Жалобно и тонко завыл капитан, падая на колени, и сразу же его рот наполнился кровью. И вот уже показалось капитану, что он не лежит среди звериного запаха рядом с недоумевающем бегемотом, что он не в посечённом осколками зоосаде чужого города, а стоит на набережной у здания Двенадцати коллегий, снег играет на меховом воротнике однокурсницы Лиды, она улыбается ему и, повернувшись, бежит к трамваю. Вот она оборачивается к нему, но у неё уже другое лицо — лицо немки, той, что готовит ему завтрак по утрам…
И всё пропало, будто разом сдёрнули скатерть со стола — вместе со звякнувшими чашками и блюдцами.
Фетин, шатаясь, бежал к выходу из зоопарка — мимо «виллиса», где за рулём сидел, запрокинув голову, мёртвый сержант-водитель. Глаза заливала кровь — да так, что не прицелиться. На тихой улице было уже темно, но Фетин различал одинокую фигуру впереди. Фигура двигалась размеренным шагом, прямо навстречу патрулю.
Видно было, как патруль под началом флотского офицера проверяет у фальшивого майора документы, как какая-то бумага путешествует из рук в руки, попадает под свет электрического фонаря, затем так же кочует обратно, вместе с удостоверением…
Фетин, задыхаясь, только подбегал туда, а фальшивый майор уже двинулся дальше.
— Э… — стойте, стой! — хрипло забормотал Фетин, но было уже поздно.
— Документы… — теперь уже ему, Фетину, лихо, не по-уставному, козырял флотский.
Майор уходил не оглядываясь, а патрульный солдат упёр ствол плоского судаевского автомата Фетину в живот. Тот машинально вынул предписание и снова выдохнул:
— Стой, — но уже почти шёпотом, и уже тихо, ни к кому не обращаясь, застонал: — Уйдёт, уйдёт.
Майор шагал всё быстрее, и тут Фетин ударил локтем патрульного повыше пряжки ремня, и тут же быстро подсёк его ногой, выдирая автомат.
Несколько метров он успел пробежать, пока патруль не понял, в чём дело. Но уже заорали в спину, бухнул выстрел, и Фетин решил, что вот ещё секунда — и не успеть.
Он прицелился в спину фальшивого майора и дал очередь — прямо в то место, где должно было биться кошачье сердце. То гуттаперчевое сердце, что вложил зверю в грудь давно мёртвый академик, прежде чем запустить неизвестный теперь никому механизм ураганной эволюции.
Майор взмахнул руками, упал на четвереньки, дёрнулся и взвыл — тонко, по-кошачьи. Сделал ещё движение и покатился вниз с откоса, к железной дороге.
Но на Фетина уже навалились, кто-то вырывал из рук автомат, наконец, его ударили по лицу, и всё кончилось.
Он очнулся быстро — лежа на грязном днище полуторки. Его развязывали, видимо прочитав, наконец, документы. При вздохе грудь рвануло болью.
— Ну что там, Тимошин? Тимо-ошин! — орал старший.
Голос невидимого Тимошина, отвечал:
— Ничего, товарищ гвардии капитан-лейтенант. Никого нет, не задело, видать. Только кошка дохлая валяется… Бо-ольшая!
— Кот. Это кот… — еле проговорил Фетин разбитыми губами.
— Мы уж ей, извините, промеж лап смотреть не приучены, — ответили ему.
— Это кот, это не человек. Пусть его заберут.
Флотский с сожалением, как на безумца, посмотрел на него и отвёл глаза. Невидимый Тимошин запрыгнул, и машина тронулась. Был кот, был человек, стал мёртвый кот, думал он безучастно. Теперь это вещь. Мёртвая непознаваемая вещь. Кот в тёмном сказочном городе, которого нет.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
25 апреля 2015
(обратно)
€0,99 (День офисного работника. Последнее воскресенье апреля) (2015-04-26)

С Зоном нас познакомил Раевский — мы заезжали тогда в их далёкий город, и Раевский определил нас на постой к Зону.
Потом они расстались-разъехались, а тогда Зон поехал в деревню по скорбному унылому делу — хоронить бабку Раевского. Старуха жила в деревне, где доживали ещё три такие же старухи, и хоронить её было некому. Раевский позвал Зона, потому что Зон сидел с ним за соседним столом в одной конторе. Контора была такой странной, что никто из сотрудников не помнил, как она называется, — скука съела её имя и смысл.
Дорога сразу не заладилась — поезд был тёмен и дышал чужим потом, пах так, как пахнут все медленные поезда на Руси. Они выпили пива и к ночи пошли в тамбур, чтобы открыть дверь в чёрное лязгающее пространство между вагонами. Это место в русском поезде издавна служит запасным туалетом. Однако дверь между вагонами оказалась наглухо запертой.
— В прежние времена я без треугольного ключа не ездил. Даже в электричках, — сказал расстроенно Раевский.
И тут Зон нащупал в кармане странный предмет и не сразу вспомнил, что это такое. Он медленно, ещё не веря собственным глазам, достал этот предмет из-за подкладки.
Раевский сразу уставился на его ладонь.
— Ножик? Швейцарский?
Ножик, конечно, был никакой не швейцарский, хотя такой же ярко-красный. На боку его, вместо белого креста на щите, красовалась звезда. Безвестные азиатские умельцы как бы говорили: чужого не берём, сами сделали, а что можно перепутать, так мы за ваши ошибки не в ответе.
Зон купил этот фальшивый ножик в магазине «Всё по 0,99 евро». Он забрёл туда вместе со своими знакомыми командировочными скупцами. Это был мир пластиковых стаканчиков и коробочек, мир ложек и вилок, выглядящих точь-в-точь как золотые, вселенная предметов, продававшихся на вес или на сдачу. Это был рай для скупых, которые платят многократно и помногу. Таковы, собственно, были и сослуживцы Зона. Они месяц жили в чужой стране и обросли временным бытом из экономии.
Тогда Зон купил ножик как одноразовый — потому что не думал везти его через границы. Купил, чтобы хоть что-то купить, — он был одинок и не нуждался в сувенирах. Багажа у него не было, и судьба ножика была одна — в прозрачную коробку, куда, будто знамёна к своему Мавзолею, сотрудники службы безопасности кидали ножницы и перочинные ножи забывчивых пассажиров.
Перед отъездом они попробовали разрешённые там вещества, и он совершенно забыл о случайной покупке. Но это азиатское чудо отчего-то пропустила писклявая дверь в аэропорту, что без сна ищет металл, — этому сейчас Зон удивлялся больше, чем самой находке. Полгода провалялся нож в дырявом кармане той куртки и вот теперь обнаружился — как покойник в шкафу.
— О, как раз треугольник? — с удивлением сказал Раевский и щёлкнул ножом. Он быстро повернул что-то в скважине замка и открыл дверь — не в тамбур, а в настоящий туалет. Зон почувствовал идущий оттуда странный запах мокрой рыбы. Он набрал полные лёгкие воздуху, чтобы подольше не дышать, и шагнул внутрь первым.
Сделав свои дела, они вернулись, и Зон заснул беспокойным вагонным сном. Сначала Зон боялся, что они не справятся, и удивлялся, отчего нас было так мало. Но оказалось, что старухи в этой деревне давно сами приготавливают свои похороны. Они оставляют в печи немного еды для поминок, а потом сами ложатся в заготовленный много лет назад гроб и закрывают глаза. Оттого что старухи давно питаются воздухом и полевым ветром, нести такой гроб вполне могут всего два человека. Ножик Зону там не понадобился — в этом веке, как и в прошлом, как и вечность подряд, в этой деревне всё делали топором — и строили, и разрушали. Даже консервные банки и те — они распотрошили широкой сталью. Покинув кладбище, они снова пили тяжёлую палёную водку, пили её и на обратной дороге, да так, что Зон доехал до дому в невменяемом состоянии.
Уже поднимаясь в лифте, понял, что где-то в дороге потерял ключи.
Дома никого не было, и он с тоской стал думать, что сейчас надо к кому-то проситься на ночлег. А ночной гость нелюбим, и память о таком визите живёт долго.
Дом его был небогат, а дверной замок прост и стар. Для очистки совести Зон достал нож и посмотрел на его бок, похожий на многослойный бутерброд. Подумав немного, он вытащил что-то похожее на отвёртку и сунул в скважину. Металл звякнул о металл, Зон напрягся, но всё же двинул дальше стальной штырь, пытаясь отжать или стронуть что-то внутри замка.
К его удивлению, как только он начал поворачивать нож, замок сразу же щёлкнул и дверь открылась.
Он посмотрел на отвёртку и увидел, что она удивительно напоминает ключ от его квартиры. Но сил удивляться уже не было, его повело, и, схватившись за стену, он захлопнул дверь.
Ключи он утром нашёл в кармане, но чем он открыл дверь, было непонятно. Никакой отвёртки с бородкой он в ноже не обнаружил.
Но Зон и так опаздывал, а голова гудела пасхальным колоколом. Ещё раз проверив ключи, он вышел вон.
А работал Зон в странной конторе, которая превращала световой человеческий день в небольшие нечеловеческие деньги. Иногда, задумавшись, Зон понимал, что не помнит точно, чем они сейчас занимаются — строительством или перевозками. В конторе пахло чистой бумагой и смазанными дыроколами, озоном от принтеров и пылью от отчётов позапрошлого года. Эти запахи крепко въедались в одежду, и Зон иногда чувствовал, с какой ненавистью на него смотрят в маршрутке. Он ехал в дальний район вместе с людьми, что пахли горьким запахом сварки, сладким духом пролитого бензина и кислой отдушкой химикалий. Запахи сталкивались в воздухе, как облака стрел во время великих битв древности. Зон понимал истоки этой ненависти, но ещё он знал, что всех их можно поменять местами — и ничего, ровно ничего ни в ком не изменится. Даже новых знаний не прибудет ни у кого.
Итак, Зон отдавал конторе своё время, а она выдавала ему деньги. Иногда кто-нибудь из сотрудников исчезал и назавтра превращался в портрет, увеличенный с фотографии в личном деле. Потом исчезал и портрет, а сотрудники разбирали ручки и карандаши покойного на память.
Зон обратил ещё несколько одинаковых дней в деньги, пока не вспомнил о фальшивом швейцарском ноже.
При тщательном рассмотрении это оказался не нож, а скорее, набор отвёрток. Теперь Зон понимал, что даже если бы у него нашли этот странный предмет в аэропорту, то он имел бы хороший шанс получить его обратно. Как раз лезвия Зон в нём не обнаружил: отвёртки, щипчики были, а вот самого ножа не было. Ну да, дома ему было чем резать хлеб. Консервный нож, впрочем, всё же наличествовал — острый зуб, резавший жесть как бумагу.
Однажды Зон заснул со своим приобретением в руке и в дремоте ощутил нож живым. Нож показался ему даже тёплым. «Не хватало ещё начать с ним разговаривать», — подумал Зон.
И он снова принялся менять свои дни на равнодушные цифры банковского счёта.
Начальницей у него была женщина сложной судьбы. Левый её глаз был наполнен мёдом, а правый — казеиновым клеем. Женщина мстила миру за свою трудную судьбу, и, давая задание подчинённому, она смотрела на человека левым глазом, а принимая работу — правым. Сотрудники её боялись как дети, а дети боялись просто так.
Однажды она вызвала Зона в свой кабинет. Он шёл туда, предчувствуя недоброе: таких как он вызывали к ней, чтобы предупредить об увольнении или сразу уволить.
Когда он вошёл, то увидел, что женщина трудной судьбы стоит у окна к нему спиной. Она тянулась вверх, чтобы захлопнуть форточку. Но в этот момент женщина трудной судьбы сделала неловкое движение, от которого и подоконник, и стол перед ней сразу покрылись прыгающими бусинами.
Видимо, что-то важное в её жизни и судьбе было связано с этим ожерельем, и женщина трудной судьбы замерла, будто её облили новокаином. В воздухе разлился душный запах трагедии.
— Можно починить, — сказал Зон, не раздумывая, и стал собирать рассыпавшееся. Он отчего-то знал, что в его нешвейцарском ножике найдётся все необходимое.
Действительно, он обнаружил там сносные, хоть и крохотные плоскогубцы и свёл ими звенья цепочки.
С тех пор его служебные дела пошли в гору, хотя ничего особенного он не сделал. Но теперь маленькая общая тайна, возникшая между ним и его начальницей, берегла его.
Зон продолжал пристально изучать стального друга. Кажется, он не видел этих странных приспособлений раньше, а тех, которыми уже воспользовался, не мог найти. Он представил себе, что когда-то в этом ноже должна обнаружиться флэшка. Он читал, что швейцарские ножи давно стали ими снабжать, и вот на этой флэшке, в скопище разных файлов обнаружатся инструкции и причудливые истории о создателях этого чуда… Но тут же Зон себя одёрнул — какой же это швейцарский нож, смешно даже и сказать.
По весне Зон обнаружил в ноже лупу — неожиданно сильную. От нечего делать он стал разглядывать через неё пирожное в столовой, и был неприятно поражён. Пирожное жило какой-то своей жизнью — кто-то крохотный ползал по нему, что-то строил или перевозил. Когда он сказал об этом Раевскому, тот только покрутил пальцем у виска.
Зон пожал плечами и молча отложил пирожное. Через несколько дней трёх клерков скорая помощь отвезла в больницу с кишечной инфекцией.
Зон ожидал, что Раевский спросит его, что он увидел, но Раевский, казалось, совершенно забыл и о лупе, и о ноже, и о пирожных прошлой жизни. Ему пришли бумаги на перевод домой, в столицу. Судьба забросила Раевского в город его детства полгода назад, Теперь он, как новый Данте, покидал провинциальный ад.
Раевский засобирался в дорогу, и они стали реже видеться, а когда сошёл снег, Зон проводил приятеля в аэропорт.
Когда он шёл обратно по длинному пандусу, то увидел девушку, топтавшуюся на стоянке около закрытой машины.
Она переминалась печально, как родственник, ожидающий в больнице конца операции. Зон сразу понял, о чём она думает — сразу звонить мастерам или сначала помолиться. То есть дверца её машины была заперта, а умный брелок пропал.
— Проверьте сумочку ещё раз, — хмуро посоветовал Зон, подойдя ближе.
— Ничего нет! Ни-че-го! А у вас есть, чем открыть?
— Найдётся.
Потом он легко открыл дверцу машины, так легко, что девушка поёжилась. Но всё же она предложила его подвезти.
— Зон — это такая фамилия, — сказал он сразу, чтобы объясниться. Он как-то сразу понял, что это надолго. — Но можно звать и так. Меня все зовут по фамилии.
Он говорил спокойно и размеренно, чтобы не испугать водителя. Зон уже боялся её потерять, потому что она была такая как надо — то есть девушкой без лица. Самые лучшие женщины — это женщины без лиц, потому что на это место мужчина подставляет любое лицо из своего прошлого. И чем больше можно использовать старых лиц, тем крепче новая любовь.
К тому же Зон сразу понял, что она живёт одна — по тому, как она ведёт машину, по тому, что лежит на заднем сиденье, и какое радио она слушает.
Случилось то, что должно было случиться — правда, не в тот день, а тремя днями позже.
Потом они лежали в темноте, и Зон рисовал на потолке фонариком, обнаружившемся в его ноже. Фонариков оказалось даже два — красный и ослепительно белый.
Зон рисовал на потолке буквы, потому что такую сцену он помнил по книгам, — правда, там рисовали на стекле, но потолок был ничем не хуже. Написанные буквы живут вечно, даже если они написаны светом, и Зон думал, что они сохранятся и тогда, когда он сюда переедет, и спустя много лет, когда он уже ничего не будет писать, эти буквы будут время от времени светиться в темноте.
Он стал редко спать один, и однажды ему приснился тот гигантский контейнер в магазине «Всё за 0.99 евро», из которого он достал ножик. В том контейнере с сетчатыми стенками были сотни таких ножей — сотни, если не тысячи. Там был кубометр ножей по цене один евро без цента — и теперь Зон задавал себе вопрос: один ли он испытывает такие приключения?
Наверное, можно было сделать что-то необычное — например, стремительно разбогатеть, открыв банкомат, но эти мысли унесло как октябрьскую листву ветром. Зона не пугали видеокамеры, которые фотографировали окрестности банкомата, гораздо важнее, что было в этой идее что-то невыносимо пошлое.
Он начал думать, не стоит ли уволиться и завести себе синюю майку с жёлтой звездой для подвигов. Пойти тайным героем по свету, помогая людям.
То есть подкручивая, отрывая и завинчивая неожиданно открутившееся и пришедшее в негодность.
Но теперь он был не один, и его даже повезли на дачу знакомиться с родителями. Они понравились друг другу, оттого хорошо и весело выпили. Зон подумал, не рассказать ли им про ножик, но в последний момент просто поленился шевелить губами. Яблочная водка затуманила глаза девушки, поэтому Зон настоял, что его подвозить не нужно.
Он поехал от неё на автобусе, но, задумавшись, перепутал маршруты. Автобус привёз его на соседнюю станцию, где вокруг него сразу сгустилась чернота майской ночи.
И тогда из этой темноты выступили двое, будто с трудом проявляясь на тёмном снимке.
Двое преградили ему путь. Их лица были пусты, как оловянные миски в ночной столовой. Один был длинный, а другой — низкорослый, но всё равно они были похожи друг на друга своей внутренней пустотой как близнецы.
Зон сразу понял, что сейчас будет. И точно — длинный, зайдя сзади, вдруг схватил его за горло. Этот длинный, пыхтя, душил Зона, и сил не было вырваться из его цепких рук, которые отчего-то пахли рыбой.
В это время коротышка достал нож и, нехорошо улыбнувшись, пошёл к ним. Нож у коротышки был вовсе не перочинный, хороший убойный нож с широким и длинным лезвием.
И тут Зон понял, что его будут убивать. Он вырос в одном из самых угрюмых районов своего города, рядом с бесконечными общежитиями химического комбината, и знал, что значат эти пустые лица и глаза.
Ноги начали слабеть, и Зон почувствовал, что ещё секунда, и он потеряет волю. Тогда жизнь его неминуемо уйдёт струйкой в пыльный песок обочины.
Тут он вспомнил про ножик и всё же успел дотянуться до кармана, проиграв длинному ещё несколько глотков воздуха.
Нож сам раскрылся в его руках, и Зон впервые увидел в нём тонкое короткое лезвие. Не целясь, он воткнул его в бедро длинному. Удар оказался такой силы,
что крошечное лезвие обломилось и осталось в ране. Эффект, однако, оказался неожиданным — руки на горле Зона мгновенно разжались, а что-то чёрное и липкое окатило его фонтаном.
Зон вырвался и, не оглядываясь, побежал к станции.
Оказавшись довольно далеко и попав в светлый круг фонарей, он остановился и принялся рассматривать ножик. Что-то было с ним не так.
Он лихорадочно поддел ногтем лезвие. Вдруг то, что было ножом, распалось в его руках на две пластмассовые пластинки и несколько старых железяк. Потёки крови съели сталь, как не съедает её кислота за неделю. В руках у Зона осталась какая-то труха — мерзость, тлен. Будто картофельные очистки, осыпалось всё это мимо пальцев.
Ножик был мёртв.
Зон тупо посмотрел на то, что изменило его жизнь, как смотрят дети на убитую лягушку.
И, помедлив, разжал пальцы, отпуская мёртвое тело на свободу.
После этого он двинулся к освещённой платформе, где уже вставала звезда последней электрички. История завершила свой круг, и вот он пробирался мимо спинок кроватей и проволоки, которыми местные жители окружили свои незаконные посадки. Зон вспомнил чьи-то слова о том, что в этом мире можно надеяться только на выращенную своими руками картошку.
Электричка призывно закричала, и он наддал ходу. Зон бежал, а в спину ему глядели, невидимые в темноте, голубые глаза огородов.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
26 апреля 2015
(обратно)
Чечётка (День песни и танца. 29 апреля) (2015-04-29)

В давние, подёрнутые молочной пенкой детства, годы я жил в маленьком дачном посёлке.
Посёлок этот смыкался с другим посёлком, образуя дачную местность, тянувшуюся бесконечно долго и составлявшую с мая по сентябрь весь мир. Один посёлок назывался посёлком чекистов, а другой — посёлком артистов, но спустя десятилетия чекисты и артисты перемешались, многие из первопоселенцев умерли, а их дети, встречаясь на дачной дороге, образовали новые семьи, и новые чекисты перемешались с новыми артистами, так что никто уже не знал, среди кого он живёт. Между дачами бродил толстый мальчик-дурачок и истошно кричал в пустые железные бочки. Бочки стояли повсюду — на всякий пожарный случай, наполняясь дождевой водой. Дурачок кричал, опуская голову в бочки «Бациллы! Бациллы!», и этот крик означал начало лета. Центром всего этого мира смешанных посёлков для меня был не дачный дом, не участок, без единой грядки, поросший соснами, а стоявшая рядом станция.
Всё свободное время мы проводили на этой железнодорожной станции, вдыхая терпкий запах шпал, вслушиваясь в окрики механического женского голоса и всматриваясь в разноцветные огни путевой сигнализации. Часто нас посылали в пристанционный магазин, и, приковав там свои велосипеды, мы вдруг замирали, глядя, как проносится мимо станции товарный поезд, чередуя цистерны и платформы.
У станционного магазина всегда сидели старики — то есть тогда нам казалось, что это старики. Нам было строго-настрого запрещено водить с ними знакомство и даже просто разговаривать. Но потом, когда они стали за небольшую мзду покупать нам сигареты, все запреты куда-то улетучились. Постепенно мы подружились.
Однажды приехав на дачу зимой, я обнаружил их на том же месте — по-прежнему сидящими у магазина. Они, не боясь холода, сидели всё на той же скамейке.
А летом мы видели, что иногда к ним присоединялся совсем уже древний человек, похожий на странную худую птицу. Видно было, что прочие старики его немного боялись.
Как-то, проводив одну девочку на соседние дачи, я возвращался по пыльной пристанционной дороге мимо магазина.
В тот вечер этот худой старик сидел около него один и курил.
Я присел рядом.
Спустя пару минут старик прошелестел у меня над ухом:
— Время — самая дорогая на свете вещь, ты знаешь? — И я терпеливо кивнул.
По неписанным правилам пристанционного и околостанционного мира мы никогда не спорили с этими стариками. Как потом нам рассказывала учительница биологии, у нас был симбиоз. Мы слушали стариков и их хвастовство, их байки о подвигах во всех необъявленных войнах, что вела наша Империя.
Рядом с нами остановилась красивая гладкая машина. Мужчина вошёл в магазин, а женщина, невероятно красивая, по крайней мере, так мне тогда показалось, осталась внутри. Через окошко, откуда пахло дорогой кожей сидений и иностранными сигаретами, к нам лилась совсем другая, незнакомая мне музыка.
— Это всё негры придумали, — сказал вдруг старик. — А музыка там особая, у негров-то. Представь себе, что топаешь ногой: раз-два. Топни. А теперь за это время хлопни в ладоши три раза? Трудно? А теперь, топай ногой, как и топал — раз-два, но хлопай в ладоши не просто так, как раньше, а сдваивай удары. А теперь страивай… Сбился? Ничего, это вообще мало у кого получалось. У негров разве и среди членов ордена чечёточников. А вот так?.. Гляди-ка, как быстро ты учишься. Ладно, расскажу я тебе всё. Это ведь особое искусство, хоть ты ничего и не слышал об ордене чечёточников.
Действительно, под орденом я понимал какую-нибудь золотую штуковину на колодке, но старик имел в виду вовсе не это. Он говорил про особое братство, связанное чувством ритма.
— Чувство ритма — это самое главное. У тебя, я вижу, есть чувство ритма, и поэтому ты тоже можешь подчинить себе время.
Итак, по рассказу старика выходило, что чечёточники были не артистами, а чем-то большим.
Они могли то убыстрять, то замедлять время — своим ритмом, то есть ритмом своих движений. В двадцатые и даже в начале тридцатых годов прошлого века они были в фаворе, но потом, как за всякую силу, за них принялись чекисты. Чекисты и чечёточники начинались на одну букву, но чекисты оказались сильнее. Так что понемногу все любители ритма отправились в те места, где ритм диктовался слаженными движениями двуручной пилы. «Вжик-вжик, вжик-вжик», показал рукой старик.
На воле членов братства оставалось всё меньше, но после той, Большой войны, которую не надо было путать с войнами неизвестными, войнами секретными и необъявленными войнами последующих лет, в нашу Империю переехали чечёточники из других стран. Тогда новая Империя подтвердила гражданство подданных прежней Империи, и они хлынули к нам — из Харбина, Белграда и Парижа.
Чечёточники оттуда были не чета нашим — тёртым временем, испуганным уже и слабым. Эти, новые, познали волю, и чувство ритма у них было другое.
Когда они тоже стали проводить каждый день за возвратно-поступательными движениями казённых пил (и старик опять заладил своё «вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик» — он жужжал так несколько минут), они поняли свою ошибку и решили бежать. Всё дело в том, что у них не отобрали чечёточные туфли.
В назначенный день они стали в круг посреди своего лагеря, что в глухой тайге. Чечёточники встали в магический круг и ударили ногами в своих туфлях, которые помнили доски сцен в харбинских, парижских и белградских кабаках, в доски деревянных дорожек. Этими дорожками было покрыто их болотистое место заточения. Ритм чечёточников то убыстрялся, то замедлялся, и, наконец, время потекло по-другому. Чечёточники прошли через ворота своей таёжной тюрьмы, а часовые на вышках не увидели ничего, потому что пялились в вязкое и густое время.
— Их потом судили, — прибавил старик.
— Кого судили?
— Часовых, разумеется. Но слушай дальше… Чечёточники углубились в тайгу и пошли к ближайшей железной дороге. Время работало на них, и они шли в специальном темпе, который позволял им двигаться сквозь время обычных людей. Они не знали, какое испытание ждёт их потом — из-за того, что они неверно рассчитали расстояние. Ведь они были повелителями времени, а не повелителями пространства.
— И что случилось потом? Они съели кого-то из своих? Я видел такой фильм — беглецы так там делали.
Старик посмотрел на меня, будто я только что плюнул ему на ботинок.
— Нет. Ты не понял сути ордена чечёточников. Они были повелителями времени, а не людоедами. Но когда они поняли, что их силы на исходе, то сварили в припасённом котелке свои чечёточные туфли. Они съели их все — по очереди, разумеется.
Наконец они вышли к железной дороге и дождались товарного поезда. Им повезло — товарняк шёл на запад, и всем им удалось ускользнуть от преследователей.
Но когда один из них попытался отбить чечётку прямо в вагоне, у него ничего не вышло. Он бил голыми пятками в пол, но не попадал в ритм. Его товарищ попробовал отбить чечётку сам — и у него тоже ничего не вышло.
Попробовали все — и не получилось ни у кого.
Всё дело было в том, что они обменяли своё искусство на свободу.
Тогда они посмотрели друг другу в глаза и навсегда замолчали от позора и стыда.
Никто из них не раскрыл больше рта и, не прощаясь, они стали покидать вагон на разных станциях.
Так прекратил своё существование орден чечёточников, и никто больше не умеет управлять временем.
Говорят, правда, что один беглец не утратил свои туфли, а смухлевал, пустил на варево казённые ботинки, спрятав за пазухой туфли с набойками… Но это вряд ли.
Вот я и рассказал тебе, парень, эту тайну — смотри, не протрепись. Ты знаешь всё это только потому, что у тебя настоящее чувство ритма.
Я был доверчив и впечатлителен. И теперь я знал тайну мира, но больше того, я знал, что мир не скучен и уныл, а волшебен и ярок. Его пульс бился мне в мальчишеские уши ритмом чужого танца. Я хранил чужую тайну три дня — больше, чем мог вытерпеть любой из моих сверстников. Проговорился я старшему брату.
Тот, не дослушав, поднял вверх палец:
— Дай угадаю… Они съели свои туфли! Съели!..
И он хохотал, шлёпая себя по ляжкам.
Я стоял как оплёванный. Оказалось, что не только брат, но и весь посёлок знает эту тайну.
Оказалось, что и старик этот был многим известен — много лет он учил детей музыке в железнодорожной школе, пока новый директор не выяснил, что у преподавателя музыки вовсе нет музыкального слуха.
Мир оказался опять прост и естественен — и это было чудовищно жестоко. Я убежал в сарай и плакал там от обиды и унижения, проклиная свою доверчивость.
Грабли и лопаты жались по стенам в испуге от моего рёва.
Прошло десять лет. За это время много что переменилось: «вжик-вжик» — и рухнул старый мир, а потом поменялось название государства. Переменилась и моя жизнь. Умерли родители, а брат уехал в другой город. Дача перешла ко мне, хотя зимой в городе я скитался по съёмным квартирам. Но я был молод, а когда ты молод, то тебе плевать на благополучие. И все мы давно узнали, что возвратно-поступательные движения можно делать не только с двуручной пилой.
Дачный посёлок тоже изменился, весь он как-то усох — зато к нему подвели газ, и исчезли дачники, что возили в детских колясках красные длинные баллоны. Миновали голодные годы, когда сумасшедшие старики и старухи разводили на дачах кур и поросят, а потом, надорвавшись, продавали свой надел пришлым людям. Исчезли заборы из штакетника, сменившись каменными и железными.
И внезапно всё как-то успокоилось, будто набрало в рот ваты. Ритм времени стал глухим, невнятным.
В те времена у меня приключилась большая любовь к той самой девочке, что провожал я когда-то — любовь быстрая и безнадёжная, как жизнь падающего альпиниста.
На третий месяц этой любви выяснилось, что моя девушка уезжает навсегда — к антиподам. Почему-то все мои друзья, когда слышали «Новая Зеландия», бормотали «К антиподам, к антиподам, к антиподам?» — и думали, что это удачная шутка. Но шутка эта будто двуручной пилой рвала мне душу «вжик-вжик».
Я узнал об этом случайно, не от неё, сидя под вечерним дачным небом у мангала.
Сосед мой сказал, что она улетает завтра — и можно было опустить голову в уцелевшую пожарную бочку и орать туда о своём горе. Или, повинуясь нелепой романтике, можно было умчаться в аэропорт для последнего поцелуя… Нет, на самом деле для того, чтобы там произошло какое-нибудь чудо неразлуки. Я действительно сорвался с места, прибежал на станцию и увидел, как к ней подходит и останавливается — всего на минуту, последний поезд.
На него было невозможно успеть. Отчаяние охватило меня, и тут я почувствовал на себе чей-то взгляд.
На скамейке у магазина сидел худой костистый старик, бездарный учитель музыки и смотрел на меня в упор. Наверное, это длилось секунду-две, и вдруг он махнул мне рукой — беги, дескать, беги. Успеешь.
Успеть я не мог, но всё же сделал несколько шагов вперёд и тут же обернулся.
Старик встал со скамейки и одновременно щёлкнул пальцами обеих рук.
Он хлопнул в ладоши, топнул ногой. А потом начал странно двигаться — это был не танец, а развалины танца. Будто здание, обросшее мхом, с нехваткой стен и крыши при порыве шквального ветра обнажает мраморные колонны и напоминает о своём величии.
Старик бил чечётку по плитке, которой была вымощена площадка перед магазином.
Вдруг я понял, что пространство вокруг меня загустело, и движение фигур на станционной платформе остановилось. Я ещё медлил, но старик мотнул головой — что, дескать, ждёшь?
Он натянул тонкие морщинистые веки на глаза, как большая черепаха, и принялся танцевать вслепую, как шаман.
Я бросился к поезду, который увяз в этом киселе, и влетел в тамбур как раз в тот момент, когда двери вагона с шипением стали смыкаться. Смыкаться медленно-медленно.
В мутном окне со стёртыми буквами, призывающими не то не прислоняться, не то не слоняться, уже ничего нельзя было различить.
Я не видел ни станции, ни магазина рядом с ней, ни старика — и отчего-то догадывался, что не увижу его больше никогда.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
29 апреля 2015
(обратно)
Ночь при полной луне (День пожарной охраны. 30 апреля)(2015-04-30)

Авария случилась на исходе ночи.
Машина пробила ограждение, перевернулась и ударилась об дерево.
— Плют-плют-плют, — осуждающе сказала ночная птица, а осторожные ночные звери промолчали. Их манил запах крови и смерти, но звери боялись другого запаха — запаха бензина и металла, шедшего от обломков. Звери боялись шума дороги и наступающего утра. Но главное, они боялись самого этого места.
А семья в машине перестала существовать под тихий звук случайно уцелевшего радио.
Кровь отца мешалась с кровью матери, кровь ребёнка капала на траву отдельно.
Кровь густела, переваливалась через излом искорёженного железа, двигалась по стеблям травы, и, впитываясь в землю, совершала свой путь медленно. Чрезвычайно медленно, миновав плодородный слой, совсем немного этой крови миновало песчаник, и, наконец, просочившись по косому пласту глины вниз, единственная её капля достигла того, кто ждал её долгие годы.
Знахарь лежал на животе, осиновый кол, которым проткнули его тело, истлел, но и ничего живого не осталось в его обескровленных тканях. Сила давно ушла из них.
Но вот единственная капля чужой крови коснулась его затылка. И тут же она начала делиться, множиться, она мешалась с подземными соками и глинистой водой. Новая кровь наполняла тело Знахаря, и он принялся ворочаться, попадая руками в кротовьи ходы и подземные полости. Уже исчезла с поверхности над ним разбитая машина, уже деловитые рабочие с плоскими лицами починили ограждение, а Знахарь всё набирал силу, дышал запахом перегноя и мокрого песка, распугивая зазевавшихся червяков.
Он вылез наверх спустя несколько ночей — когда поляна в придорожном парке была залита белым лунным светом.
Ночная птица поглядела на него маленьким глазом-бусинкой, открыла клюв, чтобы сказать своё «Плюют-плют», но вгляделась тщательнее и раздумала петь.
Знахарь привыкал к новому воздуху вокруг себя — тогда, сто лет назад, когда его, обессиленного, догнали мужики с дрекольем, это место было обычным лесом. Рядом стоял его дом — но вместо несуществующего забора начинался асфальт, по которому катили первые утренние машины. Местность изменила свой профиль, большой город сжевал рельеф прошлого, засыпал овраги и возвёл насыпи.
Знахарь знал об этом мире многое (под землёй вести распространяются быстро), но многое было открытием — искусственный свет, запах… И ко всему надо было привыкать.
Он ещё раз посмотрел на осевшую, опустелую землю, провёл по ней руками и зашагал на свет.
Колдун в этот час стоял на балконе своей квартиры. Балкон был велик и обширен — это была часть крыши, открывавшая вид на полгорода. На гладкой поверхности, покрытой неизвестного происхождения мрамором, было пусто — только ряды папоротников в кадках ждали своего часа.
Раскачиваясь в кресле, Колдун бросал на утренний ветер сор и пыль из маленького мешочка, висевшего на шее. Сор летел прихотливо — ветер нёс его с Запада на Восток, поворачивал обратно, сор влетал в раскрытые по жаре окна, оседал на уличных скамейках.
Это несчастья и неудачи летели по городу — сейчас Колдун сеял их просто так, для удовольствия. Иногда он развлекался тем, что следил за судьбой каждой соринки и щепочки — но сейчас его пальцы двигались машинально, а губы твердили заклинания сами.
Но этим утром над алой полосой восхода, сразу над тучами, вспыхнула и мигнула зелёная звезда. Через мгновение она погасла, но Колдун сразу понял, что пришёл тот час, которого он так боялся. Проснулся Знахарь, и теперь будет искать его, чтобы мстить.
Сам Колдун был похоронен давным-давно, на юге города. Он проснулся на полвека раньше, чем Знахарь. И кровь, разбудившая его, текла реками, а не каплями. Сначала над Колдуном устроили дачи, и он слышал сквозь толщу земли, как пируют новые хозяева жизни, как вертится, постоянно заедая, граммофонная пластинка, а потом он услышал плач и голоса всё тех же дачников, которых расстреливали сноровистые люди в военной форме. Мертвый Колдун купался в крови, которой набухла земля, и когда выполз на лунный свет, то понял, что пришло его время.
За годом нового рождения пришло время войны, и Колдун радовался, что заново появился на свет в правильное время, чтобы не ломать руками выстуженную землю сорок первого года. Когда над этим местом тонко запели в вышине бомбардировщики, он уже давно набрался злой силы из человеческого страха, а этого страха было вдосталь.
А теперь леса исчезли, и окрестные деревни давно стали городом. Город, как людоед, пожрал пашни и избы и переварил людские судьбы.
Дети колдуна расплодились, и хоть не были так же сильны, как он, но не теряли времени даром. Колдун поселился у одного из сыновей — в большом новом доме на бульваре.
Он помнил, как давным-давно поссорился со Знахарем. Потехи ради Колдун затеял в городе чуму, и то-то было веселье.
Но Знахарю это вовсе не понравилось, и он решил наказать Колдуна. Вина по их меркам была невелика, да воевода крут. Знахарь настиг врага в южной дубраве и закопал по всем правилам.
Отчего он пожалел детей — Колдуну было непонятно. Но именно это-то и сгубило Знахаря, и он сам лёг в землю — только убили его люди, которых он лечил. Сыновья Колдуна смотрели из-за деревьев, как бьют колами по телу старика, и только удивлялись людской сноровке.
Потом они отловили всех детей Знахаря и предали их, связанных, реке. Когда вода сомкнулась над последним в роду Знахаря, Колдун ещё лежал под землёй и бездумно отдыхал от солнца.
Сейчас пространство города было очищено, и Колдун, вернувшись, долгое время жил в нём, как на чистом и вольном лугу, где пахнет травой и свежестью, где неоткуда ждать беды.
Но теперь он чувствовал, что Знахарь не спит и перемещается по улицам города.
Знахарь поселился в своих прежних местах — теперь там чадил завод, бодрый факел горел на высокой трубе, вокруг были болота и странные поселения. Первым делом он встретил вьетнамского колдуна, который долго притворялся глуховатым. Потом они кое-как договорились, и Знахарь некоторое время прожил в огромных корпусах брошенной фабрики, где из каждого угла раздавался стрёкот швейных машинок. Племя подопечных вьетнамского собрата было многочисленно и так же однородно, как лягушки на просёлочной дороге.
Сначала Знахарь думал, что они заполонили весь город, но потом понял, что в этих местах вместе с людьми поселилось слишком много разных вер и суеверий. Восток пришёл на его землю — но это не пугало Знахаря. Он видел слишком много примеров того, как приходил Восток, а потом откатывался назад, как Запад валом прокатывался на Восток, но сразу исчезал, изнемогая.
Он знал, что закон един на всех, и спокойно говорил с колдунами с берегов Каспия и пустынь Азии.
Знахарь быстро узнал судьбу своего врага, но больше его занимало другое. Кроты и землеройки нашептали ему в мёртвое ухо тайну, и эта тайна была сладкой как месяц, тягучей как леденец.
Тайна была в том, что его род не пресёкся.
Они и сам чувствовал это — что-то родное существовало на земле. Иногда ему даже казалось, что и дом его цел, только в другом месте.
Как-то он вернулся к изгибу дороги, тому месту, где стояла его изба, и теперь уже ясно увидел, что от места идёт след, будто его дом удирал от преследователей, роняя старый мох из брёвен и щепки.
След терялся, но Знахарь продолжал изучать окружающий его мир.
Несколько раз к нему, похожему на нищего, приближались милиционеры, но он легко отводил им глаза. Однажды битком набитый автобус приехал во вьетнамское общежитие с проверкой, но высыпавший из него отряд недоуменно слонялся вокруг фабрики.
Милиционеры покрутили головами, хором помочились на бетонный забор, да так и уехали. Вьетнамский колдун зауважал Знахаря ещё сильнее, но попросил не мешать его делу — он просто покупал милиционеров. Чтобы не обидеть, вьетнамский колдун стал снабжать Знахаря настоящим бальзамом — эти красные баночки с золотой звездой, лежавшие раньше везде, отчего-то пропали.
Вскоре Знахарь переехал — поближе к людской толкотне. Он ни в чём не нуждался, вокруг происходило необычное безумие. Такое он видел накануне войн и революций.
Все что-то продавали и покупали, на улицах было полно пьяных, как яйца на Пасху, бились друг об друга дорогие автомобили.
И с ненавистью смотрела на это угрюмая мазутная толпа городских окраин.
Он поселился в квартире выжившего из ума профессора. Квартира была запущена, по стенам висели фальшивые обереги и камни силы. Ни один из них не действовал — и Знахарь с улыбкой касался их, думая, не придать ли им хоть какую-нибудь силу.
В квартире к стенам жались плакаты и противоречивые лозунги, прибитые к деревянным шестам — профессор таскался с ними на митинги и демонстрации. Мода на это занятие прошла, и часто он стоял под дождём на какой-нибудь площади с двумя-тремя сумасшедшими старухами.
Мимоходом Знахарь вылечил ревматизм, давно поселившийся в худой профессорской спине. В тот день, когда луна пошла на убыль, он пробормотал нехитрые заклинания, и болезнь начала исчезать вместе с худеющей луной, да так и пропала навсегда.
Несколько раз на улице он видел внуков Колдуна — но они прошли сквозь него, как сквозь туман. Можно было бы поймать одного зазевавшегося, и прямо где-нибудь за гаражами, или у мусорных баков, высосать у него всю память — но было рано. Тогда его хватятся и поймут, что он ищет.
Пусть Колдун думает, что его давнишний противник слаб и доволен тем, что ему выпало.
И правда, его не тревожили больше. Двойник Знахаря, сделанный из травы и проволоки, сидел во вьетнамском общежитии, совал кусок ткани под бьющуюся и клекочущую механическую иглу и сам был обряжен в то, что шил, — версаче и прада.
Двойник послушно подавал паспорт со вложенными в него деньгами проверяющим, и два внука колдуна, когда заглянули с проверкой, тоже спрятали в свои фальшивые мундиры вполне настоящие американские бумаги с портретами.
Лейтенант пожарной службы жил на краю города. За домом и днём и ночью грохотала граница города — огромная окружная дорога. Часто лейтенант ночевал в пожарной части, чтобы не трястись в автобусах поутру и чтобы не видеть смутных беспокойных снов под шум ночных машин.
Сослуживцы любили его, хотя и считали заговорённым — многие из них не боялись огня, но только лейтенант избегал ожогов.
Что-то было в этом неестественное, но лейтенант жил со всеми вровень, и о нём не судачили.
Наоборот, его караул считался счастливым — лейтенант знал толк в обращении с огнём. Одного он не любил: когда пожарные тащили вещи из погорелого дома. А время было голодное, и огонь списывал всё, зачищал и подчищал любую ценность, как бы входя в сговор с невысоким окладом и нищим пайком пожарного. Но рядом с лейтенантом никакая вещь, взятая с пепелища, не шла впрок.
Все его предки были пожарными — один, странствуя по деревням, усмирял огонь молоком только что отелившейся коровы, другой кидал через пламя пасхальные яйца и весьма преуспел в тушении. Ещё один привёз в Россию трубы конструкции знаменитого механика Ван ден Хейдена и всю долгую морскую дорогу спал на них, чтобы сберечь от лихих людей. От него в роду остался камень, нарицаемый уакинф. Уакинф, или яхонт, как казалось лейтенанту, светился в глубине шкафа, отмеряя остатки сна до дежурства.
В лихое время умирания империи ему часто приходилось ездить на поджоги — горели склады и автомобили. Горели киоски и ларьки, они вспыхивали как свечки, и иногда в них колотились, беззвучно крича, запертые продавцы. Следователи тоже любили лейтенанта — потому что он угадывал, как родился огонь и каким путём шёл.
Но лейтенант не мешал следователям врать в бумагах, и оттого нравился им ещё больше.
Однажды его красная машина примчалась на набережную — там чадила взорванная машина. Рядом лежали двое охранников — один почти целый, другой — потерявший голову от работы. Опершись на решётку, за которой катилась мутная вода реки, курил оставшийся в живых пассажир. Он обнимал не то жену, не то дочь — та сидела в весеннем талом снегу, не замечая холода.
Когда лейтенант коснулся её плеча, чтобы помочь забраться в машину с красным крестом, то девушка зашипела, как вода, которую плеснули на сковородку.
Лицо мужчины тоже странно изменилось, когда он увидел лейтенанта.
На следующий день пожарный лейтенант уже забыл об этой встрече — и всё потому, что судьба изменила ему. Они тушили старый дом, наполненный, кроме дыма, запахами кислого и протухшего, кошачьей мочой и людским смрадом.
В первый раз ему стало по-настоящему трудно. Он нес на себе пьяницу, ставшего вдруг неимоверно тяжёлым. Пьяный старик кинул сигарету в ворох газет на кухне и теперь лежал на плече лейтенанта бесчувственным свёртком. И тут огонь, с которым прежде у лейтенанта было мировое соглашение, начал нападать на него и жалить.
Лейтенант всё же сделал своё дело, но понял, что что-то в мире изменилось.
Через несколько дней заполыхал крытый рынок. Рвались в контейнерах баллоны с химическими очистителями и поддельными дезодорантами. Весело полыхали ряды с фальшивой водкой. Лейтенант расставил людей и принялся обходить очаг пожара. И вдруг пламя стало окружать его, и лейтенант еле выбрался из смертельного круга.
В этот раз, впервые за много лет, у него погиб подчинённый.
В первое же дежурство, после отпуска, похожего на ссылку, лейтенант попал на странный выезд. Горели гаражи после бандитского боя. Бандиты были людьми воевавшими — воевавшими много и с охотой. Так же самозабвенно они дрались и в центре большого города. Гаражи полыхали, зажжённые армейскими огнемётами, а асфальт был иссечён осколками от противотанковых гранат.
Когда лейтенант ступил в пламя, то оно подалось назад… И за завесой огня двое убитых встали с земли и принялись душить лейтенанта.
Мёртвые пальцы в пороховой копоти перехватили шланг дыхательного аппарата, но лейтенант успел сбросить их — странная сила присутствовала рядом.
Кто-то взял его за руку и вывел из огня — уже по ту сторону пожара.
Лейтенант очнулся от того, что его лоб гладят сухие старческие ладони.
Какой-то старик ласково смотрел ему в глаза.
Внук оказался смышлён и понятлив. В меру недоверчив, и умён. Ему не понадобилось долго объяснять историю — лейтенант давно обо всём догадывался сам. Он видел, что Знахарю нравилось с ним говорить.
Поколение за поколением продолжался род Знахаря, и теперь два собеседника решили сократить бесчисленные приставки, чтобы заодно сократить расстояние. Лейтенант был просто внуком, а дед был единственным в их роду, кто не был пожарным.
— Мне жаль только одного, — говорил внук, — что я не умею лечить людей.
— Каждому своё, — отвечал дед. — Видишь, тебе люди важны, а я устал их любить. Видишь, как мудро всё устроилось: я на равных говорю с землёй, ты укрощаешь огонь, несчастный Колдун запрягает ветер, а его дети бурлят, как пузыри в подчинённой им воде. Только Колдун думает, что в тебе кипит огонь мести, а я надеюсь, что нет. Ты можешь спасать просто людей, а мне просто люди не интересны — вот эта разница мне нравится.
Теперь лейтенант, окончив дежурство, не ехал через весь город, а сидел со стариком. Он часто задавал себе вопрос — действительно ли всё равно кого спасти? И бессмысленного пьяницу, из-за которого в огне погибли дети, и бандита, что горит в своём загородном доме. Лейтенант стоял на границе добра и зла, вернее, сам каждый раз определял эту границу.
— Рассматривай это как игру, — повторял ему дед, — как только появляется угрюмая серьёзность, так значит, что дело недоброе. Вот наш Колдун бредит битвами и боится мести — не знаю, может, он начитался сказок и действительно решил, что он посланец Сатаны. А есть ли сам Сатана — он уже и не знает…
В начале апреля старик показал внуку колдуна. Тогда, на Благовещение, нечистая сила проветривает колдунов над печами — и Колдун висел в дыму и пару над своим домом, прямо над старой печной трубой, куда курились камины новых богачей.
Колдун не показался внуку Знахаря страшным — лишь неприятным и опасным, как плохо сложенная печь или искрящая проводка.
Но апрель уже высыхал, набирался тепла, приближался май, деревья шелестели ещё не выжженной летним жаром зеленью. Лейтенант учился слышать дыхание колдунов на расстоянии и находить помощь не только в огне, но и в силе земли.
Нужно было ещё научиться спасать тех, кто потом мог гнаться за тобой с колами, чтобы уничтожить. Эти люди, как и много лет назад, были наполнены животным страхом — но лейтенант пытался вытравить в себе чувство брезгливости.
Знахарь готовил внука к встрече с Колдуном: «Запомни, мы не зло и не добро. Да и отчего самому добру не сделать шаг первым? Тем более мы не добро, он не зло, мы все часть каких-то сил, но всё в мире запуталось, и связи оборвались. Скоро у колдуна праздник, фальшивый шабаш толстяков — и это хороший повод понять, шевельнётся ли в тебе жалость к отвратительным, бессмысленным, но всё же людям»…
Настал последний день апреля. Месяц катился под гору, и люди большого города начали праздники загодя. Те из них, что побогаче, придумали себе двухнедельные каникулы. Те, что попроще, начинали пить с утра. В эти сутки лейтенанту досталось дежурство — вернее, он легко поменялся на это время.
Этот день недавно стал и Днём пожарной охраны, и его сослуживцы торопились по домам и гостям — чтобы в пожарном порядке опрокинуть в себя огненную воду.
Но это был ещё и день Колдуна — и место встречи было невозможно изменить. Это был вечер чужого праздника, ночь волшебного огня и спектакля на древних холмах, что расположились на юге города.
Как только стемнело, лейтенант стал готовиться к выезду.
Он сидел в своём углу, под линялым рукописным плакатом «Войны и нашествия бывают редки, пожары неумолимо постоянны, и перемирия с ними невозможны» и пытался представить себе подъезды к ночному празднику Колдуна.
Из шести человек расчёта он оставил троих, считая себя. Собственно, шести и не набралось бы — в пожарной части давно не хватало людей в экипажах.
Сейчас с ним были бурят и молодой татарин — потомственный москвич в пятом или шестом поколении. Все предки татарина мели московский булыжник в одном и том же месте, но новое время взметнуло там небоскрёб, и молодой татарин надел пожарную каску.
Бурят понравился лейтенанту давно — ещё тогда, когда он увидел, что бурят обкуривает тлеющей щепочкой колёса пожарной машины. Они были одной крови, запад и восток.
И машина, когда бурят сидел за рулём, шла верно, скоро, никогда не застревая в городских улицах. Одной крови, точно, — подумал тогда лейтенант.
Колдун сидел на холме в бутафорском троне. Он презирал всех тех, кто собрался перед ним на холме. Это были пустые люди, полые люди. Люди с дыркой в голове, с дырками в сердце, люди, похожие на половину лошади из немецких врак, у которой выливалось сзади всё, что она успевала выпить спереди. Эти люди до конца не верили, что их деньги — это их деньги, и стремились их тратить. Их детство было скучным, а теперь они, как безумные дети, попавшие в кондитерскую, жрали всё без разбора.
Им не нужно было даже колдовства, их желания были суетливы и приземлены. Лигатуры они боялись больше, чем смерти, а смерти — больше, чем неприятностей с душой. Половину из них привела на холм похоть, вторую — любопытство.
Долго эти люди были для Колдуна дойными коровами, но сейчас ему хотелось забить стадо на мясо. Нет, ему не нужно было свежей крови, Колдуна просто раздражали эти существа.
Он насквозь видел их желеобразные тела, жирные и худые, и эти тела казались ему призрачными — подуй он через сцепленные пальцы, ветер снесёт их туши, как капли воды с ветки. Он видел лаковые машины, похожие на обмылки. Эти автомобили сгрудились у подножия холма, и Колдун думал, что они вряд ли сегодня дождутся хозяев.
В эту ночь жирное, но вечно голодное стадо приехало к нему на священные холмы, где городские археологи раз в год находили две гребёнки и десять черепков. Но слава холмов была сильнее рассказов археологов, всякий в городе знал, что там издревле жили непростые люди.
На холмы приходили разные люди — бритоголовые крепыши в чёрной форме — прежде чем драться на рынках с торговцами; бледные искуренные сектанты, тонкие, как бумага, похожие на раковых больных, и любители острых ощущений.
Сейчас любителей острых ощущений собралось много — они смотрели на обряд инициации так же, как смотрели бы на смертельные бои в других тайных местах, где в свете автомобильных фар дрались новые гладиаторы. Даже этот шабаш был вычитан ими из книг — Колдун просто следовал их ожиданиям.
Сейчас он думал о своём — о том, как легко этот мир управляется деньгами. Деньгами разными — лёгкими бумажками, стёртыми кружками, а теперь вот просто намагниченными кусками металла. Даже не брусками магнитного железняка (такое тоже бывало), а тонким слоем магнитной пыли. Крохотные магнитные домены, тайное движение электричества — и миллионы судеб оказываются в кулаке.
Колдовство почти не нужно — только короткий всплеск напряжения; муха, попавшая в аппарат, намагничивающий плёнку или диск. Дефект, ворсинка на оптике, производящей деньги выжиганием — всё, что угодно…
А ком снега уже начал движение с вершины, вызывая лавину, которая задавит всё живое внизу. Шерстинка, пылинка, мошка — вот что занимало Колдуна.
А пока у костра дети Колдуна раздели худого мальчика, с виду банковского клерка.
Мальчик, пошатнувшись, положил снятый с шеи крестик под пятку правой ноги, стал лицом к неразличимому в ночи Западу и начал говорить по-заученному:
— Отрекаюсь я, раб Василий, от распятия Христова, и от тридневного Воскресенья, и от всех дел Его и заповедей, и не верую в Него, дую и плюю…
Колдун со смехом повторил про себя «Дую и плюю», а в этот момент пожарная машина шла ночным городом на юг, без включённых огней и сирены.
— Дую и плюю, — пел мальчик, — на все дела Божии, только прирекаюся к тебе, сатане, и ко всем делам твоим и заповедям твоим, верую в тебя, творца и царя сатану, и во все дела и заповеди твои, и хочу быть сообщником твоим и собеседником…
А бурят уже вёл красную машину на холм, три тонны воды бились в цистерне как кистень, готовый к драке. Те, что стояли поодаль от костра, рядом со своими машинами, уже слышали рёв мотора, как предчувствие беды, и крутили головами.
Мальчик торопливо отрекался от Богородицы, Церкви, апостолов и храмовых праздников вместе со святыми угодниками.
Он с трудом выучил слова, взятые напрокат из церковной службы, только с отрицанием перед каждым глаголом. К его пальцу приклеилась ватка, будто после визита в поликлинику. Кровь, которой он только что подписал отречение, впрочем, не унималась. «Аз, раб, — написал он, — отрицаюся Бога и неба, и земли и святые Божия веры, и соборныя Божия Церкви, и не хощу нарицатися христианином, и предаюся в услужение дьяволу, и должен его волю тварить, в том и письмо свёрнутое дал ему». Колдун принял письмо-отречение, и бумага, распечатанная на цветном принтере, исчезла в складках его плаща.
И в этот момент на лысину, что завершала холм, вылетела пожарная машина. Сдирая травы, она криво стала, и лейтенант не спрыгнул, а сошёл на землю.
Гигантский костёр полыхал, и это было пламя, отбившееся от рук. Заблудшее, сварливое пламя, но с ним ещё можно было договориться. Люди вокруг костра были стадом — трусливым и любопытным. Его он в расчёт не брал. Но справа и слева стояли дети колдуна, поодаль — его внучка, в которой он сразу узнал девушку с набережной. Ну и, наконец, сам Колдун, который, казалось, ещё ничего не понял, но уже ударил по лицу лейтенанта первый порыв колдовского ветра. Дети колдуна подняли руки и направили сведённые ладони к лейтенанту.
Язык огня сорвало следующим порывом ветра, и, оторвавшись от костра, он упал пожарным под ноги.
Не обращая внимания ни на что, татарин отматывал шланг брандспойта, а бурят готовил цистерну к бою.
Ветер снова плюнул огнём в лицо лейтенанта, и предупредительно запульсировал в нагрудном кармане камень яхонт, иначе называемый уакинф. Но теперь лейтенант поймал сгусток огня, как вратарь ловит мяч в углу ворот, и начал вращать его в ладонях колобок — огонь-огонь, иди со мной, иди от меня, от моего плетня… Лейтенант принялся лепить и катать огонь, как катают и мнут тесто. И вот, наконец, швырнул его обратно.
Огненный шар полетел между настоящих и фальшивых колдунов, зажигая мантии и пиджаки.
Он попал прямо в лоб сыну Колдуна, а второй его наследник уже бежал в огне, пятная траву пламенем.
Костёр гас под струёй воды, а человечье стадо, визжа и потеряв людской облик, неслось в ночь, падало, валилось со склона, подпрыгивая, как картофелины, сыплющиеся из мешка. Каждый спасался как мог.
Колдун понял, что произошло непоправимое. Его внуки, вступившие в давнюю схватку, были убиты, а враг соединился со своим потомком. Внучка бежала, струясь, как ручей по склону, — свойства воды передались ей в час опасности.
Он не стал драться, а взлетел вверх, прямо к равнодушной полной Луне, и исчез.
Прошли майские беспокойные праздники, миновал летний Купала, а в воздухе большого города набухало смутное беспокойство. Что-то в равновесии сил было нарушено, и напряжение копилось, как вода в запруде.
Не отвлекаясь на всё это, Знахарь пока шёл по следу своего дома. Внук шелестел архивами, и, наконец, они нашли одну зацепку, за ней потянулась другая, и вдруг всё стало ясно.
Знахарь залез в жестяную утробу электрического поезда, и электрический поезд повёз его к дому. Чем ближе он был к этому месту, тем крепче была внутри Знахаря сила, но что важнее — тем больше в нём было спокойствия.
Он нашёл свой дом вблизи монастыря, на низком берегу реки, что поросла соснами. Там его изба, перевезённая туда лет десять назад, крепко стояла на новом месте — в музее. Её облили какими-то химическими жидкостями для консервации, но Знахарь быстро удалил их из брёвен. Всё это время дом держался воспоминанием о нём, и никакая химия для этого не была нужна. Знахарь поселился в своей избе, и никого не удивляло, что вечерами, когда музей уже закрыт, там горит свет.
Посетители музея принимали его за смотрителя, а сотрудники отчего-то не задавались вопросом, кто живёт внутри экспоната, к кому ходят такие странные гости, и почему среди гостей так частит молодой человек в форме пожарной охраны.
Но не один он навещал старика. Через месяц до него добрался и Колдун. Силы у колдуна было мало, но для самоутверждения он по дороге, сощурившись на солнце, превратил длинный свадебный поезд в свору волков — оскалив зубы, волки бились за стёклами остановившихся машин, и горькая слюна заливала стёкла изнутри.
Теперь Знахарь и Колдун сидели друг напротив друга. Знахарь поставил чайник на огонь — для себя, он знал, что Колдун не выпьет ни капли в его доме и не съест в нём ни крошки.
— Зачем тебе это? Ты же не любишь людей. Помнишь, как они убивали тебя — глупо, навалившись кучей, содрогаясь от жадности и страха? А помнишь, как тебя хотели повесить ещё раньше, в Новгороде?
— Не люблю, — согласился Знахарь миролюбиво.
— Люди отвратительны. А теперь, когда отменили Бога, они отвратительны вдвойне. Они перестали соблюдать посты, но губы их лоснятся в праздники. На самом деле, они отменили не Бога, а страх перед ним. Меня позвали камлать среди стекла и бетона, в денежном месте, и в дверях я столкнулся со священником. Он освящал этот дом, а я пришёл в него камлать — и нас позвали не по ошибке. Нас позвали обоих для верности, как рассовывают яйца в разные корзины. На всех убийцах, что я видел живыми и мёртвыми, были кресты, а вот на сыщиках — отнюдь не всех. Кого ты будешь лечить?
— Да всё равно кого. Не надо строить из нашей драки битву добра со злом — мы дерёмся, потому что дерёмся. Потому что ты мне не нравишься, а не оттого, что я не могу забыть чумных детей, что стонали в канаве у моего дома. Что нам кресты — тебе и мне? Мы живём в другом мире — он нехорош, да и людской не сахар.
Колдун не выдержал первым — он занёс руку для удара, но с полки сорвался горшок и сам собой наделся на кулак. Старый дом помогал Знахарю, и лёгкой чёрной тенью Колдун скользнул к выходу.
Знахарь вышел за ним следом, в круг света полной луны, на залитую белым дорожку музея-заповедника.
— А может, давай, на кулачках, как прежде?
Колдун не ответил, и быстро взмахнув рукой, бросил горсть припасённого песка в лицо противнику. Но песчинки замерли в воздухе, как облако мошек над чистой водой. Каждая из них приплясывала на месте, а Знахарь любовался на
этот танец.
— Лучше на кулачках, — повторил Знахарь, — а то ты и так похож на шахматиста, схватившегося за нож. Но лучше оставить всё как было, следующим поколениям. Мы с тобой как тень и свет, не можем друг без друга. Но лучше мы будем ненавидеть на расстоянии.
— Ты же знаешь, что твой внук убил моих детей. Он отомстил за тебя, но я всё равно пришёл.
— Какие глупости, зачем ему мстить? Он был лишь зеркалом, отражением своих врагов. Ты опять всё путаешь, и знаешь отчего? Ты слишком серьёзно к себе относишься — ведь нет битвы добра и зла, а есть тысячи мелких комариных столкновений.
Колдуны расплодились как тараканы, и оказались так же уязвимы, как люди. Отменённый Бог смотрит на нас из-за туч, восточные знахари смешались с европейскими врачами, началось новое переселение народов — а ты говоришь о нашей вражде, драке двух стариков, что были мертвы много лет… Под небом хватит места всем — а ты всё суетишься. Хороший дом на бульваре, достаток, внучка — что ещё нужно, чтобы встретить старость?..
— Хотя, конечно (он улыбнулся), спина болит у меня до сих пор.
Вокруг них уже потрескивал от напряжения воздух. Смеркалось, тени от деревьев легли в стороны от двух стариков, как от костра. Кроты залезли обратно в свои норы, и, свернувшись, стали ждать исхода.
Удивлённая ночная птица, проснувшись, косила на них глазом-бусинкой. Она возмущённо пропела своё «Плют-плют-плют», но жёсткий удар воздуха сбил её с ветки. Замертво, с деревянным стуком, она свалилась на землю.
Пространство вокруг двух стариков вихрилось, трава полегла, и листву рвало с деревьев.
Знахарь был задумчив, Колдун порывист — и тени от их движений пробегали по высоким деревьям.
Начинался ураган, воздух бил Знахаря в грудь, и, чтобы выиграть время, хозяин избы повторил чужой приём. Он кинул в Колдуна, тем, что нашлось в кармане — табаком, крошками и баночкой вьетнамской мази. Она-то и попала Колдуну в глаз.
Колдун оступился и припал на одно колено.
Воронка, сплетённая из вихрей, начала ощупывать ноги Колдуна, его спину, трепать волосы, вот уже её тонкий жгут принялся рвать на нём одежду. Колдун не удержался, и руку его, вывернув, засосало внутрь. Тело выгнулось и скрылось внутри дёргающегося воздушного пузыря.
Огромным шаром поднялось то, что было Колдуном, вверх, шар по пути сломал и всосал в себя дерево, и, наконец, покинул поляну. Первым на его пути пришёлся монастырь. С грохотом промялись купола, и, как птицы, полетели по воздуху кресты. Ураган, ломая деревья и срывая крыши, двинулся на Восток, к городу.
Внутри этого шара крутилось всё содержимое тайных карманов колдуна — щетинки и шерстинки, щепочки и булавки. Колдун заговорил их давным-давно на то, чтобы поражать самое ценное для людей: куски резаной бумаги. Больше всего этой ценной разноцветной бумаги было в этом большом городе к востоку от монастыря. Теперь деньги должны превратиться в прах и пыль, и никто не сможет этому помешать. Заплачут вдовы, порушатся судьбы, повалится из окон обезумевший офисный народ.
Знахарь только улыбался, прочитав всё это на лице исчезнувшего Колдуна. Сколько Знахарь видел смутных времён, сколько гнал ветер по улицам деревень и городов мусор и пыль, да жизнь продолжалась. Ему нисколько не было жаль людей, которых схватит скоро за горло отчаяние, потому что они заслуживали этого не меньше и не больше, чем поломанные деревья.
А кончится эта напасть, придёт другая. Ураган придёт с Запада, поворотится и придёт с Востока, всё вернётся в колдовской круг, потому что жизнь вечна.
Знахарь подобрал мёртвую ночную птицу и поглядел в её глаза, покрытые жёлтой плёнкой. Он быстро дунул ей в клюв и вдохнул обратно суетливую птичью жизнь. Потом он повесил птицу обратно на сук, как тряпочку для просушки.
Он вздохнул и оглянулся — где-то сейчас несся на пожарной машине его внук, чтобы унять искры из оборванных проводов.
В доме запел свою свистящую песню чайник, и Знахарь пошёл внутрь.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
30 апреля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-04-30)

Много лет назад, когда вода была мокрее, а сахар — слаще, я посмотрел в телевизоре фильм «Главный калибр».
Этот фильм буквально перепахал мне душу. Потом оказалось, что фильм, что меня когда-то так впечатлил, оказался не просто фильмом, а таким засушенным сериалом — что-то вроде напитка Перестройки под названием «Инвайт».
Потом уж телевизионные люди стали показывать его по разным федеральном и прочим каналам.
Вот и сейчас, когда я пишу вам эти строки, его показывают по каналу Ren-TV.
И вот, что я записал тогда, чтобы два раза не вставать.
Действие происходит в двух временах — и сейчас, и в 1943 году. В сорок третьем — просто ад. И Скорценни к тому же.
Да и современность — неласковая, но с надеждой. С очевидной завистью к «Секретному фарватеру», ну и то, что одного из героев зовут Городецкий, вставляет не по-детски.
Хотя нет, современная часть — это такой канон советского кино, принцип построения поздних советских фильмов начала восьмидесятых, когда герои современности — молодой офицер, комсомолка и их маленькие друзья противостоят иностранному шпиону, что пришёл бередить старые раны, копаться в военном окаменевшем говне, чтобы достать секретные партийные книжки, опись предателей, награбленные драгоценности, библиотеку Ивана Грозного (нужное подчеркнуть). А этим героям зеркально сопоставлены солдаты и матросы, которые…
Ну, понятно, что в далёкие военные годы главный герой погибает, а теперь, будто доживая за него, — любовь-морковь, и офицер с комсомолкой идут к алтарю… то есть, нет, конечно, получают малогабаритную однокомнатную квартиру.
Под эту схему переделали в ту пору даже одну пьесу Константина Симонова. Был ещё фильм про сына погибшего командира подлодки, который тоже стал командиром подлодки и хорошо проявил себя на учениях и, в отличие от папы, выжил. Повторяю, без определённой лексики тут не обойдёшься, так что просьба слабонервным дальше не читать.
Есть, конечно, фильмы о войне, которые все обсуждают — «Сволочи», там, какие к примеру. Ну, да — хуёво сделан, против Красной Армии и всё такое. Но судьба показывает мне, что и в честь Красной Армии можно такое снять, что держите меня семеро.
Я вообще удивлён, что по улицам нынче (Писано сие в 2007 году) не бегали полоумные, и не пересказывали прохожим сюжет этого фильма.
Поэтому тут и начинается всякая лексика. Исходя из слова «калибр» в названии, я думал, что это какие-нибудь советские «Пушки острова Наваррон».
Но нет, фильм вот про что — с какого-то перепою нацистские негодяи (под начальством Отто Скцорцени — как же без него) устроили свою тайную лабораторию по производству Военного Экстази. Это всё находится в тайных болотах, которые, в свою очередь, выделяют болотный газ (метан, наверное, но этого названия никто не произносит). Там этого газа просто гуталиновая фабрика, и от одного только выстрела всё может подзорваться.
Поэтому нацистские негодяи ходят с автоматами МП-40, из которых вынуты все патронные патроны, и угрожают словами Несчастным Пленным Красноармейцам, что копают яму в Подземной Лаборатории. Хули они копают — про это не знает никто. Я так думаю, что просто надо было как-то занять этих красноармейцев.
В промежутках между работой Несчастные Красноармейцы истово крестятся. Перекрестившись, несколько Несчастных Пленных Красноармейцев устраивают драку, а потом — побег, но в лесу их обнаруживают мускулистые Гламурные Эсэсовцы, которые похожи на крашеных пергидролем пидорасов из гей-клуба. (Ну, может, бывают такие — не знаю). Гламурных Эсэсовцев играют накачанные дембеля (они ходят дико расхристанные, без ремней и в полурастёгнутых парадках).
Вся фишка в том, что Гламурные Эсесовцы жрут Военное Экстази как конфеты — горстями.
Натурально, Несчастных Пленных Красноармейцев пиздят ногами (стрелять-то нельзя), но кто-то из беглецов всё же прорывается к своим. (Тут я потерял сознание, и значительный кусок фильма у меня выпал из описи).
…Услышав про эти безобразия Красноармейский спецназ грузится в Красноармейский самолёт производства бывшей братской Украины Антонов-2 и выходит на тропу войны (буквально). Красноармейский спецназ состоит из капитана, очень похожего на Чапаева, каким его изобразил народный артист Бабочкин; лица кавказской национальности (он всё время говорит как Сталин в фильме «Освобождение», растягивая слова, и постоянно проёбывает кинжал, оставшийся от отца в наследство — половина его реплик про этот кинжал, и у него, как у любимой девушки героя бессмертной поэмы «Москва-Петушки», коса до попы.
Это взрывчатое, надо сказать, сочетание — не хуже метана.
Там есть ещё один бессмысленный боец (он интересен тем, что у него тщательно подбритая бородка как у диджея и он постоянно хамит начальникам из разведотдела фронта), девушка и фронтовой кинооператор. Откуда взялась последняя парочка я совершенно не понял, потому что, когда я вновь пришёл в себя, девушку и кинооператора нацистские негодяи уже отпиздили ногами и взяли в плен.
И вот наши бойцы подходят к болоту и тупо смотрят в воду. Сначала в него прыгает Чапаев (он привык), а потом и остальные. Бойцы, (не снимая сапог), долго бороздят просторы тайного болота, будто фойе Большого Театра. Навстречу им, отперев дверь тайной лаборатории Золотым ключиком, выплывают нацистские водолазы (У них, чтобы мудаки-зрители не перепутали, на рукаве гидрокостюма повязка со свастикой).
Недолго думая, бойцы перерезали всех водолазов заветным кинжалом, а тут навстречу выплыл и Чапай.
— Пока вы водолазов резали, — говорит, — я Золотой ключик спиздил.
— Охуеть! — говорят все радостно, потому что понимают, что с Золотым ключиком они круче любого Буратино.
Красноармейский спецназ залезает внутрь Тайной Лаборатории. Надо оговориться, что в наших говнофильмах все Тайные Лаборатории сняты в декорациях из «Небесного тихохода», где под ужасные звуки из стены выезжала большая пушка.
Был, кстати, такой ещё фильм «Фронт без линии фронта».
Этих фронтов и фильмов про них (они все про организованных партизан под начальством артиста Штирлица, который там в главной роли) было много, но в одном точно была Тайная Лаборатория в Пенемюнде и — там были те же декорации, только цветные. И тоже выезжала из-за флага со свастикой на том же лафете — только не пушка, а Убийственная Ракета.
Чтобы зритель не перепутал Тайную Лабораторию, с какой-нибудь хуйнёй, там всегда по углам стоят огромные фанерные свастики, а на стенах висят имперские орлы в два человеческих роста. Надо сказать, что из того же «Небесного тихохода» спиздили антураж Тайных Лабораторий и в компьютерной игре «Вольфшанце», в которую я играл, когда был молод и имел силёнку.
Здесь ровно тоже самое.
Тут герои начинают месить охрану. Всё это спизжено уже из фильмов про Джеки Чана — особенно усердствует боец с косой до попы. Ну, это кто бы сомневался.
За углом бойцы видят Нацистского врача-вредителя, что уже занёс над девушкой Смертельный Шприц.
— Позвольте, у меня тут эксперимент, — возмущается Нацистский Врач-вредитель. (Они все по-русски говорят).
— Так поучаствуй в нём сам, дарагой! — говорит лицо кавказской национальности и втыкает во врача его же Смертельный Шприц.
Но как только бойцы выбираются наверх, их встречает банда Гламурных Эсэсовцев. Все становятся в ушуистские позы и ну пиздиться ногами.
Кто бы сомневался.
Гламурных Эсэсовцев сразу профилактически отпиздили, они очень обиделись и тут же достали из карманов большие таблетки Военного Экстази и их сожрали. Но бойцы Красноармейского Спецназа оказались не лыком шиты — они-то давно спиздили Военное Экстази из лаборатории. И теперь, на глазах удивлённых Гламурных Эсэсовцев его тоже сожрали.
Ну и опять наваляли Эсэсовцам по самое не балуйся.
Всё это раненному фронтовому кинооператору жутко надоело, и он понял, что таким манером фильм никогда не кончится.
Оказалось, что пока все пиздили Военное Экстази, он спиздил парабеллум с одним патроном.
— Съёбывайте! — говорит он своим товарищам и девушке. — А я стрельну и погибну смертью храбрых.
Тут все и съебались.
Даже Гламурные Эсесовцы, кроме главного. Этому-то главному всё было похуй.
Тут кинооператор пальнул, и ещё две минуты фильм снимали сквозь конфорку бытовой газовой плиты.
Очень похоже на рекламу «Газпрома», кстати.
Дальше хуй его знает, что произошло, но очевидно, что Красноармейский спецназ выжил, переоделся и вот бойцы, отдавая честь, торжественно кладут кинокамеру на могильный холмик.
Ну и, действительно, — хули её к своим тащить — она тяжёлая.
Вот какие огурцы продаются теперь в магазинах. Такие вот фильмы показывают нам в прайм-тайм. (Тут я вклинюсь в этот текст из сегодняшнего дня и скажу — вот уже почти десять лет подряд). Ни в пизду, так сказать, ни в Красную Армию.
В ролях: Александр Соловьев, Алексей Фаддеев, Глафира Тарханова, Юрий Сысоев Режиссер: Михаил Шевчук. Россия. 2006.
Извините, если кого обидел.
30 апреля 2015
(обратно)
Пентаграмма ОСОАВИАХИМа (День Международной солидарности трудящихся. 1 мая) (2015-05-01)

Он жёг бумаги уже две недели.
Из-за того, что он жил на последнем этаже, у него осталась эта возможность — роскошные голландские печки, облицованные голубыми и сиреневыми изразцами, были давно разломаны в нижних квартирах, где всяк экономил, выгадывая себе лишний квадратный метр.
А у него печка работала исправно, и теперь исправно пожирала документы, фотографии и пачки писем, перевязанные разноцветными ленточками. Укороченный дымоход выбрасывал вон прошлое — в прохладный майский рассвет.
Академик давно понял, что его возьмут. Он уже отсидел однажды — по делу Промпартии, но через месяц, не дождавшись суда, вышел на волю — его признали невиновным. Он, правда, понимал, что его давно признали нецелесообразным.
Теперь пришёл срок, и беда была рядом. Но это не стало главной бедой — главная была в том, что установка была не готова.
Он работал над ней долго, и постепенно, с каждым винтом, с каждым часом своей жизни, она стала частью семьи Академика. Семья была крохотная — сын и установка. Как спрятать сына, он уже придумал, но установку, которую он создавал двадцать лет, прятать было некуда.
Его выращенный гомункулус, его ковчег, его аппарат беспомощно стоял в подвале на Моховой — и Кремль был рядом. Тот Кремль, что убьёт и его, и установку. Вернее, установка уже убита — её признали вредительской и начали разбирать ещё вчера.
Академик сунул последнюю папку в жерло голландского крематория и приложил ладони к кафелю. Забавно было то, что он так любил тепло, а всю жизнь занимался сверхнизкими температурами.
Бумаг было много, и он старался жечь их под утро, вплоть до того момента, как майское, почти летнее, солнце осветит крыши. С его балкона был виден Кремль, вернее, часть Боровицкой башни — и можно было поутру видеть, как из него, как из печи, вылетает кавалькада чёрных автомобилей.
Потом Академик курил на балконе — английская трубка была набита чёрным абхазским табаком. Холодок бежал по спине — и от утренней прохлады, и от сознания того, что это больше не повторится.
Машины ушли в сторону Арбата, утро сбрызнуло суровые стены мягким и нежно-розовым светом. Говорили, что скоро всех жильцов отселят из этих домов по соображениям безопасности, но такая перспектива Академика не волновала — это уже будет без него. Давно выдавили, как прыщ, золотой шар храма Христа Спасителя, а вставшее поодаль от родного дома Академика новое здание обозначило новую границу будущего проспекта.
Горел на церкви рядом кривой недоломанный крест, сияла под ним чаша-лодка — прыгнуть бы в лодочку и уплыть, повернуть тумблер — и охладитель начнёт свою работу, время потечёт вспять. Вырастет заново храм, погаснут алые звёзды, затрепещут крыльями ржавые орлы на башнях, понесётся конка под балконом. Но ничего этого не будет, потому что месяц назад во время аварии лопнули соединительные шланги, пошло трещинами железо, не выдержав холода, а потом новый накопитель, выписанный из Германии, не прибыл вовремя.
А если бы прибыл, успел, то прыгнул в лодочку, прижав к себе сына — будь что будет.
Сын спал, тонко сопел в своей кровати. На стуле висела аккуратно сложенная рубашка с красной звездой на груди и новая, похожая на испанскую, прямоугольная пилотка.
Сегодня был майский праздник — и через два часа мальчик побежит к школе. Там их соберут вместе, и в одной колонне с пионерами они пройдут мимо могил и вождей. Мальчик будет идти под рокот барабана, и жалко отдавать эти часы площади и вождям — но ничего не поделаешь.
Нужно притвориться, что всё идёт как прежде, что ничего не случилось.
Академик смотрел на сына, и понимал, как он беззащитен. Все стареющие мужчины боятся за своих детей, и особенно боятся, если дети поздние. Жена Академика грустно посмотрела на него с портрета. Огромный портрет, с неснятым чёрным прочерком крепа через угол, висел напротив детской кровати — чтобы мальчик запомнил лицо матери.
А теперь жена смотрела на Академика — ты всё сделал правильно, даже если ты не успел главного, то всё остальное ты счислил верно. Я всегда верила в тебя, ты всё рассчитал, и получил верный ответ. А уж время его проверит — и не нам спорить с временем.
Звенел с бульвара первый трамвай. День гремел, шумел — и международная солидарность входила в него колонной работниц с фабрики Розы Люксембург.
«Вот интересно, — думал Академик. — Первым в моём институте забрали немца по фамилии Люксембург». Немец был политэмигрантом, приехавшим в страну всего четыре года назад. Учёный он был неважный, но оказался чрезвычайно аккуратен в работе, и стал хорошим экспериментатором.
Затем арестовали поляка Минковского — он бежал из Львова в двадцатом. Минковского Академик не любил и подозревал, что тот писал доносы. И вот, неделю назад взяли обоих его ассистентов — мальчика из еврейского местечка, которого Революция вывела в люди, научила писать буквы слева направо, а формулы — в столбик. Второй ассистент был из китайцев, особой породы китайцев с Дальнего Востока, но был какой-то пробел в его жизни, который даже Академику был неизвестен. Но Академик знал, что если он попросит китайца снять Луну с неба, то на следующий день обнаружит на крыше лебёдку, а через два дня во дворе института сезонники будут пилить спутник Земли двуручными пилами.
Академик дружил с завхозом — они оба тонко чуяли запах горелого, а завхоз к тому же был когда-то белым офицером. Он больше других горевал, когда эксперимент не удался — Академику казалось, что он, угрожая наганом, захватит установку, и умчится на ней в прошлое, чтобы застрелить будущего вождя.
Как-то ночью они сидели вдвоём в пустом институте, рассуждая об истреблении тиранов — завхоз показал Академику этот наган.
— Если что, я ведь живым не дамся, — сказал весело завхоз.
— Толку-то? Тебе мальчишек этих не жалко, — сказал Академик. Они были в одной лодке, и стесняться было нечего.
— Жалко, конечно. — Завхоз спрятал наган. — Но промеж нашего стада должен быть один бешеный баран, который укусит волка. А то меня выведут в расход — и как бы ни за что. Я человек одинокий, по мне не заплачут, за меня не умучат.
У завхоза была своя правда, а у Академика своя. Но оба они знали, когда придёт их час — совсем не бараньим чутьём. Завхоз чувствовал его, как затравленный волк угадывает движение охотника, а Академик вычислил своё время, как математическую задачу. Он учился складывать время, вычитать время, уминать его и засовывать в пробирки все последние двадцать лет.
Вчера домработница была отпущена к родным на три дня, и Академик сам стал готовить завтрак на двоих — с той же тщательностью, c какой работал в лаборатории с жидким гелием. Сын уже встал, и в ванной жалобно журчал ручеёк воды.
Мальчик был испуган, он старался не спрашивать ничего — ни того, отчего нужно ехать к родственникам в Псков, ни того, отчего грелись изразцы печки в кабинете уже вторую неделю.
На груди у сына горела красная матерчатая звезда. Академик подумал, что ещё усилие — и в центр этой пентаграммы начнут помещать какого-нибудь нового Бафомета.
Пентаграммы в этом мире были повсюду — чего уж тут удивляться.
— Как ты помнишь, мне придётся уехать. Надолго. Очень надолго. Ты будешь жить у Киры Алексеевны. Кира Алексеевна тебя любит. И я тебя очень люблю.
Слова падали как капли после дождя — медленно и мерно. «Ты пока не знаешь, как я тебя люблю, — подумал Академик, — и может, даже не узнаешь никогда. Пока время не повернёт вспять».
Мальчик ушёл, хлопнула дверь, но звонок через минуту зазвонил вновь.
Это приехала псковская тётка — толстая неунывающая, по-прежнему крестившаяся на церкви, не боясь ничего. Тётка понимала, зачем её позвали.
Она, болтая, паковала вещи мальчика, рассовывала по потайным карманам деньги — всё то, что не было упаковано Академиком. Тётка рассказывала про своего родственника Сашу, лётчика. Все думали, что он арестован, а оказалось, что он в Испании. Она рассказывала об этом, как бы утешая, давая надежду, но Академик поверил вдруг, что она говорит правду — отчего нет?
Серебристые двухмоторные бомбардировщики разгружались над франкистскими аэродромами Севильи и Ла-Таблады, летчики дрались над Харамой и Гвадалахарой. Отчего нет?
У сына в комнате висела истыканная флажками карта Пиренеев — и там крохотные красные самолётики зависали над базой вражеского флота в Пальма-де-Мальорка — и из воды торчала, накренившись, половина синего корабля.
Почему бы и нет? Саня жив, а потом вернётся и в майский день выйдет из Кремля с красным орденом на груди — отчего нет?
Тётка говорила об Испании, и чёрная тарелка репродуктора, захлёбываясь праздничными поздравлениями, тоже говорила об Испании — у них подорвался на мине фашистский дредноут «Эспанья», а у нас — праздник, вся Советская земля уже проснулась, и вышла на парад, по площади Красной проходят орудья и танки. Ещё два советских человека взметнули руки над Парижем — это улучшенные советские люди, потому что они сделаны из лучшей стали. И вот теперь они стоят посреди Парижа, на территории международной ярмарки в день международной солидарности, взмахнув пролетарским молотом и колхозным серпом.
Время текло вокруг Академика, время было неостановимо и непреклонно, как гигантский молот с серпом, а его машина времени была наполовину разобрана, и будет теперь умирать по частям, чертежи её истлеют, и он сам, скорее всего, исчезнет.
Всё пропало, если, конечно, скульптор не сдержит слова.
Мальчик уже пришёл с демонстрации, и затравленно глядел из угла, сидя на фанерном чемодане.
— Вы всё-таки не креститесь у нас тут так истово. Всё-таки Безбожная пятилетка завершена. — Академик не стал провожать их на вокзал и прощался в дверях, чтобы не тратить время у таксомотора.
Тётка только скривилась:
— Да у нас, как денег на ворошиловских стрелков соберут, на каждом доме такую бесовскую звезду вывешивают, что прям как не живи — все казни египетские нарисованы. Ты мне ещё безбожника Емельяна припомни.
Мальчик втянул голову в плечи, но, не сдержавшись, улыбнулся.
Но как долго не рвалась ниточка расставания, всё закончилось — и квартира опустела. Академик ступил в гулкую пустоту — без мальчика, она стала огромной. Он отделял привычные вещи от себя, заставляя себя забыть их.
Многие вещи, впрочем, уже покинули дом. Самое дорогое он подарил скульптору — тот был в фаворе, а всё оттого, что ещё в ту пору, когда на углах стояли городовые, скульптор вылепил гипсового Маркса, а потом рисовал вождей с натуры.
И когда Академик понял, куда идёт стрелка его часов, то пришёл к скульптору и изложил свой план. Сохранить установку можно было только в чертежах, но чертёжи смертны.
Они должны быть на виду, и одновременно — быть укромными и тайными.
— Помнишь, как Маша читала вслух Эдгара По? Тогда, в Поленове? Помнишь, да? — Академик тогда волновался, он не был уверен в согласии скульптора. — Так вот, помнишь историю про спрятанное письмо, что лежало на виду? Оно лежало на виду, и поэтому, именно поэтому было спрятано. Мне нужно спрятать чертёж так, чтобы кто-то другой мог продолжить дело, вытащить этот меч из камня, и заменить меня. Понимаешь, Георгий, понимаешь?
Скульптор был болен, кашлял в платок, сплёвывал и ничего не говорил, но лист с принципиальной схемой взял.
Академик одевался стоя у вешалки, и досада сковывала движения — но вдруг он увидел в углу прихожей скульптора аккуратный маленький чемоданчик. Чемоданчик ждал несчастья, он был похож на похоронного агента, что топчется в прихожей ещё живого, но уже умирающего человека — среди сострадательных родственников и разочарованных врачей.
И тогда Академик поверил в то, что скульптор сделает всё правильно.
А теперь он, сидя в пустой квартире, проверил содержимое уже своего чемоданчика — сверху лежала приличная готовальня и логарифмическая линейка. «У меня всего двое друзей — повторил он про себя, переиначивая, примеряя на себя старое изречение о его стране. — У меня всего два друга — циркуль и логарифмическая линейка».
А за окнами стоял гвалт. Там остановился гусеничный тягач «Коминтерн» с огромной пушкой, и весёлая толпа обсуждала достоинства поломанного механизма. Но вот откуда-то подошёл второй тягач, что-то исправили, и, окутавшись сизым дымом, техника исчезла.
Шум на улицах становился сильней. Зафырчали машины, заняли место демонстрантов, кипела жизнь, город гремел песнями, наваливаясь на него, в грохоте и воплях автомобильных клаксонов. Грохотал трамвай, звенело что-то в нём, как в музыкальной шкатулке с соскочившей пружиной.
Майское тепло заливало улицы, текла река с красными флажками, растекалась по садам и бульварам.
Репродуктор висел прямо у подъезда Академика, и марши наполняли комнаты.
Вечерело — праздник бился в окна, спать Академику не хотелось, и было обидно проводить хоть часть последнего дня с закрытыми окнами. Да и прохлада бодрила.
Веселье шло в домах, стонала гармонь — а по асфальту били тонкие каблучки туфель-лодочек. Пары влюблённых брели прочь, сходились и расходились, а Академик курил на балконе.
— Эй, товарищ! — окликнули его снизу. — Эй! Что не поёшь? Погляди, народ пляшет, вся страна пляшет…
Какой-то пьяный грозил ему снизу пальцем. Академик помахал ему рукой и ушёл в комнаты.
Праздник кончался. Город, так любимый Академиком, уснул.
Только в темноте жутко закричала не то ночная птица, не то маневровый паровоз с далёкого Киевского вокзала.
Гулко над ночной рекой ударили куранты, сперва перебрав в пальцах глухую мелодию, будто домработница — ложки после мытья.
Академик задремал и проснулся от гула лифта. Он подождал ещё, и понял, что это не к нему.
Он медленно, со вкусом, поел и стал ждать — и, правда, ещё через час в дверь гулко стукнули. Не спрашивая ничего, Академик открыл дверь.
Обыск прошёл споро и быстро, клевал носом дворник, суетились военные, а Академик отдыхал. Теперь от него ничего не зависело. Ничего-ничего.
У него особо и не искали, кинули в мешок книги с нескольких полок, какие-то рукописи (бессмысленные черновики давно вышедшей книги), и все вышли в тусклый двадцативаттный свет подъезда.
Усатый, что шёл спереди был бодр и свеж. Он насвистывал что-то бравурное.
— Я люблю марши, — сказал он, отвечая на незаданный вопрос товарища. — В них молодость нашей страны. А страна у нас непобедимая.
Машина с потушенными фарами уютно приняла в себя Академика — он был щупл и легко влез между двумя широкоплечими военными на заднее сиденье.
Но поворачивая на широкую улицу, машина вдруг остановилась. Вокруг чего-то невидимого ковырялись рабочие с ломами.
— Что там? — спросил усатый.
— Провалилась мостовая, — ответил из темноты рабочий. — Только в объезд.
Никто не стал спорить. Чёрный автомобиль, фыркнув мотором, развернулся и въехал в переулок. Свет фар обмахнул дома вокруг и упёрся в арку. Сжатый с обоих сторон габардиновыми гимнастёрками Академик увидел в этот момент самое важное.
Точно над аркой висела на стене свежая, к празднику установленная, гипсовая пентаграмма Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Над вьющейся лентой со словами «Крепи оборону СССР», Академик увидел до боли знакомую — но только ему — картину.
Большой баллон охладительной установки, кольца центрифуги вокруг схемы, раскинутые в стороны руки накопителя. Пропеллер указывал место испарителя, а колосья — витые трубы его, Академика, родной установки.
Разобранная и уничтоженная машина времени жила на тысячах гипсовых слепков. Машина времени крутила пропеллером и оборонялась винтовкой. Всё продолжалось, — и Академик, счастливо улыбаясь, закрыл глаза, испугав своей детской радостью конвой.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
01 мая 2015
(обратно)
Радиостанция им. Коминтерна (День радио. 7 мая) (2015-05-07)

Странник вошёл в деревню в воскресенье, в тот момент, когда её обитатели шли из церкви.
Церковь была далеко, на взгорке, и разделяла её с деревней топкая болотистая низина.
«Вот и не поймёшь, деревня у нас или село», — говорили мужики, но быстро остывали к такой абстрактной материи, как административное деление.
Деления и вычитания у них и так хватало на год после Революции пятый.
Бог прятался от них по углам, и кажется, лишь поглядывал на окрестности с колокольни, ни во что не вмешиваясь.
Одним словом, ходило в церковь всё меньше и меньше народу, к тому же на краю жидкой грязи стоял комбедовец Трошка и считал всех проходящих, выставляя в своей бумажке палочки.
Комитеты бедноты давно отменили, но посланные в город сообщали об этом как-то неуверенно.
Так и остался Трошка властью. Да все тут были власть, хотя, если с другой стороны посмотреть, то никакой власти вовсе и не было.
Власть здесь была природная — как болота покроются ледком, так надо теплее одеваться, а как болота оттают, и забулькает в них весенняя жизнь, так надо раздеваться.
Жители ходили взад-вперёд по деревянному тротуару, потому что пока не грянут морозы, течёт между домами жидкий суглинок. А как грянут морозы, поедет мироед Прохор по зимнику в уезд, да вернётся с запасом и ещё съездит, да снова — потому что запас нужен на полгода. Животину режь зимой, репу храни до весны, самогон прячь от Трошки. Летом работай, зимой спи побольше. Вот и все указания от неутомимой природной силы.
И вот в деревню пришёл странник.
Был он одет в старую студенческую шинель, фуражку с дыркой в околыше, а за спиной тащил что-то угловатое в брезентовом мешке.
Дойдя до местных жителей, странник поклонился да спросил, кто даст ему кров.
Крестьяне молчали. Весенний ветер шевелил волосы местных жителей, а странник смотрел на них весело и добродушно, но не трогался с места. Оттого все хорошо успели рассмотреть и его кучерявую бороду, и потёртую шинель, и фуражку с дыркой в околыше.
Наконец, вышла из толпы Аксинья-вдовица и увела странника к себе.
Событий в этой жизни не было вовсе, оттого в каждой избе мужья с жёнами вместо того, чтобы тискать друг друга, обсуждали странника. Аксинью обсуждать было нечего, не было доподлинно известно даже, вдовица ли она, ибо не было у неё официальной бумаги с печатью о смерти мужа, а только на ярманке кто-то говорил, что убили его ещё в пятнадцатом году на войне.
Наутро пошёл к ней в избу комбедовец Трошка проверить у пришельца документ, да тот отвёл ему глаза. Долго держал Трошка перед лицом какую-то квитанцию, но потом честно признался, что читать-то он не умеет. И зачем признался — непонятно, никому в деревне он не признавался, всё выворачивался, а тут выболтал чужому человеку. Но гость всё равно усадил его за стол, стал чаем поить, да ещё с колотым городским сахаром.
Бабы, даже замужние, завидовали Аксинье-вдовице, да та от всего отпиралась. Отвечала, что и думать рядом со странником ни о чём срамном не может.
Но была у странника тайна — мешок с непонятным предметом.
На второй день прохожий человек кинул на крышу Аксинье-вдовице какую-то проволоку, а другую воткнул в землю. И появился из мешка некий предмет, блеснул стёклышком, показал деревянные бока и встал на столе у вдовицы.
То был ящик полированного дерева.
Впрочем, те, кто подсматривал в мутное окошко чужой избы, говорили, что ящик совсем неказистый, дерево изрядно поцарапано, да и полировка облезла. Бывалые люди, что видели граммофон, говорили, что это непременно шарманка, а те, кто был на ярманке и видал шарманку, наоборот, утверждали, что это граммофон.
Аксинья-вдовица ходила по деревне с превращённым лицом. Она всем говорила, что в ящике у гостя ангелы поют. А как услышишь ангелов, то вся жизнь опрокидывается в довоенную. На глазах слёзы, а в сердце сладость, и будто нет никакой беды и все ещё живы. Никто ей не верил, и тогда она стала водить к себе соседей.
Странник сидел за столом чисто вымытый, перед ним, гордо, как свадебный пирог, стоял ящик с проводами, и всякому желающему странник давал круглую штуку на проводе, чтобы приложить к уху.
И точно, бабы слышали, как, сквозь треск и вой, к ним доходят голоса ангелов.
А то и вовсе, доходил до них говор сгинувших куда-то мужей, которых унесла нелёгкая, да так и не вернула. Мужья неловко оправдывались и врали.
За бабами пришли мальчишки, а этим совсем было всё равно, что слушать. Они и самому треску были рады, вырывали друг у друга штуковину, вопили так, что если кто б мог что услышать, так не услышал бы.
Пришёл даже мироед Прохор. Пришёл он, зажав в кармане полтинник новых денег — на всякий случай, если с него потребуют платы за откровение. Но странник платы не взял и дал Прохору послушать волшебный ящик просто так. Сведения, видимо, оказались неутешительными, и Прохор ходил мрачный, как осенняя туча.
Пошёл слух, что ящик у странника особый, предсказательный, и теперь всяк норовил зайти к Аксинье-вдовице. И действительно, спрашивали ящик разное, а потом прижимали чёрную штуковину к уху и ждали указаний. В обратную сторону кому пели, кому говорили, а некоторые, пропащие, и вовсе оставались без ответа. Таких странник утешал и объяснял, что в большом знании есть большая печаль.
Стал странник главным человеком в деревне, и даже батюшка спустился с холма и пришёл к нему, вернее, к его ящику. Аксинья-вдовица потом шептала, что батюшка узнал что-то страшное и плакал на груди у странника, а тот утешал его долго, будто отец утешает сына. А что он узнал — то никому было неведомо, только видели все, как батюшка день за днём молится в пустой церкви.
Но вот комбедовец Трошка никаких ангелов не услышал.
В круглой штуке, что он прижал к уху, был заключён высокий тонкий голос, который сказал Трошке, что борьба ещё не кончена. Что трудящимся ещё предстоит пройти долгой дорогой страданий, и ещё ничто не решено до конца. И что должен Трошка бояться головокружения от успехов, а от перелома он сам и погибнет. А потом голос сообщил Трошке, что говорила с ним радиостанция имени Коминтерна.
Трошка потребовал объяснений. Человек в студенческой шинели объяснял, что это детекторный приёмник, работающий далёкой силой. Слов таких председатель комбеда не знал, но всё равно потребовал объяснить, что внутри ящика. Когда ж ему сказали, что внутри катушка, ползунок и конденсатор, он собрался плюнуть на чистый Аксиньин пол. Когда же студенческий человек сказал, что там, внутри, колебательный контур, то председатель комбеда понял, что странник окончательно издевается над ним и новой властью вообще.
«Коли… Коли… …а тельный… Ну, и это самое потом — ишь, матерится, что царский офицер», — но не отступился Трошка от странника и спросил:
— А вот скажи тогда, дорогой товарищ, отчего неграмотные бабы вместо революции у тебя ангелов слышат?
Тот отвечал, что кому что надо, тот и слышит, таковы общие свойства мироздания.
Ответ этот очень не понравился к Трошке.
Через пару дней его сын Павлик в утренней темноте прокрался к Аксиньиному дому и тихо стукнул в окошко. Из избы, почёсываясь, вышел странник.
— Дяденька, — сказал Павлик, — батя мой за чекистами в город побёг. Спасайтесь, дяденька.
Странник потрепал Павлика по голове и, порылся в кармане и достал оттуда конфету. После этого он потянулся и, не заходя обратно в избу, зашуршал кустами, чавкнул ботинками по грязи и пропал.
Из города днём действительно приехали два человека в кожаных пальто и матрос в бушлате. Были они злы, потому что дорожная глина покрыла их полностью. Ругаясь, они прошли в Аксиньину избу и обнаружили лишь деревянный ящик на столе.
Один из них достал перочинный нож и поддел крышку. Отскочила, покатилась, жужжа, прочь какая-то круглая ручка.
Городской заглянул внутрь.
— Да что ты, Трофим, нам головы морочишь? Какой это тебе контрреволюционный приёмник? Это и не приёмник вовсе — вот тут внутри тряпки рваной кусок, тут обёртка от конфет, а тут и вовсе камешек! Всё паутиной заросло! Эту коробочку с мусором год не открывали! Какая тебе радиостанция имени Коминтерна, дурень? Она в Москве, за много длинных километров, у нас её слышать никак не можно!
И старший из тех городских треснул Трошку по затылку.
А матрос прибавил, что из этого мусора приёмник, как корабль из песка, как крейсер посреди болота, и приход светлого будущего с такими помощниками, как Трифон.
Павлик смотрел на это сквозь прежнее мутное окошко Аксиньиной избы и жевал конфету. Её он разделил на две части — одну съел тотчас, потому что в жизни можно всего лишиться сразу и откладывать ничего нельзя, а вторую спрятал, потому что никогда не известно, как обернётся завтрашний день, и всякая вещь может пригодиться.
Так ему велел голос из деревянного ящика.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
07 мая 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-05-08)

Много лет назад, в 1920 году, Виктор Шкловский написал свой короткий текст «Самоваром по гвоздям».
Это пара страничек на насущную тему — об агитации и пропаганде. Шкловский ещё не знает, что будет бегать от чекистов по льду Финского залива, а эта заметка впервые выйдет не в Петрограде, а в Берлине — в книге «Ход коня».
Шкловский начинает с того, что говорит: «Если взять самовар за ножки, то им можно вбивать гвозди, но это не его прямое назначение».
Самоваром у него является само искусство, а забивание гвоздей — сиюминутная задача пропаганды.
Шкловский и пишет о том (поводом был революционный концерт с революционными стихами и музыкой), что коли использовать искусство для утилитарной пропаганды, то мы не только получим не-искусство, но и пропагандистские гвозди будут забиты криво.
Он пишет о том, что «Агитация, разлитая в воздухе, агитация, которой пропитана вода в Неве, перестает ощущаться. Создается прививка против нее, какой-то иммунитет. <…> Во имя агитации уберите агитацию из искусства».
В черновике это выглядит ещё жёстче: «Если заклеить стены плакатами, напечатать стихи на продовольственной карточке, набить стихи «Интернационалом», оттиснуть его на носовых платках, то организм так приспособится, что не увидит и не услышит ничего.
Ни одно живое существо не может жить в своих выделениях, на этом основана прививка; не может жить в атмосфере тысячекратного повторения молитва, не может жить и «Интернационал».
Во имя пропаганды уменьшите её.
Оставьте не записанными стихами облака и воду. Давайте на фронте воевать, в книгах и газетах говорить о революции, и не будем заказывать никому революционного искусства.
Все равно еще ни разу в мире не было Рождества раньше Благовещения».
В 1920 году этот призыв был искренен.
Строился новый мир, и многие думали, что он, построенный наново, можно сделать правильным — и в сути, и во всех деталях.
А теперь понятно, что унылое заколачивание гвоздей, предметами куда более тонкими, чем молоток — это свойство не Советской власти, а людей вообще.
Оттого и происходит всё это безумство на девятый день мая, праздник святой, но пропаганда, что твой царь Мидас наоборот — из любого золота может сделать известно что.
В наследство от прошлого у нас остался настоящий самовар. Это, впрочем, тут символизирует не искусство, а отношение к минувшей большой войне, как к большой общественной беде, которую всё-таки всем миром превозмогли.
Это особый самовар, у которого грелись семьями, и в воздухе витала память не об индийском чае, а о морковном.
И вот этим чувством, этими тонкими боками медной памяти сейчас колотят по гвоздям.
Вмятины остаются на личном отношении к большой беде и большому счастью. А это то немногое, что вынесено из дома при пожаре — икон под рукой не было.
А память об этой войне должна уйти с площадей — на кухни, во дворы, на лавочки и на кладбища. Прочь-прочь, дураки-дизайнеры, что за немалую копеечку поздравляют ветеранов немецкими танками, прочь-прочь, казённые праздники, прочь-прочь, попил казны.
Ничего не надо — нужно только уйти в частное, личное пространство.
Это пространство не уединённое, во дворе из самовара пить чай можно, это по площади таскать его неудобно.
При этом я наблюдаю большие самоварные войны — потому что много людей раздражаются оттого, что другие множества людей празднуют не то и не так, как им хотелось.
Я вот не из таких — моё только дело предупредить, что самовар портится и может вовсе прийти в негодность.
Ведь и сам я праздники люблю — меня хлебом не кормят, зато дают праздновать вволю.
В своём черновике почти вековой давности Шкловский говорит много современных вещей — о том, как накопали грядки для нового пропагандистского искусства и обильно полили их деньгами. А вышло не искусство, а какая-то дрянь. Взошло такое, что и разобрать нельзя: арбуз — не арбуз, тыква — не тыква, огурец — не огурец…
чорт знает, что такое!
Так писал другой классик.
А Шкловский говорил: «Лучше завернуть в стихи селёдку, чем втягивать их в политику».
Нет, я вот лично не против любых форм — но на свои деньги. На личные. Как только оказалось бы, что георгиевскую (а правильнее — гвардейскую) ленточку нужно купить за тыщу, к примеру, рублей — в пользу стариков, так оказалось бы, поди, что гвардейских цветов сильно поубавилось. Как плакаты бы для себя рисовали, так, наверное, человечнее бы вышло. Как люди начинают не из-под палки что-то делать, а за свои, так всё как-то лучше выходит.
Время меж тем, растворяет всё — эмоциональный накал спадает по третьему поколению. За убитого деда и сожжённую бабку сердце болит. За прадедов и их родителей больно уже меньше — так цинично устроен человек.
Убитых Наполеоном уважают, но относятся к ним отстранённо.
Или остранённо.
Скоро отдавать самовар детям — он и так-то выглядит архаичным, а уж если будет дырявым, то станет совсем грустно.
А так-то праздник хороший.
Извините, если кого обидел.
08 мая 2015
(обратно)
Вкус глухаря (День Победы, 9 мая) (2015-05-09)

— А я люблю майские праздники, — сказал бывший егерь Евсюков, стараясь удержать руль. — Они хорошие такие, бестолковые. Вроде как второй отпуск.
— Лучше б этот отпуск был пораньше. Ездил бы я с вами на вальдшнепов, если бы раньше… — Сидоров всегда спорил с Евсюковым, но место своё знал.
Бывший егерь Евсюков был авторитетом, символом рассудительности. И я знал, как Сидоров охотится весной — в апреле он выезжал на тягу. Ночью он ехал до нужного места, а потом вставал на опушке. Лес просыпался, бурчал талой водой, движением соков внутри деревьев. Через некоторое время слышались выстрелы таких же, как Сидоров, сонных охотников. Выстрелы приближались и, наконец, Сидоров, как и все, палил в серое рассветное небо из двух стволов, доставал фляжку, отхлёбывал — и ехал обратно.
Евсюков знал всё это и издевался над Сидоровым — они были как два клоуна, работающие в паре. Я любил их, оттого и приехал через две границы — не за охотничьим трофеем, а за человечьим теплом.
И сейчас мы тряслись в жестяной коробке евсюковского автомобиля, всё больше убеждаясь, что в России нет дорог, а существуют только направления. Мы ехали в новое место, к невнятным мне людям, с неопределёнными перспективами. Майский сезон короток — от Первомая до Дня Победы. Хлопнет со стуком форточка охотхозяйства, стукнет в раму — и нет тебе ничего — ни тетерева, ни вальдшнепа. Сплошной глухарь. Да и глухаря, впрочем, уже и нет. Хоть у Евсюкова там друг, а закон суров и вертится, как дышло.
Вдруг Евсюков притормозил. На дороге стояли крепкие ребята на фоне облитого грязью джипа.
— Куда едем? — подуло из окна. — Что у вас, ребята, в рюкзаках?
— А вы сами — кто будете? — миролюбиво спросил Евсюков, но я пожалел, что ружья наши далеко, да лежат разобраны — согласно проклятым правилам.
— Хозяева, — улыбаясь, сказал второй, что стоял подальше от машины. — Мы всего тут хозяева — того, что на земле лежит, и того, что под землёй. И не любим, когда чужие наше добро трогают. Так зачем едем?
— В гости едем, к Ивану Палычу, — ответил Евсюков.
Что-то треснуло в воздухе, как сломанная ветка, что-то сместилось, будто фигуры на порванной фотографии — мы остались на месте, а проверяющие отшатнулись.
Слова уже не бились в окна, а шелестели. Извинит-т-те… П-потревожили, ошибоч-чка… Меня предупредили, что удивляться не надо — но как не удивиться.
Евсюков, не отвечая, тронул мягко, машина клюнула в рытвину, выправилась и повернула направо.
— Я думаю, Палыч браткам когда-то отстрелил что-то ненужное? — Сидоров имел вид бодрый, но в глазах ещё жил испуг.
— Палыч — человек великий, — сказал Евсюков. — Он до такого дела не унижается. У него браконьер просто сгинул бы с концами. Тут как-то одна ударная армия со всем нужным и ненужным сгинула… Нет, тут что-то другое.
— А я бы не остановился. Вот у хохлов президент враз гайцов-то отменил, а уж тут-то останавливаться — только на неприятности нарываться.
— Ну, ты и дурак. Не хочешь нарваться на неприятности, нарвёшься на пулю. И президентами не меряйся — подожди новой весны.
Деревня, где жил лесной человек Иван Палыч, была пуста. Десяток пустых домов торчал вразнобой, чернел дырками выбитых окон, а на краю, как сторожевая башня, врос в землю трактор «Беларусь». В кабине трактора жила какая-то большая птица, что при нашем приближении заколотилась внутри, потеряла несколько перьев и, так и не взлетев, побежала по земле в сторону.
Иван Палыч сидел на лавочке рядом с колодцем. Он оказался человеком без возраста — так и не скажешь, сорок лет ему, шестьдесят или вовсе — сто. Рядом с ним (почти в той же позе) сидел большой вислоухий пёс.
Мы выпали из автомобиля и пошли к хозяину медленно и с достоинством.
Когда суп был сварен, а привезённое — розлито, Сидоров рассказал о дорожном приключении.
Иван Палыч только горестно вздохнул:
— Да, есть такое дело. Много разных людей на свете, только не все хорошие. Но вы не бойтесь, если что — на меня сошлитесь.
— Так и сослались. С большим успехом. А что парубкам надо?
— Этим-то? А они пасут местных, что в здешних болотах стволы собирают.
— С войны? Да стволы-то ржа съела?
— Какие съела, а какие нет. Да и кроме ружья военный человек кое-что ещё носит — кольцо обручальное, крестик серебряный, если его Советская власть не отобрала, ну там ордена немудрящие.
— Ты бы вот орден купил?
— Я бы, может, и не купил.
— А люгер-пистолет?
Я задумался. Пока я думал мучительную мужскую думу о пистолете, Иван Палыч рассказал, что братки раскопали немецкое кладбище и долго торговались с каким-то заграничным комитетом, продавая задорого солдатские жетоны.
— Пришлось ребятам к ним зайти, и теперь они смирные — только вот к приезжим пристают, — заключил Иван Палыч.
Мои спутники переглянулись и посмотрели на меня.
— Вова, ты Иван Палыча во всём слушайся, ладно? — сказал Евсюков ласково. — Он, если что, попросит тебя, тогда сделать надо без вопросов. А?
Но я понял всё и так — вот царь и бог, а моё дело слушаться.
До вечера я остался один и уничтожил двенадцать жестяных банок, чтобы привыкнуть к чужому ружью (своё не потащишь через новые границы), а потом готовил обед, пока троица шастала по лесам. А на следующий день мы разделились, и Иван Палыч повёл меня через гать к глухариному току.
Называлось это вечерний подслух.
Глухари подлетали один за другим и заводили средь веток свою странную однообразную песню. Будто врачи-вредители собрались на консилиум и приговаривают вокруг больного — тэ-кс, те-кс! Но один за другим глухари уснули, и мы тихо ушли.
— Слышь — хрюкают? Это молодые, которые петь не умеют. Хоть песня в два колена, а всё равно учиться надо. С ними — самое сложное, они от собственных песен не глохнут.
Мы обновили шалаш, и, отойдя достаточно далеко, запалили костерок. Иван Палыч долго курил, глядя на огонь, а я стремительно заснул на своём коврике, завернувшись в спальник.
Я проснулся быстро — от чужого разговора. У костра сидел, спиной ко мне, пожилой человек в ватнике. Из треугольной дыры торчал белый клок.
— Да я Империалистическую войну ещё помню — уж я так налютовался, что потом двадцать лет отходил.
Ну, заливает дед, — я даже восхитился. Но Иван Палыч поддакивал, разговор у них шёл свой, и я решил не вылезать на свет.
— Так не нашёл, значит, моих? — спросил пожилой.
— Какое там, Семён Николаевич, — деревни-то даже нет. Разъехался по городам народ — укрупнили-позабыли.
— Хорошо хоть не раскулачили, — вздохнул пожилой. — Ну, мне пора. Значит, завтра придёшь?
Палыч глянул на часы:
— Теперь уж сегодня.
С утра мы били глухарей — под песню, чтобы не спугнуть остальных. Сидоров с Евсюковым играли с глухарями в «Море волнуется раз, море волнуется — два» и, подбираясь к ним, точно били под крыло. Пять легли на своём ристалище, не успев пожениться. Один был матёрым, старым бойцом, остальные были налиты силой молодости.
Сидоров и Евсюков сноровисто потащили добычу к дому, а Палыч поманил меня пальцем.
— Тут мы одного человека навестим. Поможешь.
Я промолчал, потому что уж знал — какого. Но отчего Иван Палыч темнит — понять не мог. Ну, перекусим у соседа, может, он поразговорчивее будет, чем Иван Палыч.
В полдень мы подъехали к лесному озеру, и, найдя потопленную лодку, переправились на дальнюю сторону… Я, тяжело дыша, шёл по тропе за Иван Палычем, а он бормотал:
— Мелеет озеро. Раньше вода во-о-он где стояла. А теперь, как в раковину утянуло. Всё, пришли.
Я недоумённо озирался. Ни дома, ни палатки я не увидел. Где ждал нас другой егерь — было совершенно непонятно.
— Ты перекури пока, у меня тут дело деликатное… — Иван Палыч сел на колени и погладил землю. — Тут он.
Старый егерь достал сапёрную лопатку и начал окапывать неприметное место. Работать пришлось долго — ручей намыл целый холм песка. Потом я сменил Ивана Павловича, уже догадываясь, что я увижу. И вот, ещё через минуту на меня глянул жёлтый череп — глянул искоса. Семён Николаевич лежал на животе, и череп упирался отсутствующим носом в корневище. Он косил глазницами в сторону, будто говорил мне — а знаешь, каково здесь лежать? Знаешь, как грустно?
Мы расстелили большой кусок полиэтилена и сложили Семёна Николаевича поверх него.
— А ружья нет? — спросил я.
— Откуда у него ружьё? Не было у него ружья.
Оказалось, что Семён Николаевич умер не от пули, а замёрз. И замерзая, не мог простить себе, что заплутал и отстал от своих. Если бы он умирал на людях, то отдал бы живым шкурку от сала и кусок сахара. А так — всё было напрасно и глупо. Оттого Семён Николаевич умер с крестьянской обидой в душе.
Мы вернулись к лодке.
Иван Палыч подмигнул мне и сказал:
— Сегодня перевоз бесплатный.
Он отпихивался шестом, и вода гулко билась в борт. Ну да, думал я, сегодня перевоз бесплатный — и куда тут положить монетку — на глаза, за щеку? Некуда её класть — и везёт русский лесной Харон задарма. А я, бесплатный помощник перевозчика, заезжий гусь, везу на коленях русского солдата — не то с того света на этот, не то — обратно.
Машина тряслась по лесной дороге, а Семён Николаевич, постукивая, ворочался на заднем сиденье. Казалось, он ворочался во сне.
— Иван Палыч, — спросил я, — а как же с немцами?
— А что, немцы не люди? Один вон пролежал всё время с немцем в обнимку — они как схватились врукопашную, так и полегли. Вот ты, если бы пролежал с кем в обнимку шестьдесят лет — сохранил бы ту же ненависть?
Так и попросили хоронить — вместе. Сложно всё, Вовка. Вот был один лётчик, так он барсуков ненавидел. Его барсуки объели. Ну и что? Я говорю — что тебе барсуки? Так не слушал, он этих барсуков больше немцев ненавидел. Тут трезвую голову надо иметь и не лезть со своими представлениями в чужой мир.
Вот в прошлом году приехал к нам ваш приятель Вася Голованов — встретил по ошибке каких-то немецких танкистов да от страха всё напутал. В мёртвые дела лучше не вмешиваться, если к этому не готов.
Лучше крестом обмахнуться — благо у нас теперь всякий со свечкой стоит, как телевидение в церковь приедет. Перекрестись и постанови, что не было ничего, видимость одна больная, и самогон у Ивана Палыча дурно вышел в этот раз.
Евсюков и Сидоров уже ждали нас у брошенного кладбища. Издали они были похожи на удвоенного могильщика-философа, взятого напрокат у Шекспира.
Мы закопали Семёна Николаевича и, расстелив брезент у могилы, принялись пить.
— Только русские жрут на кладбище, — сказал бывший егерь Евсюков с куском сала в зубах. — Я вот японцев на Пасху в лес вывозил. Они как увидели, как наши с колбасой и салатами к родственникам прутся, так у них всё косоглазие исправилось. Сразу зенки стали круглые, как блюдца…
Сидоров жевал тихо, только выдохнул после первой:
— А самогон у тебя, Иван Палыч, ха-р-роший вышел…
Я молчал. Во мне жила обида — они всё знали. А я не знал. Они глядели на меня как на дурака и испытывали.
— Ты не печалься, Вова, — сказал Евсюков — всё правильно.
Стелился дым дешёвых сигарет, сердце рвалось из груди от спирта и светлой тоски.
— Хорошо ему теперь? — спросил я.
— Кому сейчас хорошо? — философски спросил Сидоров. — Семён Николаевич — крестьянин был от Бога. Ему плохо было, что внуков не нянчил, что семья руки рабочие потеряла. Он не воин был, а соль земли.
Это воинам сладко в бою умереть. Знаешь, как сладко за Родину умереть? Не стоять из последних сил у станка, за годом год, не с голода пухнуть, на себе пахать. Это славно помереть — ты здесь, они там, тут враг, а тут свои, всё ясно и чётко. Не будешь в очереди за пенсией стоять, и дети на тебя не будут смотреть криво. Не погонят тебя, маразматика, вон. А на людях погибнуть за общее дело — вроде избавления.
Я слушал Сидорова и верил каждому слову.
Сидорова расстреляли лет десять назад. Он лежал раненый на асфальте привокзальной площади в чужом южном городе. Он был ранен и тупо смотрел в серое зимнее небо. Тогда к нему подошли и выстрелили несколько раз — а потом пошли к другим. Одна пуля попала в рожок от автомата, что был спрятан у него под бушлатом, а другая пробила его насквозь, вырыв неглубокую ямку в асфальте — он прожил ещё до вечера, пока его по случайности не нашёл сослуживец и не вытащил на себе.
Сидорова долго лечили, а потом погнали из армии как инвалида.
Он долго собирал себя по частям, как дракон собирает разрубленное рыцарем тело. Потом он начал класть полы в небедных домах, вставлять немецкие окна и крепить в этих домах итальянскую сантехнику. Иногда ему казалось, что хозяева этих домов — те самые, кто недострелил его тогда, в первый день Нового года, и поэтому я знал, что со смертью у Сидорова свои отношения. Для него там никакого бы Ивана Павловича не нашлось.
Поэтому я представил своего деда, что сгорел в воздухе — я представил, как он засыпает, и хрипят в наушниках голоса его товарищей. Дед, наверное, не слышал этих голосов, когда небо крутилось вокруг него, а земля приближалась, увеличивая дымы и рытвины окопов.
Но деда похоронили на Кубани, я видел его имя на бетонном обелиске. С ним всё произошло правильным образом.
— Пошли глухаря-то есть, — прервал эти размышления Евсюков.
Мы сели вокруг котла на улице. Стол был крив, да и мысли были непрямы.
Помянули Семёна Николаевича, а после третьей и вовсе пошло легче.
— В старом глухаре есть что-то от кабана, — сказал Сидоров. — В том смысле, жёсткий. Он как кабан.
— А мне нравится, он ёлкой пахнет. Смолой, то есть… — Евсюков хлебал своё жирное и красное варево. — Ты ешь, ешь, Вова — я тоже сначала в сомнении был, а сейчас ко всему привык. Главное, людей любить надо — а живых или мёртвых — дело второе.
— А что у нас с властью — ну там менты разные? Что военком?
— Да ничего военком — мужик он хороший, да бестолковый. Ему выписали денег под праздники, он старикам наручные часы накупил, да тем дела и закончил. Он про меня знает, не мешает и не вмешивается — я бы сказал, грамотно поступает.
Что нам, нужно, чтобы привезли пять первогодков для того, чтобы они три раза пальнули над могилой? Нам не надо, и Семёну Николаевичу не надо. Наше дело скромное, тихое. Мы по душе дела улаживаем.
Календарь с треском рвался на пути от первых майских праздников ко вторым.
Наконец, мы двинулись в обратный путь и взяли с собой Ивана Павловича — до города. Там ждали его дела и какие-то, нам неизвестные, родственники. Ночь катилась к рассвету — и круглая фара луны освещала наш путь. Закрыв глаза, я думал о том, что леса наших стран полны людей, не доживших свои жизни. И земли вдоль великих рек полны воинов, превратившихся в цветы. Пройдёт век, народы сольются — и ненависть сотрётся. Этой ночью мёртвые спят в холодной земле Испании, проспят и холодные зимы, пока с ними спит земля, и будут просыпаться, когда придёт майское тепло. Они спят на Востоке, под степным ковылём, со своими истлевшими кожаными щитами, зажав рёбрами наконечники чужих стрел. И пока они спят, беспокойно и тревожно, то думают, что их войны ещё не кончились.
И золотоордынцы с истлевшими усами, чернявые генуэзцы, русские и литовцы спят вповалку, потому что никто не знает места, где они порезали и порубили друг друга.
И в глубине морей, растворившись в солёной воде, их разъединённые молекулы только дремлют, пока кто-то не простился с ними по-настоящему…
Вдруг Евсюков резко затормозил — все отчего-то сохранили равновесие, один я больно ударился головой. На мгновение я подумал, что нас провожают чёрные копатели — точно так же, как и встречали.
Но жизнь, как всегда, была твёрже.
Прямо на нас по безлюдной дороге надвигалась тёмная масса.
Чёрный немецкий танк, визжа ржавыми гусеницами, ехал по русской земле. И сквозь броню на башне, дрожа, светила какая-то звезда.
Часть дульного тормоза была сколота, но танк всё же имел грозный вид.
Фыркнув, он встал, не доехав до нас метров десять.
Из верхнего люка сначала вылез один, а потом, по очереди, ещё три танкиста.
Они построились слева от гусеницы. Мы тоже вышли, встав по обе стороны от «Нивы».
Старший, безрукий мальчик в чёрной форме, старательно печатая шаг, подошёл к Ивану Павловичу, безошибочно выбрав его среди нас.
— Господин младший сержант! Лейтенант Отто Бранд, пятьсот второй тяжёлый танковый батальон вермахта. Следую с экипажем домой, не могу вырваться, прошу указаний.
— А почему четверо? — хмуро спросил Палыч. Лейтенант вытянулся ещё больше — он тянулся, как тень от столба. Но тени у него, собственно, не было. Только пустой рукав бился на ночном ветру.
— Пятый — выжил, господин младший сержант.
— Понял. Дайте карту.
В свете фар они наклонились над картой. Экипаж не изменил строя, и молча глядел на своих и чужих.
Танк дрожал беззвучно, но пахло от него не соляром, а тиной и тоской.
— Всё, — Палыч распрямился. — Валите. И держите Полярную звезду справа, конечно.
Лейтенант козырнул, и немцы полезли на броню.
Танк просел назад и дёрнул хоботом. Моторная часть окуталась белым, похожим на туман, дымом, и танк, уходя вправо, начал набирать скорость.
Евсюков выкинул свой окурок, а Палыч свой аккуратно забычковал и спрятал в карман.
— Что смотришь-то? Это, видать, головановские. — сказал Палыч. — Нечего им тут болтаться, непорядок. Пора им домой. И так бывает, да.
— Давай-давай, — дёрнул меня за рукав Евсюков, сам, кажется, не очень уверенно себя чувствовавший.
Но наша «Нива» закашляла и заглохла. Мы долго и муторно заводили её, и сумели продолжить путь только на рассвете, когда сквозь сосны пробило розовым и жёлтым.
— Сегодня — День Победы, — сказал я невпопад.
— Ты не говори так, — сказал Евсюков. — Мы так не говорим. — Завтра у нас будет 9 мая. У нас Дня Победы нет, потому как война кончается только тогда, когда похоронен последний солдат.
— А, почитай, пока у нас никакой Победы и нет, — подытожил Иван Палыч. — Но водки сегодня выпьем несомненно, что ж не выпить?
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
09 мая 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-05-15)

Только что мне перепоказали фильм Хуциева «Июльский дождь».
С ним, с этим фильмом, очень интересная история.
Часто говорят, что современного зрителя в нём стали захватывать не сюжет, а съёмки Москвы шестидесятых годов прошлого века, ставшие антикварными.
Исчезнувшие улицы и дома, причудливые магазины и киоски, другие люди.
Но только ещё интереснее в этой картине 1966 года, что она послесловие к фильму «Застава Ильича» (1964).
Про «Заставу Ильича» (и её вариант 1965 года «Мне двадцать лет») написано довольно много, история «Июльского дождя» описана куда скромнее, хотя его сравнивают с французской «Новой волной», и вообще много с чем сравнивают. Нет, довольно хорошо известно, что после выхода фильма в газете «Советская культура» было напечатано «Открытое письмо к режиссёру Марлену Хуциеву», где картину ругали — не так, конечно, как ругали картины лет за пятнадцать до этого, но всё же ругали в стиле «установочной статьи».
То есть, с последующими оргвыводами и прочими неприятностями.
Герои нетипичны, фильм растянутый и унылый, ну и «Слабость и <…> мелочность драматургии сценария вы пытались скрыть режиссерскими изысками».
При этом драматургия в фильме как раз очень интересна и сложна.
То есть, я вовсе не хочу всю эту конструкцию защищать — теперь уже непонятно от кого и перед кем, а только хочу сказать, что чрезвычайно интересно, как это всё сделано. Как склеен этот многослойный пирог, что там происходит, и как передаётся от кадра к кадру действие.
Дело в том, что это как бы последний фильм «оттепели» (в соревновании за этот титул участвует много картин, но, тем не менее, «Июльский дождь» — самая известная).
Среди прочего, в фильме все мотивы повторены — история одной любви оттенена историей другой любви, телефонной. Одни персонажи — другими.
И наконец, Хуциев там показывает две сцены посиделок — одни, как мы бы сказали недавно, в «хипстерской» квартире, где гости сидят на тахте и поют под гитару на кухне; и второй — где часть тех же персонажей приехала на шашлыки в лес.
Они приехали туда на машинах, а это знак немаловажный — для того, конечно, времени.
И понятно, что в первой сцене хипстеры хоть и бестолковы, но искренни. А вот потом они, сдавшиеся судьбе, но накормленные, сидят у костра и перспектив у них нет. Только уверенность в завтрашнем дне.
Бард, что пел на кухне, в лесу петь не может — он там, удивительным образом, как птичка в клетке (метафора).
У этого костра они играют в «пти жё», аналог того, что описано Достоевским в известном романе, только вспоминают они не самый гадкий поступок, а самый страшный.
И режиссёр со сценаристом делают знак: «Вот посмотрите, эти новые люди в компании, успешные, со своими заграничными командировками, считают самым страшным событием своей жизни, что у них сломалась машина по дороге на дипломатический приём».
И тут же это побивается гитарным человеком, который, когда до него до него доходит очередь рассказывать, сообщает: «Однажды я пролежал четыре дня в кустах зарослях сирени. Только было одно маленькое неудобство — кругом были их танки, а впереди — наше минное поле. А сирень была крупная, вот такие грозди болтались в прицеле. С тех пор я не люблю запах сирени. А заодно и черёмухи».
Ну и зрителю становится понятно, что бард-фронтовик своей духовностью побивает всех этих дипломатов и успешных учёных.
Под конец этого фильма Визбор обнимается с однополчанами у колонн Большого театра, а мимо в толпе протискивается героиня. На пиджаке у Визбора орден Боевого Красного Знамени, и понятно, что вот он — арбитр правды и всего прочего.
У Хуциева в фильмах эта тема фронтовика, как арбитра всего была постоянной — от «Заставы Ильича» до довольно схематичного «Послесловия», где бездуховный зять стоит против возвышенного старика, в прошлом военного врача.
Но тут, мне кажется, общее свойство всей стилистики шестидесятников, если и есть святое, то это война, и отсыл идёт не к пресловутым «ленинским нормам», а к «фронтовым нормам», к тем людям, которым в середине шестидесятых было совсем немного лет — чуть больше сорока.
Это были очень деятельные люди, многие из которых не только стали начальниками, но бегали за девками и вообще были не чужды всякой жизни. Их авторитет не был съеден, рассказы о сирени близ минного поля не могли ещё показаться пошлостью — это рассказывалось наперво, это было рядом и ощутимо.
Но герои «Июльского дождя» (и это очень хорошо видно) сдавались времени.
А время — вещь даже более безжалостная, чем чужие танки.
«ZOO, или Письма не о любви» Виктора Шкловского кончаются одной историей (в советских переизданиях её часто опускали) — Шкловский пишет:
«Я поднимаю руку и сдаюсь.
Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж <…>
Не повторяйте одной старой эрзерумской истории: при взятии этой крепости друг мой Зданевич ехал по дороге.
По обеим сторонам пути лежали зарубленные аскеры. У всех них сабельные удары пришлись на правую руку и в голову.
Друг мой спросил:
“Почему у всех них удар пришелся в руку и голову?”
Ему ответили:
“Очень просто, аскеры, сдаваясь, всегда поднимают правую руку”».
Суть в том, что эти шестидесятнические конструкции как бы говорили: «Я поднимаю руку и сдаюсь».
Да только спасу им не было.
Более того, теперь пафос барда в лесу проходит гораздо более жестокую проверку.
А Москва в этом фильме и правда красивая, чего уж там.
Извините, если кого обидел.
15 мая 2015
(обратно)
Дом у моря (День музейного работника. 18 мая) (2015-05-18)

В старом доме что-то скрипело, и оттого даже сейчас, ночью, он казался обитаемым.
Меж тем уже ушли все — и смотрительницы, и музейный сторож, и рабочие, что копали рядом несколько траншей по неясной коммунальной надобности.
Мы сидели у каменной стены музея за широким столом, застеленным газетами.
Вино жило отдельной жизнью под столом — в огромной бутыли. В ней оно плескалось, будто странный, прирученный нами зверь.
— Плохо, что мы сидим тут без женщин, — сказал Ваня, — мужчины без женщин склонны напиваться, а вот женщины, даже чужие, заставляют мужчин держаться в рамках.
— Не в том дело, при женщинах, даже чужих, мужчины стараются выглядеть лучше, чем обычно. Это инстинкт. А у моря — в особенности.
Мы сидели, слушая скрип внутри дома, давно ставшего музеем.
— Ты хотел бы жить у моря? — спросил меня Ваня.
— Во всё время, кроме летнего. Только я ведь не всегда — бездельник. Может, я устроюсь на работу.
Я сказал это с некоторой долей неуверенности, и Ваня, почувствовав моё страдание, не стал меня мучить и перевёл разговор на другое.
— Удивительное дело — я встречаю всё больше мужчин, что кокетничают своим возрастом, не уменьшая, а увеличивая его.
— Это те, кому нужно купить пиво и сигареты? — съязвил я.
— Не, среди этого возраста как раз убавление — перед контролёрами и кассирами. А вот среди сорокапятилетних — сплошь и рядом «я стар, но зато могу пять раз за ночь». То есть, можно упирать на «пять раз», но этот типаж упирает на «я стар, но».
— Мужчины часто врут перед другими мужчинами. Пять, шесть, какая разница… Особенно здесь, на юге.
— Это была метафора упрощения. Я слышал варианты типа «Я пожил, видел старый мир, но в этом году обогнул земной шар на яхте». «Я застал Хрущёва, но снимаю молоденьких чувих». «Мне много лет, но какой у меня байк… Байк, а не лимузин» — с упором на то, что они совершили подвиг, преодолевая свой (в общем-то, небольшой) возраст.
— «Я пожил, видел старый мир», — сказал молоденькой вампир.
— «Вампиры Кунцево, вампиры Свиблово и вампиры фабрики Ногина»…
— Всё это — разговор о бессмертии.
Мы помолчали, потому что действительно хотели говорить о бессмертии. А бессмертна лишь поэзия. Даже дома смертны, не квартиры, а именно дома, такие, какие хотели мы для себя как-нибудь построить.
— Знаешь, — сказал Ваня, — самые интересные дома — это мастерские. То место, где человек не просто живёт, а работает. Ну там кузница, горн, железяки там всякие висят. Или у скульптора — дюжина голов-бюстов, на каком-нибудь памятнике хозяйская шляпа, на каменном начальнике пиджак вместо вешалки висит.
— А у математика что?
— У математика то же самое. Запах формул, будто запах шахмат. Видел дом главного ракетного конструктора в Москве? Очень впечатляет. Или вот баня, в которой советские писатели жили посреди рязанских лесов? Баню видел? Да что с тобой говорить?!..
В доме опять заскрипело, а потом и вовсе хлопнула какая-то дверь.
К нам приближались шаги, видимо кто-то из сотрудников вылез из своего закутка и решил на нас поглядеть.
Это был молодой человек в старомодном пенсне.
— Прислушался к вашему разговору, простите.
— Да ничего, — отвечал Ваня, — это ведь такой летний стиль: шум моря, вино, беседы о высоком. Мы тут вежливые гости. Не сорим, не кричим, помогаем, если что. Причём беседы наши идут в переменном составе. Один наш товарищ как раз уехал, а правильное количество для разговора — это три человека. Про это всяк может в Писании прочитать.
— То, что чтите Писание — это хорошо. А то, знаете, в семнадцатом году зашёл в трамвай один революционный матрос и стал проповедовать на новый манер: и Бога у него нигде нет, и на войне этот матрос его не видал, и в мирной жизни не обнаружил.
И тут какая-то старушка как брякнет: «Да рылом ты не вышел, чтобы Бога-то видать!». Так все и сели.
Со вкусом рассказал эту историю наш собеседник, будто очевидец, а не прилежный читатель чьих-то мемуаров.
— А, стесняюсь спросить, — вдруг произнёс человек в пенсне отчего-то свистящим шёпотом. — А как вы относитесь к Советской власти?
— В смысле? Как кончилась, так я к ней стал лучше относиться. Так-то я вообще монархист.
— Монархист? Это прекрасно.
— Ну, прекрасно — не прекрасно, а кого на царство звать — непонятно.
— Как кого?!
— Да вот так, — зло сказал Ваня. — Некого. Вопрос о монархии показывает нам, какая каша находится в головах наших соотечественников. История царей в России ведётся с Ивана IV, имеет массу традиций — от того, что только в России царь имел право зайти за алтарь, до сложных проблем престолонаследия.
Наш собеседник закивал, а Ваня продолжил:
— Беда в том, что представления о монархии спутаны как мочала.
Я и сам не большой любитель демократической формы правления и склонен к монархизму, но отдаю себе отчёт, что видов монархии — множество. Есть монархии декоративные, есть монаршьи дворы, ставшие чем-то вроде зоопарка в большом городе, которым принято умиляться, есть честные африканские цари, что едят подданных на завтрак не в переносном, а прямом смысле.
Современный обыватель в это старается не вникать — хороший царь для него что-то вроде барина, что приедет и всех рассудит, но непременно — в его, обывателя пользу. Поэтому нечто идеальное заключено в образе Александра III: бородатый, похож на медведя, крепок телом и любитель выпить, у страны передышка между потрясениями, викторианская Россия, одним словом…
Тут наш гость как-то занервничал.
— Но, следуя этой картине, мы должны ожидать, что вскоре услышим цокот копыт по Тверской и боярин Михалков, в привычной себе роли Государя, проследует для уже настоящей коронации в Успенский собор.
А в этом сразу видна некоторая неловкость.
С неловкости очень сложно начинать доверительное правление. (А в отсутствие оного нет смысла звать кого-то на царство — разве как каторжные герои Достоевского, что делали что-то себе во вред, ради только перемены участи). К тому же, в условиях равноправных религий, сама идея царской власти сомнительна. Светских царей не бывает. Миропомазание сообщает монарху некоторую долю святости, шутить с этим не стоит. Шутить имеет смысл над собой — над тем смешным и скорбным обстоятельством, что мы не можем, оглядевшись вокруг, назвать имя человека, чей авторитет и строй жизни не показался бы смешным в сочетании с короной из Алмазного фонда.
— Да, — закручинился наш собеседник. — Государя императора убили. И Гумилёва расстреляли.
— Так и Мандельштама…
— Мандельштама?! — вскинулся наш гость.
Я никогда не любил этих начётчиков, что прекрасно знают, каким образом кого убили, кто сам умер, а чья жизнь истончилась неведомым образом, и начинают поправлять ошибки.
— С Мандельштамом ничего не понятно, — примирительно сказал я.
— Хорошо, что непонятно, а то я тревожился, — вдруг успокоился гость.
— Так вот, настоящий дом должен быть у моряков, у путешественников — в общем, тех людей, что проводят много времени вдали от него. К примеру — лётчики и моряки. Вот они — настоящие поэты.
— Не всякие моряки, — не согласился Ваня. — Представь себе подводников. Запах немытых тел, тусклый свет ламп и общая печаль. Какие там стихи?
— Ну, отчего же? — вступился за жителей глубин человек в пенсне. — Я знавал одного немца-подводника, который писал стихи. Может, если бы он летал на аэроплане или дирижабле, судьба бы его сложилась иначе. Но стихи были настоящие — несмотря на запахи внутри лодки.
— Ну да. Волчья стая Дёница?
— Кого? Дёница? Впрочем, это неважно. Поэзия прорастает везде. Даже при красных.
— Что об этом говорить, когда Советская власть кончилась.
— Кончилась, думаете? — Он всё же был как-то в этом неуверен.
— Ну, если вы это в экзистенциальном смысле… Ну, в философском смысле не кончилась. Хотите об этом поговорить?
— Нет, благодарю.
Гость поклонился и ступил в рассвет, как в набегающую волну.
— Мы очень политизированы, — печально сказал Ваня, глядя ему вслед. — А ведь он говорил важные вещи. Дом должен жить после того, как его хозяин умер. Если в доме остался хозяйский дух, то ничего по сути не изменится. А самые живые дома у поэтов… Или у художников — потому что они одновременно мастерские. Наверное, у кукольных мастеров ещё такие. Повсюду должны лежать инструменты, и дом должен хранить всё то, что попрятал ушедший хозяин.
— Ты только представь себе, — хмыкнул я, — сколько попрятано скелетов в бетонных полах бандитских дач. И инструменты там сохранились. Такие, знаешь, универсальные инструменты. А вы живите в этом доме, и не рухнет дом — вот так.
Но стало уже совсем жарко, и мы разошлись — очистив стол для пришедших рабочих, что сразу начали выгибать на нём какую-то замысловатую трубу.
На следующий день мы снова уселись за наш стол. Всё было прежним — и скатерть из газет, и овощи — только вино было другим.
В доме что-то заскрипело, ухнуло. Мы не повели бровью. Этот дом, приютивший когда-то многих, заслуживал того, чтобы в нём остались звуки шагов и вздохи гостей.
Но мы увидели вполне живого человека.
К нам по лестнице спускался человек, удивительно напоминавший вчерашнего.
Только одет он был попроще: одет он был в украинскую вышиванку.
Мы переглянулись: как бы нам не начать долгий разговор о недружбе народов. Это очень неприятный разговор, потому как все нации равны, но все люди обидчивы.
Это, кажется, был один из работяг, что рыли в саду какую-то траншею.
Ваня всё равно помахал ему рукой, и человек в вышиванке подсел к нам за стол.
Он отказался от вина, но с удовольствием выпил водки.
Я присмотрелся — был этот рабочий вислоус и печален.
— А вот не ходит ли сейчас патруль по набережной? — спросил он.
— Патруль? Ну, может, и ходит. Но тебе-то что, ты не траву будешь продавать, — ответил я.
— Траву? Зачем траву? Сено, что ли? Нет… А документы не заставляют показывать?
Рабочий оказался совсем диким.
— У тебя, мил человек, паспорта, что ль, нет?
Наш собеседник закивал.
— Тут это беда небольшая, — сказал Ваня. — Наливай да пей. Не спросит у тебя никто ничего, не нужен ты никому — ни патрулю, ни Мирозданию.
— Я коммунист, — гордо сказал работяга.
— Все мы тут коммунисты, — одёрнул его я. — Ишь, расхвастался. Я был член партбюро части. За мораль отвечал, мне ещё жёны доносы писали: «Мой муж — сволочь, верните мне мужа».
На рабочего человека в вышиванке это произвело неизгладимое впечатление.
— А, как считаете, коммунизм победит?
— Да кто ж его знает? Вот, может, в Германии какой-то коммунизм победил, — хмуро сказал Ваня.
— И что теперь?
— Теперь ночь. Всех ожидает одна ночь.
Про коммунизм нам говорить не хотелось. Я, к примеру, испытывал к теме слишком большое уважение.
Я как-то стоял на венском кладбище вместе со стариками, что дрались с армией во время рабочего восстания в феврале тридцать четвёртого года. Теперь они стояли у могилы своих товарищей и пели знаменитую когда-то песню Эйснера «Заводы, вставайте».
Голоса у них были тихие, надтреснутые, а у одного вовсе хрипел у горла аппарат искусственной речи.
У них была своя правда, чего уж там.
А тут, у моря, за столом, где в стаканы вместо вина была налита расслабленность и благодушие, о классовой борьбе говорить не хотелось.
— Мы забыли про дома полярных лётчиков. Настоящих полярных лётчиков, — сказал я.
— Дом полярного лётчика — палатка во льдах. Или избушка метеостанции — там он стоит — в унтах и толстом свитере. Лётчик диктует радиограмму жене, а радист работает ключом, обливаясь слезами от чужой нежности.
— Голова его повязана бинтом — потому что он только совершил вынужденную посадку, спас самолёт, но себя не уберёг.
— Но жене он об этом не сообщает.
— Она догадается сама, когда он появится на пороге их дома — с орденом, привинченным к гимнастёрке. А в их доме на полу лежит шкура белого медведя, на стене вместо винтовки висит багор с погибшей шхуны, а также портреты погибших друзей Леваневского и Молокова.
— Молоков не погиб. Я помню всё про Молокова.
— Кто ж не помнит Молокова? Да тот тогда и не жил, кто не помнит. Я и Чухновского помню. А уж как я штурмана Аккуратова помню… Я как-то нарисовал сжатого льдами «Челюскина», а матушка моя снесла рисунок лётчику Ляпидевскому. Он передал мне привет. Он привет мне передал! Ощущение было, будто мне передали привет Ахилл или Гектор.
Но дело не в этом, настоящий дом полярного лётчика — лёд и стылая вода Главсевморпути.
— Знаешь, — сказал Ваня, — я думаю, что он и сейчас сидит.
— Кто сидит? Где?
— Хозяин. Сидит внутри своего дома, там же черт знает что внутри. Ход какой потайной, комнатка-пенал. Сидит, стихи пишет.
Поэты — люди бессмертные.
— Пушкин.
— Что Пушкин?
— Бессмертный. Не слушай, это всё глупости.
— Есенин, к примеру, жив. Пьянствует. Тексты для поп-звёд пишет и дерётся с их охраной, потому что они плохо их поют. Ты вот знаешь, кто пишет все эти песни? То-то, этого никто не знает? Кто видел этих людей? Никто не видел.
— А вот Заболоцкий, стал бы Заболоцкий писать для них? А?
— Писать, может, и не стал. А вот представь себе, сидит Заболоцкий на чужой даче, картошку сажает, потому что только на свою картошку можно надеяться в этой жизни, и вот подруливает к нему Утёсов и говорит…
— Утёсов, значит.
— Неважно, хоть Козин. И говорит: братан, дай я песню твою спою. И деньгами ему в нос тычет. Лагерное братство, то-сё. Я бы согласился, чё.
— Вот ты и не Заболоцкий, хотя, может, и согласился бы.
В доме что-то снова заскрипело.
Мы подождали ещё немного, но никто больше не появился.
Поэзия живёт дольше прочих искусств, вот что. Поэзия и есть искусство.
— Ты, Ваня, дистинкции не видишь.
— «Дистинкции не видишь» — это «рамсы попутал», — объяснил Ваня работяге, но он, кажется, не понял и занервничал.
Рабочий человек явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он засобирался — сборы заключались в том, что он незаметно (как он сам думал), стащил со стола наш хлеб и спрятал куда-то в складки своей рубахи.
— Да ладно вам, дорогой товарищ. Возьмите пакетик, — сказал добрый Ваня.
Рабочий ушёл, несколько раз споткнувшись о холмики вынутой из траншеи земли.
Ваня посмотрел ему вслед:
— Надеюсь, он доберётся до дома без проблем. Весь в пролежнях, и выглядит так, будто проспал лет сто. Надеюсь, ты не будешь говорить о преимуществах простого труда над поэзией.
Дом плыл в лучах восходящего солнца, которое пробивалось через листву живого навеса. Он дышал и поскрипывал, как парусный корабль, который только что снялся с якоря и покидает стоянку.
— Ах, друг мой, — сказал Ваня грустно, — квартира не может быть настоящим домом, наши бетонные пеналы взаимозаменяемы — посели в них поэта, он начнёт писать корпоративные гимны и рекламные слоганы. В квартире не бывает настоящего подвала, подполья, где можно прятаться от ареста. Где спрячешься от ареста? Нигде. Всё пропадёт и исчезнет, и дворники неясной восточной национальности вынесут прочь его книги. И ещё вынесут его дряхлый компьютер, на который никто не позарится. Я как-то видел веер дискет около мусорного бака — никто из проходивших школьников и не знал, что это такое. Наверное, никто не подозревал, что это можно засунуть в компьютер. А, может, там был гениальный роман.
Дом должен быть крепок, как шхуна, там должны быть гарпун, багры и винтовки. В нём должно пахнуть морем и странствиями.
— Ваня, дорогой Ваня, теперь существует целая индустрия по производству коттеджей со старинными фотографиями. Там лучшие ароматизаторы с запахом моря работают в автоматическом режиме — там всё уже есть.
— С поэзией сложнее. Поэзию сложно имитировать.
— Имитировать можно всё.
— Поэты живут вечно, как это сымитируешь? Никак. Поэты не покидают свои дома, вот в чём дело. Поэты по ночам двигают книги в своих библиотеках, скрипят половицами, звенят бокалами в буфете. Вот купит человек коттедж — и кто будет ему скрипеть половицами? Да никто. И гонимых там не спрячешь — разве что подельника, хотя боюсь, подельника хозяин просто прикопает под клумбой.
Стало припекать, хотя было ещё утро.
Нужно было идти, пока не пришли сотрудники.
Впрочем, и они тут были гости, как и мы. Хозяин был где-то неподалёку, и, обернувшись напоследок, я бросил взгляд в окошко на верхнем этаже. Но Ваня, тащивший опустевшую бутыль, пихнул меня в спину: «Давай, мол, не задерживай, спать пора».
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
18 мая 2015
(обратно)
Диалог CDXL (2015-05-21)
— Я за платную парковку внутри Садового, да.
— Внутри Садового?! Она внутри Третьего давно, Карл! Внутри Третьего! У меня, Карл!
— Я за только внутри садового, Карл.
— А, ну, хорошо, Карл. А то я уж думал, Карл, что за — и внутри Третьего. А так — ничего, Карл. Ты, кстати, заметил, что все «бля» в речи можно отлично заменить на «Карл»?
— Тут Степа как-то гениально заметил, что лишние запятые — это «бля».
— Дядя? Карл! Ну, ему положено такое подмечать, Карл!
Извините, если кого обидел.
21 мая 2015
(обратно)
Экзамен по русскому (День славянской письменности. 24 мая) (2015-05-24)
![]()
src="/i/30/701830/_85356_original.jpg">
Поезд пересёк границу города, и за окном мелькнули огромные фортификационные сооружения, оставшиеся ещё с давних водяных войн во время Эпидемии.
Мальчик прилип к окну, наблюдая за горящими на солнце куполами и белыми свечами колоколен. Купола двигались медленно, поезд втягивался под мерцающую огнями даже в дневном свете надпись «Добро пожаловать! Привет репатриантам!»
Мальчику даже захотелось заплакать, когда в поезде вдруг заиграл встречный марш, и все купе наполнились ликующими звуками. Он оглянулся на родителей — отец был торжественен и строг. Мать не плакала, лишь глаза её были красными. Видно было, что для неё, русской по крови, это была не просто репатриация, а возвращение.
Они прошли санитарный контроль и получили из рук пограничника временные разрешения на проживание. До этого у мальчика никогда не было документов — этот кружок с микрочипом был первым (не считая прошения о сдаче экзаменов с трёхмерной фотографией, на которой он вышел жалким и затравленным зверьком).
Их поселили в просторном общежитии, где семья потратила немало времени, чтобы разобраться с хитроумной сантехникой. Родители притихли: казалось, они сразу устали от впечатлений, а мальчика, наоборот, трясло от возбуждения.
До экзамена были ещё сутки, и он пошёл гулять.
Прямо у общежития был разбит большой сквер с памятником посередине. Мальчик чуть было не спросил у пробегающего мимо сверстника, кому это памятник, но сам вдруг узнал фигуру. Это был памятник Розенталю. Это был человек-легенда, человек-символ.
Именем Розенталя его последователи-ученики вернули в свои права русский язык, и портреты Розенталя висели в каждой школе города. Книги Розенталя члены запрещённого Московского лингвистического кружка хранили как священные реликвии, а теперь первоиздания лежали под музейным стеклом.
Розенталь был равновелик Кириллу и Мефодию — те дали миру волшебные буквы, а Розенталь утвердил учение о норме языка и его правилах.
Норма — вот что принёс Розенталь в страну победившего русского языка.
Его портрет присутствовал даже в степной глуши, где жил мальчик. В русской миссионерской школе, стоявшей на вершине одного из курганов, сквозняк трепал портрет Розенталя. Портрет был вырезан из журнала и прибит гвоздиком к стене класса. Человек с высоким лбом, колыхаясь на стене, будто кивал мальчику, а учительница в это время рассказывала, как члены лингвистического кружка устраивали демонстрации у Президентского дворца. И вот уже восставшие брали власть, а вот принимался новый закон о гражданстве. Начиналась новая эра — и отныне всякий, кто говорил по-русски, был русским.
Так в раскалённом котле междоусобиц рождалась новая нация.
Мало было говорить по-русски, нужно было говорить по-русски правильно. Чем правильнее ты говорил, тем лучшим русским ты был.
И если ты по-настоящему знал язык, то рано или поздно ты приходил на древнюю площадь древнего города, и там, под памятником Кириллу и Мефодию, тебя возводили в гражданство Третьего Рима. Не важно было, какой у тебя цвет кожи, стар ты или молод, богат или беден — если ты сдавал экзамен, то становился гражданином. Ты мог выучить язык в тюрьме или среди полярных скал, в полуразрушенных аудиториях Оксфорда или в собственном поместье — неважно, шанс был у всех.
Мальчик шёл по улицам города своей мечты — он пока ещё боялся пользоваться общественным транспортом. Здесь всё не было похоже на те места, где он родился. А там сейчас, наверное, вспоминают о них — в деревне около заглохших ключей, где дремлет вода. Старики пьют вино и играют в кости и с недоверием переговариваются об их затее. Погонщики-сарматы, сигналя почём зря, ведут через реку длинный и скучный обоз. В гавань, к развалинам порта, причаливают шхуны, неизвестно откуда и неизвестно зачем посетившие этот печальный берег.
Эти места — царство латиницы, хотя об этом знают те, кто научился читать. Старинные вывески с румынскими словами, смысл которых утерян, дребезжат на ветру, латинские буквы можно прочитать на номерах ржавых автомобилей, что вросли в землю на поросших травой улицах.
Мальчику рассказывали, что в те времена, когда с севера шли беженцы от Эпидемии, здесь было не протолкнуться, но он не очень верил в сказки стариков. Дедушка Эмиреску вообще говорил, что купил бабушку за корзину помидоров. Больную девушку просто спихнули с телеги ему под ноги…
Погружённый в детские воспоминания, мальчик вышел на площадь с обязательной статуей. Там он увидел стайку девочек — их наряды казались мальчику сказочными, словно платья фей. Девочки сговаривались о встрече, и он услышал, как одна, уже убегая, крикнула: «Под Дитмаром, в семь!..».
Мальчик догадался, что имеется в виду какой-то из бесчисленных памятников Розенталю, и неприятно поразился. Ему никогда не пришло бы в голову назвать великого Розенталя просто Дитмаром. Что это за фамильярность? Но он сразу же простил эти волшебные создания, потому что в этом городе всё должно быть прекрасным, а если ему кажется, что что-то не так, то, значит, он просто пока не разобрался.
После недолгих размышлений мальчик пошёл в музей — разумеется, в музей военной истории. Он не так удивился системам защиты периметра, что спасали город от внешней опасности, как тому, что в одном из залов увидел дробовой зенитный пулемёт, из которого расстреливали стаи птиц во время Эпидемии птичьего гриппа. Точно такой же пулемёт стоял на окраине их деревни — только разбитый и ржавый. Однажды дедушка Эмиреску залез на место стрелка и попытался дать залп, но один из ржавых кривых стволов разорвало, и дедушка навсегда приобрёл кличку «корноухий». Кличку дала бабушка, и, стоя посреди двора, подперев бока руками, долго кричала, объясняя деду незнакомое русское слово.
Мальчик шёл по пустым залам музея — здесь никого не интересовала консервированная война. Город жил своей хлопотливой жизнью, подрагивали стёкла от движения транспорта, и мальчик думал — что вот он здесь свой, этот город — его город.
Осталось только сдать экзамен.
К этому он готовился долгих два года. По вечерам после работы отец тоже читал книжки Розенталя, и мать вслед за ним обновляла свой русский, следуя учебникам из миссионерской школы.
Мальчик учил свод законов Розенталя наизусть. Память мгновенно вбирала в себя оттенки словоупотребления, грамматические правила и исключения, а мальчик только дивился прекрасной сложности этого языка. Мать улыбалась, когда он хвастался ей диктантами без единой ошибки.
Собственно, с диктанта и начинался экзамен на гражданство, а по сути — экзамен по русскому языку.
В документах просто писали «экзамен» — и сразу было понятно, о чём речь. В разрешении на трёхдневное пребывание было сказано «…для сдачи экзамена», и пограничники понимающе кивали головами.
Сначала диктант, через час — сочинение, и, наконец, на второй день — русский устный.
Ходили слухи, что в зависимости от результатов экзамена новым гражданам выписывают тайные отметки, ставят специальные баллы, которые потом определяют положение в обществе. Мальчик не верил слухам, да и что им было верить, когда во всех справочниках было написано, что оценок всего две — «сдал» и «не сдал».
Наутро они вместе отправились на экзамен. Взрослых пригласили в отдельный зал, и, на всякий случай, семья простилась до вечера.
Диктант оказался на удивление лёгким. Лоб мальчика даже покрылся мелкими бисеринами пота от усердия, когда он старательно выписывал буквы так, как они выглядели в старинных прописях — учительница в миссии предупреждала, что это необязательно, но ему хотелось доказать свою преданность языку.
Потом он выбрал тему сочинения — впрочем, выбор произошёл мгновенно. Ещё несколько месяцев назад, репетируя экзамен, он написал несколько десятков текстов, и теперь что-то из них можно было просто подогнать под объявленное.
Он решил писать об истории. «Отчего нашу Москву называют Третьим Римом», — горела надпись на табло в торце аудитории. Эта тема значилась последней и, стало быть, самой сложной.
И он принялся писать.
Хотя он тысячи раз представлял себе, как это будет, но всё же забыл про план и черновик и сразу принялся писать набело. Он представлял себе, как в далёком, ныне не существующем городе Пскове, в холодном мраке кельи Спасо-Елизаровского монастыря старец Филофей пишет письма Василию III.
Мальчик старательно вывел заученную давным-давно цитату: "Блюди и внемли, — благочестивый царь, что все христианские царства сошлись в твое единое, ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть. Уже твое христианское царство иным не останется".
Неведомая сила водила рукой мальчика, и на бумагу сами собой лились чеканные формулировки на настоящем имперском наречии — то есть, на правильном русском языке.
Каждый знающий русский язык чувствовал себя подданным этой империи, и Третий Рим незримо простирался за границы Периметра, за охранные сооружения первого и второго кольца. Его легионы стояли на Днепре и на Волге — среди лесов и пустынь, обезлюдевших после Эпидемии. Варвары, сидя в болотах и оврагах, в горах и долинах по краю этого мира, с завистью глядели на эту империю, частью которой готовился стать мальчик. Иногда варвары заманивали русские легионы в ловушки, и от этого рождались песни — про погибшую в горах центурию всё из того же Пскова и про битву с латинянами под Курском. Но чаще легионы огнём и мечом устанавливали порядок, обучая безъязыких истории.
Мальчик, шурша страницами умирающих книг, пытался сравнить себя — то с объевшимися мухоморов берсерками, то с теми римлянами, что пережили свой первый итальянский Рим и, недоумённо озираясь, разглядывали развалины, среди которых пасутся козы, и прочие следы былого величия. Он отличался от них одним — великим и могучим русским языком, что был сейчас пропуском в новую жизнь.
Семья встретилась у выхода и вместе вернулась домой. Отец был хмур и тревожен, а мать непривычно весела. Мальчик подумал, что им нелегко даётся экзамен. Сам он перед сном прочитал одну главу из Розенталя наугад, просто так — зная, что перед смертью не надышишься, а перед экзаменом не научишься, и быстро уснул.
В темноте он ещё слышал, как мать подходила к кровати и поправляла ему одеяло.
Сны были быстры и радостны, но, проснувшись, он тут же забыл их навсегда.
Устный экзамен был самым сложным — получив билет, мальчик понял, что два вопроса он знает отлично, один — про древнего академика Щербу и его глокую куздру — хорошо (он с ужасом понял, что не помнит, как ставить ударение в фамилии учёного, и решил подготовить речь, почти не упоминая этой фамилии). Это, собственно, было несложно: «Великий учёный предложил нам…»
Дальше ему выпал рассказ о сакраментальном «одеть» и «надеть» — знаменитый спор, приведший к расколу в рядах лингвистического кружка. За ним последовали битвы за букву «ё», окончившиеся высылкой, а затем и ликвидацией печально знаменитого оппортуниста Лейбова. Мальчик помнил несколько параграфов учебника, посвящённых этой необходимой тогда жестокости. Но возвращение идеального языка и должно было быть связанным с жертвами.
Дальше шло несколько практических задач — и вот среди них он затруднился с двумя. Это были задачи о согласовании в одной фразе и о правильном употреблении обращения «вы» — с прописной и строчных букв.
Определённо, он помнил это место у Розенталя, помнил даже фактуру бумаги, то, что внизу страницы была сноска, но вот полный список никак не возникал у него в памяти.
Он молился и всё был уже готов отдать за это знание, и вдруг оно выскочило словно чёртик из коробочки в старинной игрушке, что хранил дед Эмиреску в комоде.
Кто-то наверху, в небесной выси, принял его неназванную жертву, и ему не задали ни одного дополнительного вопроса.
Он разговаривал с экзаменаторами, поневоле наслаждаясь своим правильным, по-настоящему нормативным языком.
«Назонов» — старинной перьевой ручкой вписал секретарь его фамилию в какой-то специальный лист бумаги. Комиссия не скрывала, что экзамен он сдал — хотя такое полагалось объявлять только после ответа последнего экзаменующегося.
Он отправился шататься по улицам. Счастье билось где-то в районе горла, как пойманная птица, и было трудно дышать.
Мальчик даже не сразу нашёл общежитие — так преобразился город в его глазах. Солнце валилось за горизонт, и стоящий в розовых лучах памятник Розенталю, казалось, приветствовал мальчика.
Он рассказал отцу о своей победе, и отец, как оказалось, сдавший хуже, но тоже успешно, обнял его — кажется, второй раз в жизни. Первый был шесть лет назад, когда еле живого мальчика вытащили из Истра, уже вдосталь наглотавшегося стылой весенней воды.
Отец обнял его и сразу отстранился:
— Послушай, у нас проблема. Мама…
Мальчик не сразу понял — что могло быть с мамой?
— Она не прошла. Не сдала.
— К-как?!
Это было чувство обиды — случилось что-то несправедливое, и что теперь с этим делать?
— Почему?! Она мало учила? Она плохо выучила, да?
— Так вышло, сынок. Никто не виноват. Не обижай маму, она всё, всю жизнь отдала нам.
— А не надо было всё, зачем нам это всё? Надо, чтобы она была с нами, надо… — мальчик заплакал. — Это она виновата, она.
Отец молчал.
Наконец мальчик поднял глаза и спросил неуверенно:
— Что же теперь будет?
— Мы остаёмся тут, мы с тобой. Я говорил с мамой, и она считает, что мы должны остаться. У тебя очень хорошие перспективы. Тебе нельзя упускать этого шанса. Мама тоже так считает.
Мальчик стоял неподвижно, а мир вокруг него завертелся. Мир вращался всё быстрее и быстрее, точно так же, как мысли в голове. «Но ведь она же русская, русская, вот отец — молдаванин, и теперь их примут в гражданство, а она всегда была русская, её все в деревне так и звали «русская», и бабушку, когда она была маленькой, дразнили «русской», потому что она, купленная за помидоры, осела там с первой волной беженцев сразу после начала Эпидемии. А вот теперь мама не сдала экзамен, но ведь её обязательно надо принять. Ведь она своя, она русская — но металлический голос внутри его головы равнодушно отвечал «Она не сдала экзамен». Кому могла помешать его мать в этом городе, на их Родине?»…
Мальчик вошёл к маме. Нет, она не плакала, хотя глаза были красные. Но вот что неприятно поразило мальчика — её руки.
Мать не знала, куда деть руки. Они шевелились у неё на коленях, огромные, красные, с большими, чуть распухшими в суставах пальцами.
Он не мог отвести от них глаз и молчал.
А потом, так и не произнеся ни слова, ушёл в свою комнату.
На следующий день они провожали её на вокзале — разрешение на пребывание кончалось на закате. Счёт дней по заходу солнца был архаикой, сохранившейся со времён Московского Каганата, но он не противоречил законам о русском языке, и его оставили.
Теперь на вокзале уже не было лозунгов, не играла музыка, только лязгало и скрипело на дальних путях какое-то самостоятельно живущее железо, приподнимались и падали вниз лапы автоматических кранов.
Они как-то потеряли дар речи, в этот день русский язык покинул их, и семья общалась прикосновениями.
Мать зашла в пустой вагон, помотала головой в ответ на движение отца — «нет, нет, не заходите». Но отец всё же втащил в тамбур два баула с подарками — это были подарки, похожие на те, что мальчик находил в курганах рядом с мёртвыми кочевниками. Чтобы в долгом странствии по ту сторону мира им не было скучно, рядом с мертвецами, превратившимися в прах, лежали железные лошадки и оружие, посуда и кувшины. Мама уезжала, и подарки были не утешением, а скорбным напоминанием. Столько всего было недосказано, и не будет сказано никогда.
Мальчик понимал, что боль со временем будет только усиливаться, но что-то важное было уже навсегда решено. Потом он будет подыскивать оправдания, и, наверное, годы спустя, достигнет в этом совершенства — но это годы спустя, потом.
Поезд пискнул своей электронной начинкой, двери герметично закрылись и разделили отъезжающих и остающихся.
Выйдя из здания вокзала, отец и сын почувствовали нарастающее одиночество — они были одни в этом огромном пустом городе, как два подлежащих без сказуемого. Никто не думал о них, никто не знал о них ничего.
Только Дитмар Розенталь на вокзальной площади на всякий случай протягивал им со своего постамента бронзовую книгу.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
24 мая 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-05-25)

Он говорит: «Нам-то с вами это не актуально, но я всё же расскажу про сандалии. Оставим в стороне разницу между сандалиями и сандалетами, чёрт с ними, не в этом дело.
Я с молодости не мог понять, отчего сандалии нельзя было носить с носками. В детстве-то я видел, что все носят, и — ничего. То есть, нет, в моём детстве все только так и носили. Я не то, что с носками, на колготки эти сандалии надевал (вот тоже битва при этих глаголахе, как при Марафоне — скоро учёные люди эту разницу отменят, но я бы вот не стал — о чём говорить тогда, на что вскинуться образованному человеку, как суслику в степи, встать столбиком, засвистеть протяжно?.. Но я о носках — попробовал бы кто из нас, малолетних кандальников, эти сандалики на босу ногу надеть.
Но вот вопрос, который меня всегда мучил, — когда началась эта война модников против носков?
Что это за шибболет метросексуальный, выискивать людей в носках и сандалиях?
Где корни этой охоты на ведьм?
Где истоки?
Зачем?
По что?
Вот как-то спросили одного знатного чиновника по делам молодёжи, прямо в телевизоре спросили, откуда взялась эта вещь про носки с сандалиями?
Спросили оттого, что он запретил молодым людям их носить совместно и норовил отчислить из-за этого всякого из своего молодёжного лагеря.
Отвечал на это руководитель так:
— Есть вещи, которые человек должен чувствовать. Вот не нужно майку внутрь тренировочных штанов одевать или там надевать, если ты не Чак Норрис. Вот Чак Норрис может себе позволить себе рубашку одеть под ремень в джинсы. Но если твоя фамилия какая-то другая, то не надо этого делать. Я вообще на эту тему долго думал. Вот мужчине в трусах вообще не надо ходить. Ну, не надо, если он не на приеме у врача, может быть, на пляже. А у нас люди сидят на лекциях в трусах. На лекциях! Это означает, что у него нет мозга. Такие вещи люди просто должны чувствовать. И вот эта — одна из них. Я это давно почувствовал, и в свое время, еще на первом Селигере, когда я наблюдал этот ужас — вот такие сандалии, черные отвратительные сандалии (они на пляже обычно продаются турецкие, разваливающиеся), вот такой же черный отвратительный носок… Если один такой человек пройдет по форуму, форум можно закрывать. Любой профессор Стендфорда, любой уважающий себя человек, увидев такое в носках и сандалиях, может сразу развернуться и уехать. Значит, здесь что-то не так…
Вот как говорил чиновник, да правда, сразу после этой речи куда-то сгинул.
Победили его носки. Или сандалии победили — не знаю.
Я не диссидент, а циник. Если слало чуть прохладнее, но не настолько, чтобы надеть туфли — отчего нет? Мне в моём цинизме сложно поддаться общественному давлению.
Однако, одни мне говорили, что метросексуалы в этой войне показывают свою мужественность, дескать, не натрут нам сандалии ноги, как каким-нибудь неженкам. Другие же товарищи рядом увязывали проблему с необходимостью предъявить педикюр. Впрочем, достаточно толстый слой лака может снять необходимость использования как носков, так и самих сандалий.
Спрашивают так же: “Апостолы носили сандалии. Носили ли апостолы носки?” — на это мы отвечаем: “Наверняка! Холодны ночи в Галилее. И если бы Пётр носил, как все они, носки, не пришлось бы ему выходить к костру и отрекаться”.
Современные израильтяне уверяли, что по этому шибболету отличали неадаптировавшихся русских эмигрантов, стоящих в самом конце пищевой цепочки.
Но потом вышло, что по этому принципу можно опознать любую нацию.
Очевидно, что первым марафон пробежал человек в сандалиях.
Скажу иначе — бегать в сандалиях с перевязанными веревочками, сандалиях третьего срока, действительно не сахар. А вот новенькие сандалии отлично приспособлены для бега.
Вон, Меркурий, он же Гермес — толк понимал. По хозяйственной части служил. Так он в сандалиях не то что бегал — летал. Неизвестно, носил ли он носки, но мы знаем наверняка только то, что он не носил носки из синтетики. И это, я скажу, совершенно правильный выбор.
Маршал Жуков и вовсе носил портянки.
А воевал не хуже марафонцев.
Оказалось, что большинство европейских наций считает сандалоносочников неудачниками и растяпами, и именно по этой черте одежды отличает своих — немцев, французов, русских. Впрочем, говорит, и лоха-американца легко отличить именно по этому сочетанию.
Мне подсказывают, что Валентин Катаев в беллетризованных мемуарах “Трава забвения” описывал Бунина весьма примечательно: “Бунин был дачник столичный, изысканно-интеллигентный, в дорогих летних сандалиях, заграничных носках…” В аристократизме Бунина сомневаться как-то не принято, как и в интеллигентности его собеседников, которым было всё равно: “…на стуле и заложив ногу за ногу, он весьма светски беседовал с папой, одетым почти так же, как Бунин, с той лишь разницей, что холщовая вышитая рубаха отца была более просторна, застирана и подпоясана крученым шелковым поясом с махрами, а сандалии были рыночные, дешевые и надеты на босу ногу”.
Сдаётся мне, что сандалоносочное безумие в современной России было связано вот с чем — отцы моего поколения вполне себе никого не стесняясь, носили носки с сандалиями (если не работали в горячем цеху). А для человека в НИИ это было спасением от целого букета ножных болезней.
Потом пришла Перестройка и состарившиеся отцы из НИИ, со своими кульманами и ватманами, с учёными степенями и званиями стали синонимов лузеров.
Причём и в моём Отечестве, и в странах, куда многие работники рейсфедеров и рейсшин перебрались. Привычки они свои, конечно, не меняли. Именно поэтому нынешние сорокалетние с таким ужасом глядели на это сочетание. Пятнадцатилетним на всё наплевать — они знают, что можно носить всё со всем и видели в телевизоре не только молодёжного начальника, но и показы Живанши и Прада, где по подиуму рассекают модели в золочёных сандалиях и чёрных носках с искрой.
Я, кстати, с пониманием отношусь к людям, подозревающим носки с сандалиями в общественной опасности для обоняния. Я видал случаи, когда фраза “Наденьте же ботинки, и так дышать нечем!” была вполне уместной. Однако ж, с другой стороны, всяк может ощутить, как ужасна немытость голых ног в открытой обуви!
Меня тут стали уверять, что и мокасины нужно носить на босу ногу. Ну так про мокасины мне ничего неизвестно. Мокасины для меня что-то из джекалондона. Их надо с трудом стянуть с натруженных ног, предварительно срезав обледеневшие завязки. Я только знаю, что в тяжёлый час, в трудную годину, их нужно сварить и съесть, или просто съесть, как съел героический сержант Зиганшин — сапоги. Сначала гармонь, а потом — сапоги. Одним словом: “Когда я услыхал, как Калтус Джордж орет на перевале на своих собак, эти чертовы сиваши уже слопали мои мокасины, и рукавицы, и все ремни, и футляр от моего ножа, а кое-кто уже стал и на меня посматривать этакими голодными глазищами… понимаете, я ведь потолще их”.
Я как раз думал об обстоятельствах вкуса. И в связи с этим вспомнил какого-то малолетнего певца, эстрадную знаменитость, подростка, что принципиально вышел на сцену во фраке и белых кроссовках. Я рассуждал о нём вполне академически (певца этого я за человека не считал совершенно по иным причинам), и вот канва размышлений была такая: есть некий костюм, который, по сути, неразрывен, просто носится в несколько частей. Разрывать его нельзя, вроде как нельзя носить неверную, неуставную форму. И общественное раздражение как раз возникает, когда форма нарушена. Но сейчас в разные части и подразделения приказы спускаются несвоевременно. Одни по-прежнему ходят в
грачёвских аэродромах, другие уже нацепили каракулевые береты от Юдашкина. Где-то и вовсе ополоумевшего инспектора встречает часовой в будёновке. Интуитивно наблюдателя пугает генерал в полной форме и чешках, точно так же, как и концертный костюм с кроссовками. Такой генерал подобен бегущему по улице человеку его же звания — он сеет панику.
Но когда выясняется, что войны нет, то включается нормальная ксенофобия по признаку: “Нет, я ничего против не имею, у меня даже один друг носил носки с сандалиями, но всё-таки, лучше их всех, вместе со всей их обувью — в Дахау”.
Но придёт директива из Prada, что нужно носки под сандалии носить, пройдёт пара-тройка лет и все будут говорить, как в тридцатые и сороковые у них, и как в пятидесятые-шестидесятые у нас “Без носков? Фу…”
Люди стадны и мычат.
Уже пишут: “Носки с сандалиями, туфлями встречаются в свежих коллекциях Prada, Mark Jacobs, Ferragamo, Dior, Galliano, Dolce & Gabbana и других”, и я сразу верю. Всеми фибрами.
Пару лет назад даже журнал “Сноб” разрешил нам носить одновременно и то и другое.
А уж он-то ого-го.
Не забыть, ещё, кстати, купить сандалии. Носки у меня уже есть».
Извините, если кого обидел.
25 мая 2015
(обратно)
С минимальными потерями личного состава (День пограничника. 28 мая) (2015-05-28)

Лампочка на потолке подпрыгнула, моргнула, и он сразу понял, что началось. Один раз уже так было — лет десять назад, когда он только начал служить в этих краях. Тогда их сильно тряхнуло — землетрясение разрушило несколько городов и повернуло в сторону реку. Но теперь это было не землетрясение, теперь это была их персональная беда.
Лампочка мотнулась на длинном шнуре и погасла. И тогда капитан понял, что попали в домик с генератором. Линия, что вела из Посёлка, уже неделю висела мёртвыми проводами — в общем, сразу стало понятно, чего ждать.
Вернее, он ждал этого последние года три.
Бойцы были давно натренированы и быстро заняли место в траншеях на склонах холма. «Мы будем драться и ждать, — подумал капитан. — Я знаю начальника отряда, он совершенно отмороженный, но их в обиду не даст. Он будет идти напролом, главное, чтобы не промедлили мотострелки».
А вот мотострелки были осторожны, и ему казалось, что они наверняка будут медлить, они застряли в политической паутине, в тонких договорённостях между местными князьями, в национальных проблемах, в ценности зыбкого перемирия сторон, в сложностях взаимодействия с армией республики, которой были формально приданы. Мотострелки всё будут проверять и перепроверять, пока по нему, капитану, будут молотить реактивными снарядами.
Самое обидное было в том, что жители Посёлка не предупредили его. Люди с той стороны не могли придти к ним, форсировав реку перед заставой. Они накапливались в Посёлке, и это было ясно как день.
Капитан много раз приезжал в Посёлок, чтобы специально говорить с главными людьми.
Маленькому суетливому человеку, по виду вовсе не кулябцу, он просто подарил телевизор и тем закончил общение с гражданской властью. А вот с шейхом мазара он проводил долгие часы, сидя на ковре в тени мавзолея.
Отец шейха мазара был похоронен тут же, в нескольких метрах от края пыльного ковра, и дед его был похоронен там же, и отец деда лежал под соседней плитой. Время там, у могильных плит, остановилось, и скоро капитан понял, что шейх мазара воспринимал могильные плиты просто как новый дом своих родственников. Они, эти старики, просто переселились туда, под арабскую вязь каменного покрывала.
Хранитель мазара пил с ним чай три года, и три года капитан надеялся, что в нужный день из Посёлка прибежит мальчишка и предупредит заставу о беде. Но беда пришла без предупреждения. Долгие часы, проведённые на пыльном ковре, были напрасны.
Ракеты снова ударили в холм, и с потолка посыпалась какая-то труха.
Он пошёл по траншеям, чтобы ободрить своих солдат, но солдаты его были давно проверены и сами понимали, что сейчас будет. Лишь один сержант из Калуги молился своим солдатским заступникам — это была давняя легенда, что в крайний час к тебе придут на помощь с Родины. Капитан слышал её в десятках вариантов, а один корреспондент уверял его, что был описанный в летописи факт, когда в Вологде в страшный час явились какие-то белоризцы. Как не крути, всё выходил смертный ужас — в конце погибали все. Капитан этого не одобрял, но и не препятствовал — сержант был правильный и обстоятельный человек, из тех, на которых держится служба.
Через полчаса пошла первая волна атакующих — абсолютно одинаковых людей в халатах. Это были крестьяне, давно забывшие крестьянский труд. Солдаты из них выходили тоже неважные — капитан видел оружие, что находили при убитых нарушителях. Стволы были изъедены ржавчиной, а затворы болтались в китайских винтовках, как горошины в погремушках.
А вот за ними стояли люди в хорошей форме с хорошими биноклями. Двух людей в чистой и новой форме тут же сняли снайпера-пограничники, и атака захлебнулась. Но инструкторов оказалось куда больше, и ещё у наступающих были хорошие артиллеристы с давним боевым опытом.
Сейчас вся надежда ложилась на резерв погранотряда, который уже находился в пути. Всё шло правильно, и в начальстве он не ошибся. Теперь надо было просто продержаться — с минимальными потерями личного состава.
Но минул день, и оказалось, что подмога не пришла. «Не пришла, значит, подмога», — подумал он сокрушённо. Капитан ещё не знал, что помощь застряла на горной дороге близ Посёлка. Капитан понимал, что такое случается, и даже был готов и к этому. Но дальше пошло ещё хуже.
Он знал, что в самом лучшем раскладе всё равно погибнут несколько его человек, но не ожидал, что они погибнут так быстро. Слишком плотен был огонь, и против них работало несколько безоткатных орудий, ракетные установки и невесть сколько гранатомётов.
Враги действовали грамотно и первым делом сожгли бронетранспортёр. Отстреляв боезапас, из него вылез единственный живой член экипажа и сразу же оказался в окружении людей с той стороны. На него бросилось несколько человек, и они были в такой ярости, что, добивая раненого, искололи ножами друг друга.
К концу дня радист доложил, что позывной «полста восемь» застрял на заминированной дороге под огнём из засады. Итак, всё действительно было гораздо хуже, чем сначала думал капитан. Самое дорогое, что у него было — время, уходило в песок, как вода из пробитого бака. Время стало дороже воды и патронов, это время было нужно для вертолётов, что везли к нему экипажи танков; для того, чтобы сапёрный отряд снял под огнём фугасы, закопанные в дорожной грязи; для того, чтобы пришла помощь, пока он воюет. И вот этого времени для дыхания его личного, личного, личного состава не хватало.
Из-за его спины давно перестал валить чёрный дым пожара, сменившись белым кислым облаком, стелившимся над холмом. Застава выгорела.
Ночью они отбили ещё одну атаку, а наутро пересчитались и запомнили новый скорбный счёт. Радист сжёг документацию, а некоторые — фотографии близких, чтобы их не разглядывали ненужные люди. Построек, по сути, уже не сохранилось — четыре стены на восемь домов. Теперь надо уходить — с минимальными потерями личного состава.
Тех, кто будет жить, увёл его заместитель. Глядя на него, капитан с некоторым удовольствием думал, что у него выросла хорошая смена. Грязный и перебинтованный лейтенант выведет личный состав к своим, и в этом сомнения у капитана не было. Уходящие отстёгивали рожки с остатком патронов и бросали их остающимся. Здоровые (здоровых, впрочем, не было, были легкораненые) ушли, и теперь их осталось полдюжины. «Это и будут теперь, — решил капитан, — минимальные потери».
У него осталось пять бойцов, и обратного пути нет. Шесть человек окончательно сровнялись между собой и забыли про звания и награды, забыли про вещевое и денежное довольствие, забыли про планы на будущее и про обиды прошлого. Жизнь теперь была проста и ничего, кроме врагов и друзей, в ней уже не было.
Внезапно он понял, что забыл фамилию Президента.
Фамилию начальника погранотряда он помнил, а вот главнокомандующего — уже нет.
Видимо, это произошло за ненужностью.
Накануне он говорил с заместителем о жизни, и это им обоим казалось частью бесконечной шахматной партии, когда время от времени игроки переворачивают доску и начинают играть фигурами противника.
Заместитель говорил о смысле войны и о том, за что им умирать. Они говорили об этом всегда, но ни разу не расширили круг участников таких бесед. Подчинённых надо было оберегать от этих размышлений, а начальство — тем более.
— За что мы будем умирать? За президента нашего, что дирижирует чужими оркестрами? — говорил заместитель. — Не смеши. За идеалы демократии? За геополитику? Нас с тобой давно уже не раздражают статьи в газетах о том, как мы стоим на пути наркотрафика. Те, кому надо этого трафика, просто купят канал доставки, подешевле возьмут местных генералов, а подороже — наших.
— Может, и купят. Проще всего сказать «дерусь — потому что дерусь», и в этом великий смысл военного равновесия. Мы — должны существовать, а значит, стоять здесь для того, чтобы человек верил, что на всякую силу есть сила противоположная. Что кого-то не купят, а кто-то не уйдёт — такая вот метафизика.
Про себя капитан думал о том, что не надо умножать причин. Те, кто рвут рубаху на груди и говорят о Родине, чаще всего взяли эти слова из книг и кинофильмов. С ними тяжело в бою, и пафос похож на песок, набившийся в ствол. Его товарищ, попавший в русский батальон в Югославии, рассказывал историю, которая капитану очень понравилась.
Во время боснийской войны кто-то написал на доме, что стоял на краю у сербского поселения: «Это — Сербия!» а кто-то другой приписал: «Будало, ово jе пошта» — «Дурак, это — почта». Те, кто знают, что церковь — это церковь, почта — это почта, а Родина — это Родина, и не произносят пафосных речей, обычно при этом служат лучше.
Он не кривил душой, пафос давно улетучился из их разговоров. Высокая политика растворилась в горном воздухе, а оставшиеся ценности оказались просты: приказ и Устав, жизнь товарища и выполнение задачи. Чем было дальше от полосатого пограничного столба, тем меньше внимания вызывали эмоциональные слова. Капитан вспомнил, что одной из самых пафосных сцен в жизни, что он видел, был доклад оборванного лейтенанта другого погранотряда, у которого убили больше половины сослуживцев, и вот он, выведя к своим горстку пограничников, плачет, докладывая об этом какому-то начальнику.
Он вдруг раздражённо подумал, что может вдруг забыть фамилию этого старшего лейтенанта, но тут же вспомнил: Мерзликин его звали. Точно — Мерзликин.
Тут заместитель напомнил ему, что в прошлом году на соседней заставе убили наряд. До сих пор было непонятно, кто это сделал, и местные говорили, что пограничников зарезали горные духи, злые гении этого места. И действительно, после нескольких лет в этих горах, им иногда казалось, что под тонкой коркой цивилизации, присутствовавшей здесь в виде телевизоров, вентиляторов и газированной воды, существует жаркий и пыльный как здешние горы, мир духов и сказочных существ.
Внутри этого глубинного, скрытого от глаз корреспондентов мира, сходились странные силы, и произнесённые на разных языках молитвы вступали в бой как солдаты вражеских армий. Люди с той стороны собирали из воздуха своих демонов, а солдаты с севера, мелко крестясь, звали на помощь своих святых. Но и поверхностный мир, мир рациональной материи и марксистских товарных отношений был жесток, часто бессмысленно жесток (так считал капитан, относившийся к смерти спокойно, но рачительно), но так же неистребим, как невидимый.
Капитан касался этого в разговорах с шейхом мазара, и каждый раз ощущал, что не вполне может понять речь старика. Дело было не в нюансах диалекта, а в базовых понятиях. У них было разное мнение о добре и зле, о лжи и справедливости, вот в чём было дело.
— Мы пришли сюда не так давно, — говорил он заместителю. — Мы пришли сюда полтора столетия назад. Мы строили мосты и железные дороги, больницы и школы, но ничего не изменилось. Тот же мир, та же пыль и песок. И совершенно не факт, что мы были тут нужны.
— Детская смертность упала, можно себя этим оправдывать.
— Никто ничего не знает о здешней смертности, лейтенант. Кто-то написал какую-то цифру, и вот она кочует из доклада в доклад. Никто ничего про эти места не знает. И когда Партия исламского возрождения схлестнётся с Демократической партией, и одни будут стрелять в других из кузовов японских пикапов, а другие отвечать им из наших бронетранспортёров, то мы не отличим белую нитку от чёрной. При этом на въезде в Посёлок до сих пор написано «Слава КПСС» — только буквы проржавели. Легко сказать, что нужно нести бремя белых, смело сеять просвещенье и всё такое. Гораздо труднее сказать вслух, что люди не равны, что у нас есть более высокая правда, чем у них.
Мы ели плов с этими людьми, пытаясь понравиться им.
И они совали нам в рот свои пальцы.
Это, кстати, известное дело — тут гостю средней почётности (самый почётный ещё получал бараний глаз), хозяин вкладывал пирамидку, слепленную из плова в рот сам, своими руками. Говорят, в прежние времена, предполагая, что почётный гость может превратиться во врага, внутрь этой пирамидки вкладывали гвоздь и изо всех сил проталкивали его в чужое горло.
И наша правда оказывалась в итоге ненужной.
Кажется, тот разговор происходил зимой, когда на склоны ложился тонкий слой снежной крошки, которую быстро сдували злые ветры. Или это было жарким летом, когда личный состав экономил каждую каплю воды из пробитого теперь в десятке мест бака водокачки? Всё равно. В любом случае, этот разговор был бесконечен, и они вели его, будто проверяя посты, изучая, не изменилось ли что на местности. Где смысл, где их предназначение? У капитана был, на самом деле, год эйфории, когда он считал, что всё утрясётся и местная власть возьмёт дело в свои руки, а его начальство безжалостно и цинично наведёт порядок в этом горном краю. Но год прошёл, и эйфория улетучилась. Самообман прошёл, вокруг бушевали нескончаемые мятежи, столицу брали три раза — и всё люди непонятных политических пристрастий, а правительство в изгнании грозило казнями всякому, кто поможет иным правительствам. Здесь правил принцип коллективной ответственности, и если что — просто вырезался весь род несогласных. «Правда белого человека, — думал про себя капитан, — работает только тогда, когда империя прочна, а сам белый человек в пробковом шлеме едет на слоне между согнутых спин своих рабов. А когда семьи белых людей сидят на своих пожитках, и вся улица кидает в них камни, никакой правды уже у них нет. И самое глупое наступает тогда, когда белые люди начинают метаться между силой своего оружия и любовью к малым народам. Они рассчитывают на взаимность любви, а кончается это всё одинаково — выселенными из квартир и узлами из пододеяльников в уличной пыли.
Капитан знавал местных демократов, что норовили прорубить новое окно не то в Россию, не то сразу в Европу. Но он не верил в эти окна, и думал, что всё как началось мятежами и казнями, ими, в итоге, и закончится. Такой вот исторический материализм наблюдал капитан вокруг себя.
Семьдесят лет тут насаждали атеизм, но он мгновенно высыхал на этой выжженной солнцем земле, как пролитая в полдень вода.
А с водой тут много что было связано: вода была жизнью, а распределяли её особые люди. Как-то раз он сидел на пыльном ковре с шейхом мазара, когда к ним пришёл приехавший из города мираб. Мираб был непростым человеком, весь род которого был мирабами — раздатчиками воды. Даже глава здешнего муфтията был мирабом. А этот мираб был когда-то начальником водокачки в городе — и не сразу капитан понял, что приезжий приехал не к старику в его мазар, а посмотреть на него, капитана.
Мираб смотрел на него, будто пробовал на зуб — и капитан был для него камушком, попавшим в плов, чем-то раздражающим и неудобным. Он, будто кусок скалы, упал в горный поток, и вот вода думает — сдвинуть ли его с места или обойти.
Господин воды смотрел на него хмуро и отхлёбывал горький чай из пиалы. Капитан сидел перед ним в своей выгоревшей форме и вдруг вспомнил, что у него большая дырка в носке. «Ничего, — подумал он. — Мне терять нечего. На семь бед один ответ». И мираб, словно почувствовав это безразличие, расстроился. Ему было бы приятнее, если бы в этом русском был страх или ненависть, а спокойное безразличие говорило о том, что капитан пойдёт до конца.
Поднявшись с ковра и зашнуровывая свои высокие ботинки, капитан понял, что признан неудобным. Именно неудобным — это непроизнесённое слово всё же отдавалось в ушах.
Старик из мазара, кажется, сожалел об этой встрече и в следующий раз привёл его к своей сестре-старухе. Про неё говорили, что это настоящая Биби-Сешанби, госпожа Вторник.
Госпожа Вторник стучала в своём закутке старинной прялкой и уже ждала капитана. В его руки была вложена толстая шерстяная нить, натянув которую, старуха тщательно всмотрелась в волокна.
— Тебе хорошо, — сказала старуха, пожевав беззубым ртом. — Ты настоящий воин, и ты живёшь по своей судьбе. Жизнь твоя коротка, как порыв ветра, а смерть быстра, как глоток. Да ты, собственно, уже мёртв.
— Да? — улыбнулся капитан. — Уже?
Но старик уже уводил его прочь, говоря, что бояться нечего, женщин не стоит слушать, и вообще он плохо понял её из-за шума прялки.
«С надеждой мы смотрели на этот мир, — думал он на обратной дороге, трясясь в кабине грузовика. — А мир неисправимо жесток, зол и беспощаден. Никто не знает предназначенья, кроме как Боевой устав».
Жизнь действительно оказалась недлинной, но это была его жизнь. Капитан не верил в эту местную нечисть, ни в здешнюю, ни в тех существ, что бродят среди родных осин. Из всех суеверий в нём жило только правило называть последнее «крайним». Капитан верил в личный состав, матчасть и боевое взаимодействие. И то, что сейчас ему не повезло, ничем не нарушило картины его мира.
Поэтому он был раздосадован, когда к нему подполз сержант-пулемётчик с неожиданным вопросом:
— Может, позовём заступников?
Капитан досадливо поморщился: мистики он не любил, потому что она слишком легко объясняла
неудачи, и оправдывала бездействие. И эту старую солдатскую легенду про заступников не любил, но время было такое, что только на легенды и приходилось надеяться. Солдатских заступников, может, кто и видел, да и не мог рассказать: солдатские заступники приходили перед самым смертным часом, и увидеть их на пробу никто не хотел. А испытать на себе то, как крайнее время превращается в последнее, удовольствие сомнительное.
И всё же капитан кивнул — потому что его люди заслужили всё остальное, если уж не заслужили времени на жизнь.
Сержант пошёл к камням молиться, да и остальные забормотали что-то про себя.
И вот капитан увидел, как сгущаются рядом странные тени. Как они набирают плотность и вес — и вдруг фигур вокруг стало вдвое больше.
Вышел из-за камней очень высокий человек в длинной рубахе и с плотницким топором за поясом. Кажется, его звал как раз сержант из Калуги. Пришли ещё и другой бородач, и с ним монах, почти мальчик.
Но один оказался совсем странным, с ветками вместо рук. Ветки торчали из рукавов, и это существо больше походило на пугало.
— А ты кто такой? — спросил капитан, не сдержавшись.
— Это мой, — сказал снайпер с раскосыми глазами. — Это со мной.
Капитан не стал спрашивать, как зовут этого северного бога, но, заглянув в его пустые глаза, подумал, что он, пожалуй, самый страшный из пришельцев.
Замыкал строй старик в чалме.
— А вы-то, отец, зачем тут?
Тот покачал головой: сам, дескать, понимаешь, так надо.
Пришлые разбрелись по своим подопечным. К капитану же никто не пришёл — можно было позвать своего первого командира, который умер несколько лет назад, но капитан рассудил, что нужно быть последовательным и не отвлекать покойника от возможных дел.
Так они повоевали ещё, а через несколько часов капитану перебило осколками ноги. Тогда он понял, что надо устраивать последнюю лёжку.
Готовя себе это место, он смотрел, как дерутся призванные его солдатами заступники, и отмечал, что дерутся они неважно — недостаточно слаженно. Очевидно, что они были простые крестьяне — за исключением старика в чалме, что лихо махал кривой саблей, и человека-пугала, на работу которого капитан, видавший всякое, старался не смотреть. Но капитан понимал, что эти существа пришли сюда не для того, чтобы помочь им выстоять, а как раз потому, что его солдаты были обречены.
Надо было умирать за простые истины — за друга и за командира. А ему — идти вместе с ними, и чтобы у них достало мужества и пришли эти духи воздуха и огня, как старшие братья к заплаканным школьникам.
Старик с саблей стоял рядом с его радистом, действительно недавним школьником откуда-то из-под Казани. Лицо у радиста было залито слезами, и видно было, как ему страшно. Старик временами кричал радисту что-то ободряющее, и тот, хлюпая носом, старался целиться тщательнее.
«Мы пришли в этот мир с мальчишескими представлениями о славе и назначении, — думал капитан, — Нам повезло больше прочих, потому что мы сейчас ответим за эти мальчишеские представления о долге. Мёртвые сраму не имут, никто из нас не потерял чести, и мы всё сделали правильно».
Потом капитан увидел, как сержант умирает, положив голову на колени своего местного святого, а тот гладит его по бритой голове. Когда сбоку подбежал какой-то человек в халате, бородач только махнул своей саблей не глядя, и голова врага покатилась прочь.
Сержант умер, но ноги его прожили чуть дольше, заскреблись о камни ботинками и вытянулись, наконец.
Старик с саблей встал, поклонился телу, и пошёл к другим бойцам.
Тут капитану стало немного обидно за своё безверие — но он отогнал эту жалость к себе.
Дело-то житейское, дело времени, дело минуты — сейчас он тоже умрёт, и все окажутся на равных.
Когда все пятеро заступников пришли к нему, капитан понял, что остался один. Тела тех, кого назвали заступниками, уже начинали просвечивать, растворяться в сумерках. Видать, дело их тут было исполнено.
Человек-пугало подошёл попрощаться, но капитан помахал ему рукой — не трать время, дескать, мне недолго, не задержу.
Своих ног капитан уже не чувствовал.
Хорошо было бы умирать, смотря в небо, как герой толстовского романа, который он проходил в школе. Это было единственное место, которое он там прочитал, но память услужливо подсказала, что под чужим небом герой не умер, а умер в какой-то душной деревенской избе, среди стонущих раненых. Но капитану нужно было доделать одно, последнее дело.
Для достоверности он лёг на живот поверх ненужных бумаг, пятная их кровью. Бумагами и планшеткой те, кто поднимутся сейчас на холм, обязательно заинтересуются, и обязательно сдвинут его тело с места — всё равно, будь он жив или мёртв. А под ним и под ворохом бумаг их ждёт неодолимая фугасная сила.
Капитан стал ждать чужих шагов, а пока смотрел, как в сухой траве, на уровне его глаз, бежит муравей.
Муравей был тут не при делах. Ни при чём тут был муравей, и капитан пожелал ему скорее убраться отсюда.
Муравей поверил ему и, помотав головой, побежал быстрее прочь.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
28 мая 2015
(обратно)
Песочница (День защиты детей. 1 июня) (2015-06-01)

Летом Москва пахнет бензином и асфальтом — днём этот запах неприятен, раздирает лёгкие и дурманит голову, но поздним вечером пьянит и дразнит. Город, выдохнув смрад днём, теперь отдыхает.
Проезжает мимо что-что чёрное и лакированное, несётся оттуда ритмичное и бессловесное, на перекрёстке можно почуять запах кожи — от дорогих сидений и дорогих женщин.
Интересно в Москве жарким летом, когда ночь прихлопывает одинокого горожанина, как ведро зазевавшуюся мышь.
Чтобы спрямить дорогу домой, Раевский пошёл через вокзал, где тянулся под путями длинный, похожий на туннель под Ла Маншем, переход.
В переходе к нему подошёл мальчик с грязной полосой на лбу.
— Дядя, — сказал мальчик, — дай денег. А не дашь (и он цепко схватил Раевского за руку), не дашь — я тебя укушу. А у меня СПИД.
Отшатнувшись, Раевский ударился спиной о равнодушный кафель и огляделся. Никого больше вокруг не было.
Он залез в карман, и мятый денежный ком поменял владельца. Мальчик отпрыгнул в сторону, метко плюнул Раевскому в ухо и исчез. Снова вокруг было пусто — только Раевский, пустой подземный коридор, да бумажки, которые гонит ветром.
Раевский детей любил — но на расстоянии. Он хорошо понимал, что покажи человеку кота со сложенными лапками — заплачет человек и из людоеда превратится в мышку, сладкую для хищного котика пищу. И дети были такими же, как котята на открытках — действие их было почти химическое.
И с этим мерзавцем тоже — пойди пойми — заразный он на самом деле или просто обманщик.
Не проверишь.
Под вечер он вышел гулять с собакой — такса семенила позади, принюхиваясь к чужому дерьму. Милым делом для неё было нагадить в песочницу на детской площадке.
Но сейчас на детской площадке шла непонятная возня — не то совершался естественный отбор младших, не то борьба за воспроизводство у старших.
Раевский вздохнул: это взрослые копошились там — то ли дрались, то ли выпивали. Да, в общем, и то, и другое теперь едино.
И тут Раевского резанул по ушам детский крик. Крик бился и булькал в ушах.
— Помогите, — кричал невидимый ребёнок из песочницы, — помогите!..
Что теперь делать? Вот насильники, а вот он Раевский — печальный одиночка. Куда не кинь, всюду клин, и он дал собаке простой приказ.
Такса прыгнула в тёмную кучу, кто-то крикнул басом — поверх детского писка.
И вдруг всё стихло.
— Сынок, иди сюда, — позвали из кучи.
— Ага! — громко сказал Раевский, нашаривая в кармане мобильник.
— Иди, иди — не бойся.
Отряхиваясь, на бортик песочницы сели старик и девушка, за руки они держали извивающегося мальца — точную копию, приставшего к Раевскому в переходе. Левой рукой старик сжимал толстый кривой нож.
— Да вы чё? — Раевский отступил назад. Собака жалась к его ногам.
— Знаешь, Раевский, сказал старик — это ведь оборотня мы поймали. Хуже вампира — этот мальчик только шаг ступит — крестьяне в Индии перемрут, плюнет — Новый Орлеан затопит. Он из рогатки по голубям стрелял — три чёрные дыры образовалось. А сейчас мы его убьём, и спасём весь мир да вселенную в придачу.
Раевский отступил ещё на шаг и стал искать тяжёлый предмет.
— Ну, понимаю, поверить сложно. Вдруг мы сатанисты какие — но мы ведь не сатанисты. А ведь пред тобой будущее человечества. Вот к тебе нищий подойдёт — ты у него справку о доходах спрашиваешь? Или так веришь?
— А я нищим не подаю, — злобно ответил Раевский, вспомнив сегодняшнего — в переходе.
— Ладно, зайдём с другой стороны. Вот откуда мы фамилию твою знаем?
— Да меня всякий тут знает.
— Если вы не верите, то человечеству, что — пропадать? Вот вас, дорогой гражданин Раевский — отправить сейчас в прошлое, да в известный австрийский город Линц. А там Гитлер лежит в колыбельке.
— Шикльгрубер, — механически поправил Раевский.
— Неважно. Что не убить — маленького? Миллионы народу, между прочим, спасёте.
— Это ещё неизвестно — кто там вместо Гитлера будет. А в вашем деле, я извиняюсь, ничего мистического нет. Налицо двое сумасшедших, что собираются малого упромыслить. Как тебя звать, мальчик?
— Са-а-ня, — сквозь слёзы проговорил мальчик.
— Раевский, Раевский, — весь мир оккупирован, они среди нас, — вступила девушка, между делом показав Раевскому колено. Колено было круглое и отсвечивало в ночи.
— Нет, не понимаю, что за «оккупация». Оккупация, по-моему, это когда в город входит техника, везде пахнет дизельным выхлопом, а по улицам идут колонны солдат, постепенно занимая мосты, вокзалы и учреждения.
Раевский сел верхом на урну и, пытаясь вслепую набрать короткий милицейский номер в кармане, продолжил:
— Во-первых, порочен сам ваш подход. И вот почему: мы говорим об абсолютно реальных вещах — у вас мальчик и ножик. У вас могут быть доказательства ваши конспирологических идей, значит, мне на них надо указать. Или сразу перейти к метафорам и шуткам, которые я очень люблю.
Иначе получается история вроде той, когда у меня в квартире испортились бы пробки. Ко мне придёт монтёр и вместо того, чтобы починить пробки, скажет, что мой дом стоит в луче звезды Соломона, Юпитер в семи восьмых… Да ну этого монтёра в задницу.
Во-вторых, мы как бы живём в двух мирах — реальном, где этого монтёра надо выгнать и починить пробки с помощью другого монтёра, скучного и неразговорчивого, и втором мире — мире романов Брэма Стокера и Толкиена. По мне, так лучше отделить мух от котлет. Починить материальным способом пробки, а потом при электрическом свете заниматься чтением.
Мобильный так и не заработал, а подозрительно попискивал в кармане, а мальчик, почуя надежду, забился в цепких руках парочки.
— Пу-у-cи-и-к, — протянула девушка, — ну ты пойми, человечество, Вселенная, не захочешь, никто ведь не узнает. А я помнить буду — ты мой герой навсегда, а? Тебя вся мировая культура к чему готовила? Ты знаешь, как единорог выглядит?
— Не знаю я никаких единорогов, — оживившись, ответил Раевский.
— И Борхеса не читал? — язвительно произнесла девушка, но её перебил старик:
— Дорогой ты наш товарищ Раевский, ты убедись сам — мы этому оборотню сейчас ножом в голову саданём, он сразу обратится в прах — вот оно, решительное доказательство.
— Это детский сад какой-то, прямо. Вы ребёнка сейчас зарежете, а потом уж обратного пути не будет. А принцип Оккама никто не отменял. Он, я извиняюсь, замечательный логический инструмент. И работает вполне хорошо и в том, и в этом случае. Никого мы резать сегодня не будем. Сейчас вы мне ещё сошлётесь на процессы над ведьмами, что были в Средние века — и о которых вы знаете всё по десяти публикациям газеты «Масонский мукомолец», пяти публикациям в «Эспрессо-газете», и одной — в журнале «Домовый Космополит». Увеличение числа конспирологических версий ведёт к превращению человека в параноика. Или в писателя…
Раевский в этот момент оторвал, наконец, от урны длинную металлическую рейку, и, размахнувшись, треснул старика по голове.
Девушка вскрикнула, а мальчик упал на песочную кучу.
— Беги, малец! Фас, фас! — завопил Раевский, хотя его такса уже визжала и дёргала старика за штанину, а девушка, разрыдавшись, спрятала лицо в ладонях.
Мальчик удирал, не оборачиваясь. Он бежал резво, шустро маша руками и совершенно не касаясь ногами земли.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
01 июня 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-06-05)


Вот будь я не фалеристом-любителем, а профессионалом, так написал бы большой труд о государственных системах, которые предпочитают ордена на винте супротив государственных систем, где знаки отличия крепятся на булавках.
Вот, к примеру, СССР с его стройной, можно сказать, непревзойдённой наградной системой — в первой половине своего существование всё у него было на прочных винтах, а во второй, уже последней фазе — по большей части булавки.
За редким исключением.
Неверно, кстати, думать, что у северных корейцев всё на винтах — есть масса узнаваемых фотографий северокорейских генералов, где они покрыты орденами, как бронёй. Меж тем, в современной КНДР полно орденов на булавках. Например, орден Свободы и Независимости, да и многие прочие имеют степени на булавках. Колодок они не имеют, но это отдельная тема для исследования, ведь ордена на колодках у них всё же есть.
Вот сорвать с генерала ордена, кои держатся на винтах сложно, а вот рвать их вместе с колодками куда как сподручнее.
Ещё вопрос — одно дело, когда ордена носятся в горизонтальную линию, а совсем другое — когда они следуют косой линии пиджака или мундира.
По моему мнению, косые линии — признак упадка.
Молчание и звон — вот что рознит формации.

То есть, одно дело, когда орденоносцы государства несут свои награды тихо и величаво, а другое — когда от них исходит звон и награды прыгают при парадном прохождении колон по площадям.
Естественно, возникли бы промежуточные системы, начались проблемы с орденскими лентами, но это меня не пугает. Я бы ещё написал монографию об орденских планках, как о грозном свидетельстве растущего орденского изобилия и предвестник недобрых перемен для империй. Вот блестящая была идея в двадцатых годах — когда предполагалось, что на груди у комкора (к примеру) будет не два ордена Боевого Красного Знамени, а один, но с цифрой "2" внизу. Да любовь к блестящему победила.
Это бы и обеспечило мне хлеб на оставшиеся годы.
Извините, если кого обидел.
05 июня 2015
(обратно)
Память воды (День мелиоратора. Первое воскресенье июня) (2015-06-08)

Я был на тех дачах и разглядывал знаменитого академика через кусты смородины. За вечерним чаем долго расспрашивали о жизни — одни умно, другие не очень умно. Мне рассказывали про него разное, но академик мне нравился. Я, к несчастью, не испытывал ни трепета, ни склонен был к особому почитанию публичных людей, и задавая вопрос кому бы то ни было, не дрожал от восторга.
Но чем-то веяло от этого академика архаическим. Он был похож на путешественников прошлого, что возвращаются из азиатских пустынь с коллекцией бабочек в красивых деревянных рамках. При этом я задумался о том, что сам спросил бы у него.
Пожалуй, я стал бы говорить с ним о кризисе научного мировоззрения — ровно о том, что меня занимало последние несколько лет. О том, как наука с её методами медленно отступает прочь, а на смену ей приходит мистика. Не кончится ли то, что называется «научным мировоззрением».
Да только мне закричали в спину, что баня готова, и я побрёл прочь от чужой освещённой веранды.
— Только я тебя умоляю, Вова, не спорь с моими соседями, — сказал Гамулин. — Что бы они ни говорили, не спорь. Я было, как дом здесь купил, ввязывался во всякие разговоры, да ничем хорошим это не кончилось. Учёные люди — они такие, так вывернут, что мало того, что в дураках окажешься, так ещё потом два дня землю щупаешь — на ней ли стоишь или в космосе летаешь.
— Да что мне спорить, я сумасшедших люблю, — отвечал Раевский, задумчиво глядя через стакан на свет. «Нет, не буду мыть», — решил он расслабленно.
Над дачным посёлком дрожало летнее марево лени и неспешности.
Торопиться было некуда — никто не ездил отсюда на службу. Место было отдалённым и уединённым — заехал раз, так и сиди неделю. Что живут тут люди образованные, было видно сразу — первый же дом был покрыт солнечными батареями. Правда, загаженными птицами до полной белизны.
Гамулин поселился здесь давно и сперва хвастался, что живёт в посёлке академиков, но потом как-то поутих.
— Ты понимаешь, они ведь не сумасшедшие. Просто у каждого свои тараканы в голове. Я так думаю: у учёного человека со временем мозги раскручиваются, да так, что на пенсии никак не могут остановиться. Вот сидит человек уже лет десять на даче, а в голове — беспокойство. Поэтому они ходят друг к другу, ну и ко мне тоже. Я ведь благодарный слушатель — не спорю.
— Что, американцы не были на Луне?
— Да нет, кажется — были. Они с этим, по крайней мере, не спорили. Но один вот верит в мировой заговор, вернее в то, что ему должны отомстить за генетические эксперименты.
— А кто мстить-то должен? Американская военщина? Гринпис?
— Да нет, подопытные обезьяны. Детей в зоопарк не пускал, скандал устроил, как мне рассказывали. А с виду — нормальный, так что я и не верю в эти сплетни. Мы с ним даже яблочный самогон вместе производим. Видел бы ты, какое у него фантастическое оборудование… Другой мой сосед любит про тайну воды и её информационную память завернуть. Фокусы всякие показывает. Его ты сегодня услышишь.
— Это какой сосед? Тот, про которого ты рассказывал, мелиоратор?
— Ну. Только он не просто мелиоратор. Мелиоратор с большой буквы «М». Да что там — он ведь повелитель воды. При этом, скажу тебе, у нас места странные — с одной стороны осушенные торфяники, с другой стороны песок и сосновые рощи. Я как стал наново строиться, сосед пришёл ко мне, ткнул пальцем — тут, говорит, скважину делай, а вот тут по контуру нужно дренаж, иначе фундамент поплывёт. Мне работяги говорят — ничего не поплывёт, у нас всё схвачено, не боись. На следующий год повело, вся работа к чёрту. После я уж не спорил — из скважины вода идёт, что твой хрусталь. Видно, этот мелиоратор на родник какой-то подгадал.
Когда начало смеркаться, действительно пришёл сосед. Это был невысокий человек — типичный дачник в ковбойке.
«Удивительно, — подумал про себя Раевский. — Откуда они берут эти рубашки. Наверное, у них есть какой-то тайный склад этих ковбоек для учёных, заготовленный ещё в СССР на случай ядерной войны».
Прочие его страхи не оправдались — Раевский ожидал, что разговор обязательно закрутится вокруг памяти воды и этих дурацких трёхлитровых банок, в одну из которых после просмотра телевизионных откровений граждане матерились, а в другую кричали как заведённые «люблю-люблю-люблю».
Но ничего этого не было.
Мелиоратор оказался весельчаком, и вместо ожидаемых безумств поведал пару забавных историй о повороте северных рек, которому, как оказалось, он по мере сил противодействовал.
Чуть позже на огонёк зашёл сосед с другой стороны — зоолог, работавший в Сухумском заповеднике.
Раевский ожидал очередной бесовщины, например, рассказа о скрещении человека с обезьяной. У него была своя история с Сухумским питомником, которую он не любил вспоминать. Но нет — зоолог рассказал несколько цветистых восточных легенд об обезьянах, и одну геологическую — об их королеве, которая живёт в жерле вулкана.
Прекрасная огненная обезьяна рождает новые острова — вода и огонь соединяются.
— Без воды — никуда, — поддакнул Мелиоратор.
«Милые люди, — подумал Раевский. — Напрасно Гамулин так над ними глумится».
Утром он проснулся рано и пошёл прогуляться.
Голова звенела от выпитого — это было не похмелье, а именно лёгкая пустота в голове.
Раевский искупался в озере, боязливо посматривая на оставленную одежду. Был у него как-то неприятный случай — точно так же рано он решил искупаться близ чужой дачи. Разделся догола, а когда вылез из воды, увидел, как собака хозяйки уносится по тропинке, держа в зубах его штаны с трусами. Так он и бежал голым по спящему посёлку.
Но тут собак не было. Раевский высох на утреннем ласковом ветерке и отправился обратно.
На опушке леса, там, где сосны переходили в смешанный сорный лес, он увидел грибника. Тот задумчиво смотрел в пустое небо без единого облачка, и его кривоногая фигура с небольшой корзинкой не двигалась.
Раевский помахал ему рукой, но грибник не ответил.
Что-то странное было в грибнике, но непонятно что.
Раевский посмотрел на человека с лукошком.
Какие, к чёрту грибы, не сезон.
Вот кто настоящий сумасшедший — но отчего учёному на пенсии не ходить с лукошком. Да хоть с дамской сумочкой — может там, под нечистой тряпицей у него тетрадка с формулами. Нет, у учёных право на тараканов в голове, это ведь естественно.
Раевский уже прошёл стадию презрения к паранауке. Он давно понял, что даже хорошие учёные, состоявшиеся в своей специальности, вдруг начинают говорить смешные вещи — физик, занявшись политическими построениями; математик, кинувшийся в историю, или географ, превратившийся в философа. Раевский раз и навсегда вывел для себя правило — человек, мудрый в чём-то одном, просто мудр в чём-то одном. Ни на что большее это не распространяется, но и не отменяет гениальности.
Поэтому он теперь не презирал безумные идеи, а относился к старикам, что их проповедуют, как к забавным детям. Чужим детям, разумеется.
Он послонялся по участку, объел тишком полгрядки земляники и вдруг снова увидел грибника. Тот стоял у забора и смотрел мимо него — на соседский участок.
Там, у невысокого штакетника, торчал зоолог, будто загипнотизированный взглядом пришельца.
В этот момент фигура с лукошком засунула руку под грязную тряпку и вытащила трубочку, похожую на флейту. Раевский увидел, что рука с флейтой как-то удивительно волосата, но грибник уже приложил трубку к губам и дунул.
Сосед-зоолог схватился за горло, взмахнул руками и повис на штакетнике.
Раевский метнулся к нему и увидел на коже зоолога крохотную иголку, похожую на шип какого-то растения.
Грибник пропал, будто его сдуло тем самым ласковым утренним ветерком.
Раевский грохнул кулаками сперва в окно Гамулина, а потом и в дверь Мелиоратора.
— Эй, у вас с соседом беда!
Гамулин вскочил на удивление быстро и заорал ещё громче:
— Степанычу плохо!
Все вместе они окружили тело, висящее в нелепой позе на заборе.
— Сейчас я скорую… — И Гамулин полез в карман за телефоном. Но тут же сам осёкся:
— Да эта скорая сюда два часа ехать будет.
Меж тем Мелиоратор провёл ладонью по лицу дачника.
— Умер Степаныч. Практически умер, да.
Раевский тупо посмотрел на него.
— И что теперь?
— Оживлять будем, — Мелиоратор сказал это угрюмо, но без печали, как человек, которому вдруг выпало внеурочное дежурство. — Вода всё смоет.
Раевский сглотнул.
— Только беда в том, что у меня мёртвой воды нет. Живая есть, а мёртвой нет.
— А без мёртвой нельзя?
— Никак нельзя. Тут всё по науке нужно делать. Без мёртвой неизвестно что получится. Он ведь не совсем мёртвый сейчас, оживишь его — и будет тебе такой потусторонний человек, что мало не покажется. Ты, сосед, возьми гостя и езжай на торфяник к стоячей воде, что я тебе показывал, а я тут пока делом займусь.
Они приехали через час, и этот час Раевский пребывал в каком-то мороке.
Набирая канистру, он незаметно потрогал землю. Земля была честной и твёрдой, Раевскому всё это не снилось, и он не парил в выдуманном космосе снов.
Мелиоратор принял пластиковую ёмкость и, быстро подойдя к зоологу Степанычу, тщательно облил его водой.
Раевский почувствовал, что воздух вокруг на секунду загустел. Это была мистика, которую Раевский так ненавидел, но он действительно почувствовал, как пришла смерть. Без косы и балахона, незримая, похожая на туман.
— А вот теперь хорошо.
И Мелиоратор достал из кармана банку с пульверизатором удивительно прозаического вида.
«Очень похоже на средство для мытья окон», — машинально отметил Раевский.
— Ну да, — заметил мелиоратор, перехватив его взгляд. — У меня другой ёмкости не было. А тут ещё пульверизатор есть — красота. — И начал опрыскивать тело, лежащее перед ним. Сейчас он был похож на хозяйку, что брызгает водой на бельё, приготовляясь к глажке.
Тело выгнулось, и по нему прошла дрожь.
Зоолог зашевелил губами.
— Так матерится, а ещё учёный человек, — удивился Гамулин — Живой был, не позволял себе такого.
Они сели на крылечко, и Гамулин достал сигареты.
«Вот чёрт, я ведь бросил год назад», — сообразил Раевский уже набрав в лёгкие горький дым.
— А ты делал опыт с банками? Только честно.
Гамулин посмотрел на него с тоской.
— Если честно… Делал. Ну, орал гадости в одну банку. Но это всё глупости, я просто банку забыл помыть. Это случайность.
— А что это шумит? — о произошедшем Раевскому говорить не хотелось.
— Трасса шумит, — ответил Гамулин. — Мы вчера другой дорогой приехали, а вот за лесом теперь федеральная трасса — шесть полос. Дрянь дело, пропала земля… Но я всё равно отсюда не уеду. Тут прикольно, учёные люди вокруг. Рассказывают интересное, а что ещё на пенсии нужно?
Вот радио — простая вещь, а сколько вокруг него наворочено…
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
08 июня 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-06-17)
Занимаясь чужими биографиями — людей, что умерли сравнительно недавно, и людей, что умерли давно — я уяснил одну важную вещь.
Все врут.
Врут все, хотя, конечно, по разным причинам.
Плохие люди хотят казаться хорошими, а хорошие хотят казаться ещё более хорошими. Иногда они хотят казаться плохими, если чувствуют, что у них в жизни мало важного, а какое-нибудь выдуманное злодейство придаст жизни смысл.
Люди начинают врать сразу же после события — они закрывают дверь и начинают врать о только что окончившемся разговоре. Очевидцы событий подвирают, чтобы их рассказ был более интересным.
А некоторые врут для того, чтобы слушателям казалось, что очевидец сидел в партере, а не на галёрке.
Люди врут в тех местах, на которые не нашлось документов, а самые ловкие врут, используя документы. Часто оказывается, что документов много, и все они врут, как люди.
Слова меняют свою суть и прозвание. Выкатывается откуда-то круглое слово "жировка" или "продаттестат". "Кончила институт с шифром" — звучит загадочно и даёт простор выдумке.
Врут все.
Врут мемуаристы, их жёны и дети.
Земляки несуществующих героев загрызут зубами любого, кто покусится на светлое имя.
Время от времени биографии переписываются. То, что было заслугой, превращается в вынужденный шаг, несчастье — в доблесть, неудача — в победу.
Герой в итоге оказывается так же прекрасен — но по другим причинам.
Он рождается не из духа музыки, а из нестройного хора голосов.
Все они создают зыбкое пространство мифа, что твердеет на свету, как зубные пломбы. Скоро оно затвердевает настолько, что прочнее его материи нет.
С помощью цитат можно доказать любую историю.
С этим можно только смириться.
И вот уже исследователь превращается в писателя — он подвирает сам, всё сильнее отпуская вожжи, несётся вперёд тройка чужой биографии, и нет ей удержу.
Извините, если кого обидел.
17 июня 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-06-18)
Он говорит: «А я хипстеров твоих стал лучше понимать. Не твоих? Да это не так уж важно. Твои-мои, какая разница. Ну вот смотри, меня учили, что надо хорошо работать, и тогда тебе будет хорошо. Нет, ты что, причём тут коммунизм наступит. При мне уже в коммунизм не очень верили. Но верили, что если ты работал хорошо, не залётчик, то у тебя стаж трудовой непрерывный и пенсия большая. Были ещё персональные пенсии — союзного значения и республиканская. Ну и было обидное звание “пенсионер местного значения” — это, типа, когда тебе местный райсовет решил прибавку в червонец платить.
А так-то — ого! — люди за непрерывный стаж душу продавали. Иной какой и уйти хочет, и начальник его тиранит, а ему нельзя — стаж прервётся. Персональную-то пенсию не всем давали — например, если ты рабочий и у тебя орден Трудового Красного Знамени, то давали, а если инженер — то нужен не один, а два таких ордена.
Люди, повторяю тебе, из этих причин жизнь свою строили. Время своё на них тратили, да не дни, а годы. Ай, да не говори глупостей, при чём тут коммунисты. Люди просто знали, что есть вот такие правила игры. Раньше вот другая игра была — в церковь нужно было ходить, не ходишь в церковь, так тебя после смерти в аду на сковородке зажарят.
А если ходишь и не грешишь, то вечно пиво в белой облачности пьёшь.
Такая тебе, по-старому, выходила пенсия.
И вот люди годы тратили, ужимались, и только в белых тапках уж, печалились, что вера у них слабая, и уж лучше не в церковь, а по бабам.
А вот твои хипстеры пришли и говорят: да и хер бы с ней, с пенсией-то. А им наше старичьё так изумлённо: да как же хер? И тут же осекается — ведь, ведь, если вдуматься, действительно — хер. А если хер, что так горбатиться-то. Не, ну некоторые свою работу любят, им прям не жизнь, если они за смену полтонны болтов не нарежут.
Но я тебе больше скажу — всякие другие люди говорили: не, ну хер с ней, с пенсией. Прочь эти все ваши дурацкие ордена, надо детей рожать-растить, они наше спасение, они потом прокормят, оденут-обуют. И вот смотрю я сейчас на своих сверстников, вижу, как их обули. И всё оттого, что они, может и детей не заводили, а их страх заставил — вон, заводи, страх им говорил, а то будешь в гробу без белых тапочков лежать. Необутый, значит.
А им судьба — херак! — то сына-наркомана, то дочь… Ну, не будем о грустном.
Это ведь тоже внутренние правила игры.
Люди заводили детей, ломали себя под них, мучились. А им судьба — хрясь по сусалам. Да и снова — хрясь! И — поделом, я считаю, потому что они с судьбой торговались, у неё цыганили на пенсию. А ты не цыгань, не мелочись, делай то, к чему душа лежит.
Хипстеры же эти мне нравятся — что им до пенсии? И на детей с прибором клали. Они — естественные, вот в чём дело, дружок. Вот не заводит он детей, живёт перекати-полем, а ему хорошо. Другой-то тоже, может, хотел, как птичка жить, а боится — пенсию не дадут, стаж прервётся. Дети не похоронят.
А вот хипстеры твои смекнули — хер с ними, с похоронами, да и с детьми, живём однова. И живут по совести.
Не, ну тут может выйти конфуз, состарятся эти дети, да заплачут о пенсии. Таких — да, в мешке топить надо.
Но в остальном ведь хорошо выходит: вот человек дачу строит, потому что ему сказали, что без дачи не старость, а хипстер твой ему — налоги, дурак, заплати, а потом думай, что б дачу твою не обнесли. Или чтобы не сгорела она.
И хипстер, как не крути, выходит натурой цельной, подвижнической.
Сам такой фыр-фыр-фыр, честная стрекоза.
Повеселился, да и сдох к зиме.
Уважаю».
Извините, если кого обидел.
18 июня 2015
(обратно)
Год без электричества (День медицинского работника. Третье воскресенье июня) (2015-06-20)

Судья наклонился к бумагам, раздвинул их в руках веером, как карты.
Ожидание было вязким, болотистым, серым — Назонов почувствовал этот цвет и эту вязкость. Ужаса не было — он знал, что этим кончится, и главное, чтобы кончилось скорее.
Сейчас всё и кончится.
Судья встал и забормотал, перечисляя назоновские проступки перед Городом.
— Именем Города и во исполнение Закона об электричестве…
Назонов наблюдал за ртом судьи, будто за самостоятельным существом, живущим без человека, чеширским способом шевелящимся в пространстве.
— Год без электричества…
Судья допустил в приговоре разговорную формулировку, но никто не обратил на это внимания.
Всё оказалось гораздо хуже, чем ожидал Назонов. Ему обещали два месяца максимум. А год — это хуже всего, это высшая мера.
Те, кто получал полгода, часто вешались. Особенно, если они получали срок осенью — полученные весной полгода можно было перетерпеть, прожить изгоем в углах и дырах огромного Третьего Рима, но зимой это было почти невозможно. Осужденного гнали вон сами горожане — оттого что всюду, где он ни появлялся, гасло электричество. Осуждённый не мог пользоваться общественным электричеством — ни бесплатным, ни купленным, ни транспортом, ни теплом, ни связью. И покинуть место жительства было тоже невозможно — страна разделена на зоны согласно тому же Закону в той его части, что говорила о регистрации энергопотребителей.
На следующий день после приговора осуждённый превращался в городскую крысу, только живучесть его была куда меньше. Крысы могли спрятаться от холода под землёй, в коллекторах и тоннелях, а человека гнали оттуда миллионы крохотных датчиков, его обкладывали, как глупого пушного зверя.
«С полуночи я практически перестану существовать, — подумал Назонов тоскливо, — отчего же меня сдали, отчего? Всем было заплачено, всё было оговорено…».
Адвокат пошёл мимо него, но вдруг остановился и развёл руками.
— Прости. На тебя повесили ещё и авторское право.
Авторское право — это было совсем плохо, лучше было зарезать ребёнка.
Лет тридцать назад человечество радовали и пугали микробиологическими интеллектуальными системами. Слово это с тех пор и осталось пустым и невнятным, с сотней толкований. Столько надежд и столько ресурсов было связано с ними, а вышло всё как всегда — точь-в-точь как любое открытие, их сперва использовали для порнографии, а потом для войны. Или сначала для войны, а потом для порнографии.
Назонов отвечал именно за порнографию, то есть не порнографию, конечно, а за увеличение полового члена. Умная виагра, биологические боты, работающие на молекулярном уровне, качающие кровь в пещеристые тела — они могли поднять нефритовый стержень даже у покойника. Легальная операция, правда, в десять раз дороже, а Назонов тут как тут, словно крыса, паразитирующая на неповоротливом Городском хозяйстве.
Но теперь оказалось, что машинный код маленьких насосов был защищён авторским правом. Обычно на это закрывали глаза, но теперь всё изменилось. Что-то провернулось в сложном государственном механизме, и недавно механизм вспомнил о патентах на машинные коды.
И теперь Третий Рим давил крысу — без жалости и снисхождения. В качестве примера остальным.
Назонов и не просил снисхождения — знал, на что шёл, назвался — полезай, тут и прыгай, поздно пить, когда всё отвалилось.
Адвокат ещё оправдывался, но Назонов слушал его, не разбирая слов. Для адвоката он уже потерял человеческие свойства, и на самом деле адвокат оправдывался перед самим собой. «Наше общество, — думал тоскливо Назонов, — наше общество фактически лишено преступности, у нас не то, что смертной казни нет, у нас нет тюрем. Какая тут смертная казнь, люди с меньшими сроками без электричества просто вешались».
Единственное общественное электричество, что останется ему завтра — Personalausweis, аусвайс, попросту универсальный РА, таблетка которого намертво укреплена на запястье каждого гражданина. Именно РА будет давать сигнал жучкам-паучкам, живущим повсюду в своих норках, обесточить его жизнь.
«Интересно, если я завтра брошусь под автомобиль, — подумал Назонов, — то нарушу ли закон? Как-никак, я использую для самоуничтожения электроэнергию двигателя, принадлежащую обществу».
Формально он не мог даже пользоваться уличным освещением. Но на это смотрели сквозь пальцы, тогда бы гаснущие фонари отмечали путь прокажённых по городу.
В детстве он видел одного такого — он бросился в кафе, где маленький Назонов сидел с отцом. Он успел сделать два шага, и его засекли жучки-паучки, сработала система безопасности… Это был порыв отчаяния, так раньше бросались заключённые на колючую проволоку. Проволоку под током, разумеется.
Назонов не хотел жить как крыса и прятаться по помойкам. Он не хотел однажды заснуть, примёрзнув к застывшей серой грязи какого-нибудь пустыря, — ему был близок конец человека, бросившегося на охранника в кафе.
Некоторые из осуждённых пробовали бежать из Города в поисках тепла и еды, но это было бессмысленно. Сначала их останавливали дружинники на границах города, ориентируясь на писк Personalausweis. Те же, кто пытался спрятаться в поездах или грузовых автомобилях, как и те, кто сорвал таблетку аусвайса, уничтожались за нарушение Закона об электричестве — прямо при задержании.
Ходили легенды о людях, прорвавшихся-таки на юг, к морю и солнцу, но Назонов в это не верил. На юг нельзя. Даже если патрули не поймают на подступах к мусульманской границе, то никто не пустит беглеца сквозь неё.
Про мусульман, людей с этим странным названием, из которого давно выветрился смысл, рассказывали странное и страшное. Это, конечно, не люди с пёсьими головами, но никакого дружелюбия от них ждать не приходилось. Про них никто не знал ничего определённо, но все сходились в том, что они едят только человеческий белок.
Он очнулся от того, что дружинник, стоявший всё это время сзади, тряхнул Назонова за плечо. Все разошлись, и оказалось, что осуждённый сидит в зале один.
Он ехал домой на такси, потому что теперь экономить было нечего. Дверной замок привычно запищал, щёлкнул, открылся — но в последний раз. Дома было гулко и пусто — кровать осталась смятой, как и в тот момент, когда его брали утром.
Он собрал концентраты в мешочек, но в этот момент пропел свои пять нот сигнал у двери. На пороге стоял сосед с большим пакетом.
— Сколько? — спросил сосед коротко.
— Год.
Они замолчали, застыв в дверях на секунду. Рассчитывать на эмоции не приходилось — сосед умирал. Он умирал давно, и смерть его проступала через кожу пигментными пятнами — коричневым по жёлтому.
Назонов так же молча пропустил соседа внутрь и повёл в столовую.
— Выпьем? — сосед достал сферическую канистру. — Я принёс.
Это было какое-то дорогое пиво «Обаянь», действительно очень дорогое и очень противное на вкус.
Назонов поставил котелок в электропечь и обрадовался тому, что последний раз он обедает дома не один.
— Я пришёл тебя отговорить, — сказал сосед вдруг, и от неожиданности Назонов замер. — Я пришёл тебя отговорить, я знаю немного людей, перед смертью начинаешь их по-другому чувствовать. Острее, что ли. Я догадываюсь, что ты хочешь сделать. Ты хочешь бежать. Так вот, не надо.
Туда дороги нет.
Назонов с плохо скрываемым ужасом смотрел на своего соседа, а тот продолжал:
— Не надо на юг. Нет там спасения — я служил двадцать лет назад там на границе. Недавно встретил тех, кто там остался дальше тянуть лямку. Так вот, там ничего не изменилось — всё те же километры заградительной полосы, высокое напряжение на сетке. Умные мины, что реагируют на твою ёмкость, как сушка для рук. Нарушитель не успевает к ним подойти, а они за сто метров выстреливают в тебя управляемой реактивной дробью. Представляешь, что остаётся от человека, в которого попадает реактивная дробь?
Назонов представлял это слабо, но на всякий случай кивнул.
— Я там видел одну пару, муж и жена, наверное. Они, видимо, договорились и первым пошёл к границе муж, а потом жена толкала его перед собой. Ну, дробь обогнула препятствие и залетела сзади… Не надо, не ходи. Я знаю места в Центральном парке, где теплотрассы проходят рядом с канализационными стоками — там можно отрыть нору. Вот тебе схема (На столе появилась большая пластиковая карта Города). Не думал, что тебе дадут год, это, конечно, неожиданно. Но, вырыв нору, можно прожить три-четыре месяца. А это уже много, я не проживу, например, столько.
— А что, уже? — спросил Назонов.
— Я думаю, дня три-четыре. Ну, неделя. Мне предложили «Радостный сон», а это значит, уже скоро. Ты знаешь, я думал, что было бы, если я не жалел денег на себя — ну, пошёл бы к тебе, я ведь знал обо всём.
Именно поэтому я тебя так ненавидел, ты — молодой, здоровый, девки утром с тобой выходят. Каждый раз разные. А я сэкономил, да.
Сосед отпил кислого пива, и взмахнул рукой:
— Нет, всё равно бы не хватило — разве б ты помог?
Наконец, Назонов понял, зачем пришёл сосед. Он замаливал свой грех — именно сосед донёс дружинникам на Назонова. Съедаемый своей смертью по частям, он фотографировал Назоновских посетителей, он вёл, наверное, опись жизни Назонова. Болезнь жрала тело соседа, каждый день, каждый час откусывала от его жизни маленький, но верный кусок.
И вот теперь они сидят вместе за столом и пьют дрянное пиво, а в печи уже поспело варево, плотное и пахучее, не то суп, не то каша.
Сидят два мертвеца в круге электрического света, и кто из них умрёт первым — неизвестно.
Назонов достал из печи котелок, а из шкафа тарелки с приборами. Они ели медленно, и сосед вдруг сказал:
— А правда, что у нас внутри электричества нет? Иначе говоря, не везде оно есть.
— Ну почему нет? Есть — только не везде. Немного его есть, а так больше химия одна.
— Значит, всё-таки есть… Один человек, кстати, понял, что будут судить и запасся динамо-машиной. Крутил педали, да всё без толку. Так и умер, верхом на этом своём велосипеде — уехал в никуда. Сердце остановилось — он загнал сам себя. Твой дурацкий юг вроде этого динамопеда, не надо тебе туда. Стой, где стоишь.
— Наверное. Наверное, да. — Назонов норовил согласиться, потому что разговор уже мешал. Те несколько минут, когда в комнате сидели два мертвеца, прошло. Нетерпение поднялось внутри Назонова, расшевелило и оживило его. Мертвец в комнате теперь был только
один, и вот он задерживал живого. Дохлая лягушка в кувшине мешала живой молотить лапками и сбивать масло.
— Хочешь, я тебе зажигалку подарю? — спросил сосед.
— Конечно, пригодится. Мне теперь всё пригодится.
Закрыв за соседом дверь, Назонов аккуратно поставил зажигалку в шкафчик — после полуночи она уже не зажжётся в его руках. Таймер точно в срок отключит механизм и будет ждать другого владельца — спокойно и бездушно.
В одном сосед был прав. Назонов не станет умирать под забором. Но никакого южного пути не будет, он двинется на север. Это тоже не даёт особой надежды, но лучше сделать два свободных шага, чем один.
Назонов огляделся и вытащил из шкафа рюкзак. Несколько простых вещей — что может быть нужнее в его положении? Нож, комбинезон и запас концентратов. Комбинезон он покупал специально простой, без внешней синхронизации. То есть боты, поддерживавшие в нём температуру, не сверялись самостоятельно с датчиками погоды и состояния, и через какое-то время они начнут шалить, дурить. Они перестанут латать дыры и слушаться хозяина. Комбинезон умрёт — может быть, в самый неподходящий момент. Зато этим — не нужно внешнее электричество, а только тепло Назоновского тела. Говорят, раньше люди собирали себе в тюрьму специальный чемодан, в котором была одежда и еда. Теперь тюрем нет, но чемодан у него есть.
Он готовился к месяцу, в худшем случае — двум, чтобы потом вернуться. Теперь это будет навсегда. Это будет навсегда, потому что он готовился нарушить закон окончательно и бесповоротно.
Поэтому, наконец, он достал из шкафа Крысоловку.
Предстояло самое трудное — надо было ловить крысу. Крыса куда хитрее и умнее дружинников, она бьётся за свою жизнь каждый день и каждый день перед ней реальный враг. Но Назонов был готов к этому — ещё года два назад он изобрёл «гуманную крысоловку». Патент продать никому не удалось — городским структурам он был не нужен, для гражданина — дорог, а, по сути — бессмыслен. Ну, поймал ты гуманно крысу, а что с ней потом делать? Остаётся негуманно утопить.
Теперь Крысоловка дождалась своего часа.
В падающих на Город сумерках Назонов установил крысоловку вблизи торговых рядов — там, где торчали из земли какие-то вентиляционные патрубки. Он вдавил стержень внутрь коробки, и жало раздавило где-то там внутри ампулу с приманкой.
«Пока я ничего не нарушил, пока — подумал он. — Да и Personalausweis не позволил бы мне ничего сделать. Механика и химия спасают меня. Но это пока».
Крысоловка заработала. Назонов не чувствовал запаха, да и не для него он предназначался. Он спокойно ждал на медленно отдающей тепло осеннего солнца земле.
Несколько крыс уже билось за возможность пролезть внутрь. Наконец, расшвыряв остальных, туда проникла самая сильная. И тут же остановилась в недоумении — голова крысы оказалась зажата. Назонов, вдохнув глубоко, вынул нож и, заливая кровью руку, срезал РА со своего запястья. Потом, смазав тушку крысы клеем, прилепил аусвайс ей на спину. Почуя запах крови, крыса забилась в тисках сильнее.
«Вот и всё. Теперь меня нет, — подытожил он. — Вернее, теперь я вне закона».
Если раньше он был осуждённым членом общества, то теперь он стал бешеной собакой, кандидатом на уничтожение.
Но, так или иначе, крыса теперь будет жить в Городе — за него. Пока не подохнет сама или пока товарищи не перегрызут ей горло. Тогда она остынет, и Personalausweis выдаст сигнал санитарам-уборщикам, что начнут искать тело Назонова. Но это случится не скоро, ох, не скоро.
Запоминая эту секунду, Назонов помедлил и нажал на рычаг крысоловки. Крыса, прыгнув, исчезла в темноте.
Самое сложное было найти просвет в ограде. К этому Назонов как раз не подготовился — никто из его знакомых не знал, как выглядит ограда. Никто из них никогда не был на границе Третьего Рима. Тут можно было только надеяться.
Он специально вышел точно к контрольному пункту рядом с монорельсовой дорогой. Здание караулки было встроено в ограду — одна половина на этой стороне, а другая — на той. Ветер ревел и свистел в электрической ограде. Назонов забрался на крышу и пополз вдоль бортика. Крыша была выгнутой, прозрачной, и Назонов видел, как в ярком электрическом свете сидит внутри сменный караул, как беззвучно шевелят губами дружинники, как один из них методично набивает батарейками рукоять своего пистолета.
Но никто не услышал движения на крыше, и Назонов благополучно свалился по ту сторону своего Города. Бывшего своего Города.
Конечно, его обнаружили бы легко. Да только никто не верил в его существование — он был мелкой взбунтовавшейся рыбой, рванувшей сквозь ячейки электрической сети.
И вот он шёл по тропинке вдоль монорельса, шёл по ночам — не оттого, что прятался от кого-то, а просто днём можно было спать на пригреве или искать не учтённую цивилизацией ягоду.
Он шёл очень долго, ориентируясь по реке, что текла на Север. Ему повезло, что дождей в эту осень не было.
Наконец, холод пал на землю, выстудил всё вокруг, и река встала. Назонов спал, и в бесснежном пространстве его снов, и в пространстве вокруг него не было электричества. Он проспал так два дня, кутаясь в шуршащее одеяло из сухой листвы и травы — одеяло распадалось, соединялось снова, жило своей жизнью, как миллиарды микророботов, забытых своими создателями.
Когда он проснулся, то увидел, что река замёрзла до дна — было видно, как застыли во льду рыбы, некоторые — не успев распрямиться, ещё оттопырив плавники. Назонов пошёл по поверхности того, что было рекой дальше. Комбинезон ещё грел, но начиналось то, о чём его предупреждали — тепло от умной одежды шло неравномерно, и отчего-то очень мёрзли локти.
Сумасшедшие боты, перестраивали себя, воспроизводили, но никто, как и они сами, не знал, зачем они это делают. Назонов не стал задумываться об этом, просто отметил, что надо торопиться. Из памяти Назонова роботы уползали, как муравьи из своего муравейника, но в отличие от муравьёв, безо всякой надежды вернуться.
Может, и здесь, где-нибудь под снегом, жили колонии крохотных роботов, дезертировавших из армии или случайно занесённых ветром с нефтяных полей. Они тщетно старались очистить что-нибудь от нефти или уничтожить несуществующих мусульман по этническому признаку, но скоро забыли смысл своего существования. О них забыли все, и не было от них ни вреда, ни пользы.
Наконец Назонов нашёл избушку — дверь отворилась легко, будто его ждали. Внутренность избушки была похожа на картинку из сказки — всё, что было внутри, топорщилось тонким пухом инея. Но первое, что он увидел, происходило из другой сказки, совершенно не детской — перед печуркой сидел на коленях человек с электрической зажигалкой в руке.
Из электричества тут были только грозы — но до них было ещё полгода.
Человек был точь-в-точь как живой, только успел закрыть глаза, прежде чем замёрзнуть. Замёрзли дорожками по щекам и его последние слёзы.
Из открытой дверцы печки торчали тонкие щепки дров и сухая кора.
Назонов только чуть-чуть подвинул предшественника и принялся орудовать своим диковинным кремнёвым механизмом. Огонь разгорелся, замороженный незнакомец с помощью нового хозяина пересел на улицу, оставив у огня целый мешок концентратов. Но главным для Назонова были не чужая одежда и припасы, а то, что он на верном пути.
Ещё два дня он шёл по твёрдому льду в предчувствии находки — и внезапно обнаружил обветшавшие здания компрессорной станции — отсюда на север вёл газопровод.
Внутри трубы были проложены рельсы, на них сиротливо стояла тележка ремонтного робота — большого, но с мёртвой батареей.
Запустив двигатель, он медленно поплыл в темноте железной кишки.
Мерно постукивали колёса. Робот пытался напитать свой аккумулятор, поморгал лампочками, да и заснул. Так Назонов добрался до края великого леса. И в тот же момент увидел людей.
Они смотрели на него из-за кустов и стволов деревьев. Глаза их были насторожены, но не злы, глаза ворочались в щелях головных платков и в узком пространстве между шапками и кафтанами.
Назонов медленно повернулся перед этими глазами, показывая пустые руки — так, на всякий случай. Тогда кусты выпустили девочку в платке, и она, приблизившись, крепко схватила его за руку. Вместе они сделали первые шаги вглубь леса.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
20 июня 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-06-26)
У меня был, кстати, случай, когда корректор журнала «Если» (это был такой фантастический журнал, и, кажется, его сейчас реанимировали), мне исправила в тексте «на пригреве» на «на припёке».
Обыденное сознание, может его хочет вставить. Оно хочет как лучше, всегда хочет, как лучше. По этому поводу, кстати, есть хорошая история: «Арсений Тарковский рассказывал, как однажды Мандельштам читал ему только что написанное стихотворение, начинающееся так:
Довольно кукситься, бумаги в стол засунем,
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа…
— Вы, вероятно, ошиблись, — робко заметил Арсений. — Не Франсуа, а Антуан — так рифма точнее.
Мандельштам повернулся, презрительно покосился на Тарковского и патетически воздел руки к небу:
— Боже мой, у него совсем нет слуха»!
[3]
В этой же книжке есть сноска: «Подобный эпизод описан и в воспоминаниях Семена Липкина; только он утверждает, что разговор Мандельштама о рифме в данном стихотворении произошел с ним, а не с Тарковским».
Вот это-то и интересно: Тарковский судя по всем воспоминаниям был не склонен тырить чужие эпизоды.
Это вообще чрезвычайно интересная история — когда двое делят воспоминания.
А вдруг мы имеем дело с целой чередой поэтов, и выгоняя на лестницу Тарковского, Мандельштам кричит:
— Липкин уже приходил! Уроды! Понимали б чо в поэзии!
Всё утихает.
И вот раздаётся робкий стук в дверь:
— Осип Эмильевич, это Слуцкий. Я только что прочитал ваше стихотворение… Про парикмахера… И вот что я подумал: а, может, заменить там имя…
Извините, если кого обидел.
26 июня 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-06-26)
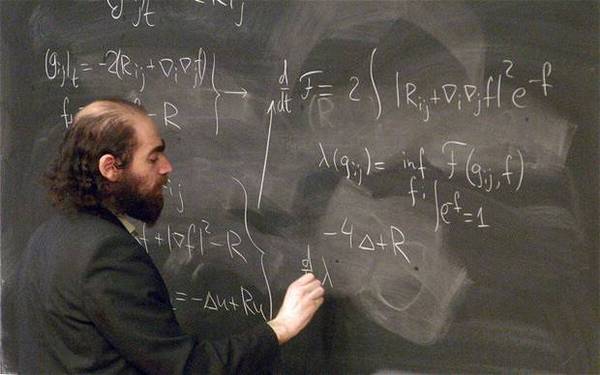
О!
Вот у Губайловского хороший текст (я кое с чем бы там поспорил, но только с кое-чем):
http://novymirjournal.ru/index.php/blogs/entry/silnee-chem-million-o-grigorii-perelmane
Извините, если кого обидел.
26 июня 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-06-27)

Снова всплыла тема литературного воровства — то есть, кражи литературной продукции. Она время от времени выплывает в социальных сетях и теперь, в начале двадцать первого века выглядит всё комичнее.
Меня эта тема занимала давно — не упущу возможности автоцитаты: «О сюжет! — как говорил о таких коллизиях один полотёр. Впрочем, приёмка идёт по весу — и это уже справедливо сказал один настоящий классик. А сюжетов много — другой классик, успешный режиссёр, говорил, что ничего оригинального на свете вообще нет. И дальше этот режиссёр прямо-таки кричал: “Крадите всё! Крадите то, что вдохновляет вас или дает пищу воображению!” Он призывал хватать и вставлять в произведение старые и новые фильмы, любые книги, картины, фотографии, стихи, сны, случайные разговоры, архитектуру, мосты, дорожные знаки, деревья, облака, воду, свет и тени. Фокус здесь в том, что для кражи нужно выбирать только то, что трогает напрямик вашу душу. И ничего не скрывайте”, — говорил этот режиссёр, — “наоборот устраивайте праздник, когда всё удалось”. И сам уже цитировал своего предшественника: “Не важно, откуда вы берете, важно — куда”».
Это, собственно, из книги, обложку которой рисовал знаменитый художник Камаев, и в которой легко угадывается автор идеи — Андрей Рублёв.
Но с этой темой кражи — сущая засада.
Одним удаётся, а другим нет. И сразу хочется разобраться — в чём тут дело, в везении, или же в некоей методе.
Раньше, во время медленного распространения печатных текстов, воровали тоже медленно. Воровали лейбл (как в случае с "Дон Кихотом"), переписывали в книги сюжеты иностранных фильмов — как во время детективного бума девяностых.
Теперь пришла пора фольклора.
Я много лет, с момента, наверное, появления сайта Вернера «Анекдоты из России», наблюдаю пересказы одних и тех же сюжетов, предварённые словами: «Мой приятель вернулся с дачи, и вот что рассказал…»
Причём рассказчик всегда дистанцирован от происходящего: «у нас в полку», «брат вернулся из Америки и вот что там было», etc. Эта дистанция всегда очень маленькая, чтобы лучи славы очевидца всё же упали на рассказчика, на всю его бессмысленную жизнь (такую же бессмысленную, впрочем, как и моя), но расстояние между произошедшим всегда есть — как спасательная и спасительная соломинка чужой ответственности.
Уже тоже довольно давно случилась история с Задорновым и хатуль-маданом. Это история была срамная, но и из неё можно много что вывести.
В первую голову то, что мы живём во время кризиса понятий.
Как устроено авторство в современном мире, до конца ещё не прояснено. Не в меру начитанный человек сразу вспоминает словосочетание «смерть автора» и даже помнит, что это откуда-то из французов, но дальше ничего не помнит. «Смерть автора» — и значит, его нет, и всё можно.
Впрочем, это уже не из французов.
Оттого и важна фраза Годара, которая приведена выше.
Ну и более всего порицаемо воровство as is, которое как раз демонстрировала наивная сорокалетняя дама.
За это ей, кстати, спасибо, потому что она человек незамутнённый и полезным образом проговаривала вслух свои наивные суждения.
«Зарабатываю деньги, все работы хороши <…> Мне нужны были коменты. Для достижения цели все средства хороши. <…> Лучше бы сами что-то залежалое в сети нашли и состряпали из этого немного позитива для друзей».
То есть, это возврат к такому прошлому, где автор скоморошьего бормотания был, но его никто не спрашивал, а когда, как в известном фильме режиссёра Тарковского, скомороха били, то он и не высовывался.
История, правда, помнит и компромиссный вариант: человек говорит о соавторстве — либо с хтоническим началом (я нашёл алмаз и огранил его), либо с малосопротивляющимся автором.
Вспоминают в связи с этим, что певец Михаил Звездинский объявлял на концертах, что написал песню «Очарована, околдована» — в соавторстве с Николаем Заболоцким.
Вот поэтому главным объектом умыкания стал современный фольклор, тем более, что статья 1259 Четвёртой части ГК в своём пункте третьем прямо говорит: «Объектом авторского права не являются произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов».
На этом построена деятельность большего количества отечественных юмористов (см. казус Задорного с хатуль-маданом). То есть, хтоническая среда социальных сетей представляется таким варевом без автора (автор там есть, но хочется, чтобы его не было, да и что за автор sss1992 и podliza12?).
Итак, мы рассуждаем о весёлом литературном воровстве и воровстве скучном.
Важнее всего — какая работа произведена над украденным.
Да, ещё, чтобы не забыть — у меня в жизни был случай обратного перехода — то есть, из литературы в фольклор.
В детстве я, как и многие мальчики Советской страны, ездил в пионерский лагерь. Был я там несколько раз, но в первый — мне удивительно повезло с вожатым.
К несчастью, я не знаю его фамилии, но испытываю к нему благодарность до сих пор. Во-первых, он по но ночам выводил нас к костру на территории лагеря, и мы, маленькие бандерлоги, смотрели на огонь. Во-вторых, мы у этого костра рассказывали страшные истории — и сам вожатый тоже.
Первую я запомнил слово в слово — там был один крестьянин, что ехал на телеге и увидел под мостом барашка, барашек был очень милый, и крестьянин взял его с собой. И вот, крестьянин гладил барашка — бяша-бяша-бяша, пионерский костёр потрескивал, дети слушали, и вдруг барашек открывал зубастую пасть и злобно повторял: «Бяша-бяша-бяша».
Ещё одну историю услышал я у этого костра, историю про молодого офицера, что ехал по своим делам во время войны 1812 года и останавливался в маленькой деревне где-то в Карпатах, и крестьяне шептались, что дед стал упырём, и вот уже вся семья подалась, и вот, в конце, офицер несётся по пыльной горной дороге, а за ним мчится стая упырей.
И третья история была рассказана у того костра — про двух казаков, один из которых убил другого, и стонали мертвецы, и дрожали карпатские горы, и месть была страшна.
Не знаю, что стало с этим вожатым — кажется, он был только что из армии, вожатыми в наш лагерь брали не профессионалов, а просто сотрудников Конструкторского бюро им. Микояна, и неизвестно мне имя этого человека.
Но именно тогда, комариной ночью в Тучково, я ощутил величие русской литературы.
Между прочим, а не помнит ли кто ещё примеров перевода литературы в фольклор — я, кроме «плана Даллеса» из романа Иванова, не могу припомнить навскидку?
Извините, если кого обидел.
27 июня 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-06-27)
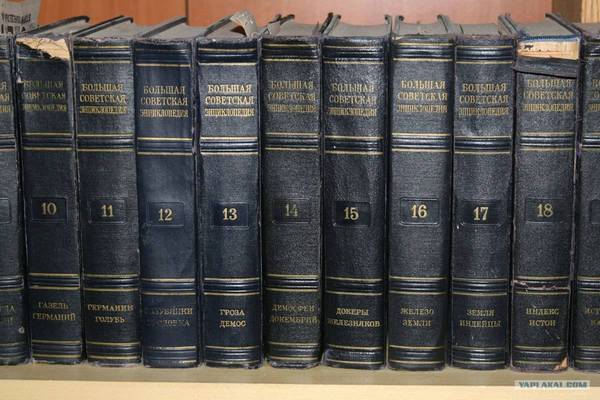
У меня был тесть.
Эко невидаль, скажете вы. Но дело в том, что у меня был тесть-шахматист. Ну, в прочей жизни он был математик, но речь идёт о шахматах.
Дело в том, что мы с ним как-то завели разговор о стратегической роли шахмат, и об особых навыках шахматиста. Я играл в детстве, и даже имел детский разряд (теперь, кажется, это понятие кануло в бездну вместе с октябрятскими звёздочками). И вот он сказал мне веско, что если человек хорошо играет в шахматы, это означает только то, что он хорошо играет в шахматы. Это не означает того, что он выдающийся стратег или лучше соображает.
Это означает только то, что он хорошо играет в шахматы.
С эрудитами ровно тоже самое — это состояние значит только то, что человек помнит многое из прочитанного.
Это не означает даже, что он может хорошо обрабатывать информацию.
Меня давно занимала история с Вассерманом.
Казус Вассермана действительно очень интересен.
И для меня он заключается в том, что он совершенно не может спекулировать своей эрудицией.
А ведь он обладает именно не знаниями, которые предполагают систему и методы обработки, а эрудицией.
То есть, любой другой мало-мальски начитанный человек использует свои знания как инструмент. Некоторые — так, будто шулеру открылась возможность видеть сквозь рубашку карты, другие, для убыстрения работы. Наконец, можно использовать эрудицию для обольщения.
В общем, можно с ней что-то делать.
Ну, или отстаивать свои химерические построения на фоне неполного знания других, применяя нехитрые риторические приёмы.
Меж тем Вассерман городит какую-то хуйню и пользуется только урожаем на первом ходе. При первом же возражении он становится в тупик, вращает глазами и жужжит наподобие застрявшего робота.
Причём это возражение (не только от специалиста, не об этом речь), но просто от логически размышляющего человека, не так сложно отбить, будучи человеком циничным.
Игроком, даже не обязательно шулером.
Другой бы уже улыбнулся публике, кинул на лопате говна в оппонента, снова улыбнулся, присыпал бы сказанное новой химерой, а Вассерман стоит, будто ему ещё не посчитали очки в «Своей игре».
То есть, я скажу проще — Вассерман работает с невежественным слушателем, который в силу каких-то, быть может, уважительных причин, не прочитал Второе издание Большой Советской Энциклопедии насквозь, и он, этот слушатель, испытывает закономерное уважение к прочитавшему и запомнившему.
Но дальше вступает закон интерпретации и порождения новых смыслов, а Вассерман никаких смыслов не порождает, а является просто энциклопедией с устройством вывода через гортань и голосовые связки.
Оттого он и проигрывает узкому специалисту, или просто специалисту в конкретном вопросе — будь это истории польских пленных в Катыни или мировая экономика.
То есть, это такой человек, что оснащён памятью Википедии.
Вот, кстати, с Википедией в этом случае — хороший пример.
Потому как наша, русская Википедия суть пространство неожиданностей, как сама Россия.
И гипотетический Вассерман-2, состоящий из обычного человека, оснащённого мобильником с Интернетом, оказывается транслятором иногда нормальных вещей, а иногда — невообразимой хуеты и даже стиль этой трансляции совершенно непредсказуем.
И действует не хуже Вассермана — с поправкой, разумеется, на быстроту интернет-соединения.
А спроси этого человека что-то поперёк, так он зажужжит, глазами завращает — будто застрявший робот колёсиками.
Извините, если кого обидел.
27 июня 2015
(обратно)
Высокое небо Рюгена (День советской науки. Третье воскресенье апреля) (2015-06-28)

За окном дребезжал трамвай, плыл жар летнего дня, асфальт медленно отдавал тепло, накопленное за день. Семья уехала на дачу, героически пересекая жаркий город, как путешественники — африканскую пустыню. Жена настаивала, чтобы ехал и он — но нет, удалось отбиться. Обидевшись, жена спряталась за картонками и узлами, а потом исчезла вместе с шофёром в гулкой прохладе подъезда.
Дверь хлопнула, отрезая его от суеты, обрекая на сладкое молчание.
Он так любил это состояние городского одиночества, что мог поступиться даже семейным миром.
Чтобы не позвонили с киностудии или из издательства, он безжалостно повернул самодельный переключатель на телефонном проводе. В квартире всё было самодельное, и среди коллег ходила острота, что один из главных героев его книг, яйцеголовый профессор, списан с него самого.
Николай Николаевич действительно был изобретателем — стопка авторских свидетельств пылилась в шкафу, как тайные документы второй, неглавной жизни. Там, описанное на толстой бумаге, охранялось его прошлое — бумага была, что называется, гербовой — авторские свидетельства были освящены государственным гербом, где серп и молот покрывал весь земной диск от края до края.
Он был сыном актёра, кинематографистом по первому образованию. Но началась индустриализация, и он написал несколько учебников — сначала по технике съёмки, а потом по электротехнике. С этого, шаг за шагом, началась для него литература — и скоро на страницах стало всё меньше формул, и больше эпитетов.
Он был известен, и некоторые считали его знаменитым писателем (до них Николаю Николаевичу не было дела), но немногие знали, что до сих пор гравитонный телескоп его конструкции вращает свой хобот на спецплощадке Пулковской обсерватории.
Писать он начал ещё до войны и почти сразу же получил первый орден. С тех пор на стене его кабинета висела фотография — он жмёт руку Калинину. Чтобы закрыть выцветший прямоугольник, оставшийся от портрета Сталина, со стены улыбался Юрий Гагарин из-под размашистого росчерка дарственной надписи.
Да, много лет назад Николай Николаевич был писатель, но однажды, на четыре года, он вернулся к циркулю и логарифмической линейке.
Когда резаная бумага перечеркнула окна, а над городом повисли чужие бомбардировщики, он бросил свои книги и согнулся над привычным плоским миром топографических карт. Он остался один в осаждённом Ленинграде и вернулся к научной работе — но теперь на нём была военная форма.
Своя и чужая земля лежала перед ним — разделённая на чёткие квадраты, и он рассчитывал траектории ракетных снарядов большой дальности. Аномальная кривизна магнитных полей мешала реактивным «Наташам» попадать точно в цель, и вот он покрывал листки вязью формул коррекции. Воевал весь мир — не только Европа, но казалось, Край Света. И то пространство, где земля уходила в бесконечность, (согласно классикам марксизма, превращая количество в качество), тоже было освещено вспышками взрывов.
Специальный паёк позволял ему передвигаться по городу и даже подкармливать друзей. Однажды он пришёл к своему давнему другу — профессору Розенблюму. Розенблюм тогда стал жить вместе со своим другом-радиофизиком.
Николай Николаевич грелся у их буржуйки, не сколько теплом горящей мебели, сколько разговорами. Эти двое размышляли, как им умереть, а вот он оказался востребованным и о смерти не думал.
Розенблюм рассказывал, что востребованным должен быть он, и только по недоразумению сначала началась война с немцами — война должна была произойти с японцами на территории Китая, и уж он-то как востоковед, оказался бы полезнее прочих.
Но больше они обсуждали отвлечённые темы науки.
Николай Николаевич, который никогда не считал себя учёным, жадно запоминал ухватки этой старой академической школы.
Однажды Николай Николаевич пришёл к середине разговора — обсуждали какие-то не лезущие в теорию данные радиолокации.
— Ну, вот представьте — говорил Розенблюм, набив свою золочёную янтарную трубку на что-то обмененной махоркой, — Помните историю про Ли Шиппера, с его видениями армии глиняных солдат, что полезут из могилы? Допустим, что истории про Ци Шихуанди окажутся правдой. Но тут же затрещит наше представление о мире — понятно, что человечество делает массу бессмысленных вещей, но два императора, из которых ошибка переписчика сделала одного Ци Шихуанди, были прагматиками и вовсе не сумасшедшими. Вот жаль, что на прошлой неделе умер академик Дашкевич, он бы сумел подтвердить свой рассказ о том, что в систематике есть такое понятие incertaе sedis, то есть таксон неясного положения, непонятно, куда отнести этот тип, одним словом.
Это существо неясного типа — который традиционно, или по иным причинам не описали как отдельный тип, а в свод признаков других типов оно не вмещается.
И вот учёный его отбрасывает — нет объяснений некоторому явлению, просто нет. И вот тут на арену выходит шарлатан и развивает свою теорию.
— Я встречался с этим, — сказал радиофизик, которому перешла трубка, — у себя. Есть проблемы прохождения и отражения радиоволн, которые не лезут ни в какие рамки. Что с этим делать — решительно непонятно. Но приходят шарлатаны и начинают на этой основе делать выводы о пространстве и времени — та же теория Полой Земли, например…
— Но только кто из нас будет в этом копаться? — принимал обратно трубку Розенблюм. — Потому что мы как те мудрецы, которые не могут ответить на прямой вопрос одного дурака. Мы должны пройти путь этого дурака и медленно, раздвигая паутину, придерживая от падения старый велосипед, корыто, стул без ножки — двигаться по этому захламлённому чердаку. Наконец, мы поймём, что на чердаке ничего нет, но жизнь будет прожита, и мы не выполним своего предназначения.
— Дело в масштабе, — вступил Николай Николаевич. — Мы просто загрубляем шкалу (радиофизик кивнул), и наука продолжает движение. Ну не согласуется явление, и ладно — устроить пляску вокруг него дело буржуазного обывателя. Наше дело — двигаться вперёд.
— У нас есть такое понятие The Damned Data — мы с ним и столкнулись в случае отражения радиоволн, — принялся за своё радиофизик — это результаты измерений, которые подписаны и опубликованы, но никуда не годятся. Когда шаролюбители, что сегодня будут нас обстреливать как по часам, напечатали свою радиолокационную карту мира, нам просто повезло — из-за Гитлера, мы просто сняли этот вопрос с повестки дня.
— Это вам повезло, — позавидовал Розенблюм — у нас, древников, очень силён политический аспект. Ну и деньги, что всегда есть внутри любого древнего захоронения. Хорошо, что я не британский египтолог — обо мне не напишут, что меня задушила мумия, в тот момент, когда меня отравит конкурент. Или просто не сведёт в могилу неопровержимым фактом, разрушив построения — после того как пришли профаны, делать в Египте стало нечего.
Вон, оказалось, что Сфинксы старше самого Египта, пирамиды построены неизвестным способом — подвинуть камни там невозможно — но, говорят, был такой американец Эдвард Лидскальнин, что открыл тайну, построил один какой-то гигантский каменный дом. Я говорил с Аркадием Михайловичем Остманом… Чёрт! Остман, кажется, тоже умер — у нас не приватный семинар, а какая-то беседа с духами!..
Нет, Остман умер… Как это нехорошо!..
В интонации Розенблюма не было ужаса, а была лишь научная досада. Он понимал, что смерть, по крайней мере для него, неотвратима, и был к ней готов. Он был готов даже к тому голодному психозу, который начнётся у него потом, как он превратится в животное. Он это понял, когда съел собственную собаку, с которой прожил много лет. Старый пёс был съеден, и он никому не сказал, что в этот момент почувствовал неотвратимость конца.
— Так вот, Лидскальнин построил свой замок, но его по суду приказали разобрать. Тогда он перенёс его в другое место за считанные дни — нанимал шофёров с грузовиками, выгонял их за ограду и те обнаруживали к утру, что кузова полны каменных блоков. Построил заново, причём — один.
Несчастный Остман написал письмо, хотел поехать посмотреть, но было уже не то время, чтобы ездить… Или вот Хрустальные Черепа. Знаете про Хрустальные Черепа?
Про черепа никто не знал, но Розенблюм решил не отвлекаться, и продолжил:
— И мы приходим к парадоксу: как честные учёные, мы должны признаться, что не знаем — имеем дело с мошенничеством или с открытием. Но нам, советским учёным, повезло — у нас есть парторги, что берут ответственность на себя. Скальпель марксизма отсекает ненужное — правда, иногда с мясом. Вот мои коллеги с ужасом говорили, что на раскопках обнаруживали железные ножи в погребении бронзового века. Было просто какое-то безумие, когда академики — уважаемые люди — рвали у себя на голове волосы — а оказывалось, что кроты притаскивали предметы по своим норам из другого, стоящего рядом могильника.
Кстати, о мёртвых — никто не помнит, жив ли Витгенштейн? Нет? Должен бы — я как-то не следил за ним. Так вот он как-то спросил своего друга: «Почему люди все говорят, что было естественно предположить вращение Солнца вокруг Земли, а не Земли вокруг Солнца?» Тот ответил: «Понятно почему — оптически выглядело, что Солнце вращается вокруг Земли». На это Витгенштейн ответил: "Интересно, как бы оптически выглядело, что вращается Земля?».
Радиофизик, кряхтя, перевернулся другим боком к печке:
— Дело ещё в боязни. Я ведь материалист — что я буду исследовать сомнительную тему. Не объясню какую-нибудь мистику с Полой Землёй, а это пойдёт на пользу германскому фашизму. Я лучше радиовзрыватель придумаю. Марксизм давно объяснил, что плоскость Земли бесконечна, а Эйнштейн доказал, что при движении к несуществующему краю, то есть, на бесконечность, предметы будут менять геометрию и обращаться в точку. А что, если край есть, как на старинных гравюрах, где человек сидит на четвереньках и глядит с обрыва на звёзды внизу? Имеем ли мы право напугать народ сенсацией или проклятыми данными, что сойдут за сенсацию? Вдруг они обезумеют, узнав, что мы оказались не на плоской твёрдой земле, а в окружности ледяного тающего шара?..
Лёд, и правда, окружал умирающих профессоров. Умирала в буржуйке антикварная мебель, и, проснувшись поутру, Николай Николаевич, будто крошки в кармане, перебирал в памяти осколки замёрзшего в комнате разговора.
И снова все свои рабочие часы проводил Николай Николаевич над картой плоской Земли.
Он работал не разгибаясь — в прямом и переносном смысле. Даже спал он, скрючившись на детском матрасике рядом с буржуйкой, где горели старые чертежи и плакаты ОСОАВИАХИМа. Начальство позволило ему разогнуть спину только один раз — весной сорок второго. Тогда его вызвали к начальнику института. Начальник сидел за своим столом, но Николай Николаевич сразу понял, что гость, примостившийся на подоконнике, куда главнее. Гость носил две шпалы на малиновых петлицах — не так велик чин, сколько было власти в пришельце. Николай Николаевич сперва даже не обратил внимания на коньяк и шоколад, стоявшие на столе — о существовании и того, и другого он забыл за блокадную зиму.
Гость сразу спросил про «Поглотитель НН» — это было старое изобретение Николая Николаевича, появившееся ещё в начале тридцатых. Он придумал порошковый рассеиватель радиоволн, которым можно было обрабатывать самолёты до полной невидимости на локаторах.
Тогда оно чуть было не стало распространённым — но предыдущий начальник института вдруг исчез, исчез и его заместитель, не пришёл с утра на службу руководитель проекта, и Николай Николаевич понял, что его «Поглотитель НН» изобретение ненужное, если не вредное.
Но теперь, первой военной весной оказалось, что это не так. Николай Николаевич не ждал от человека с двумя шпалами добра — он мог сделать дурацкое предложение, от которого нельзя отказаться. Например, покрасить поглотителем один из двух уцелевших дирижаблей, которые были построены для трансокеанского перелёта к Краю Света, да так никогда и не взлетели.
Перспективы бомбардировочных дирижаблей Николай Николаевич оценивал весьма скептически.
Но то, что он услышал, его совсем расстроило — его спрашивали, можно ли за несколько дней изготовить несколько тонн порошка, годных для распыления.
Полк дальней бомбардировочной авиации Ленинградского фронта был подчинён ему, человеку в мешковатом штатском костюме.
Огромные четырёхмоторные машины ждали, пока в бомбовые отсеки установят распылители, и каждый из аппаратов Николай Николаевич проверил сам.
За день до вылета аэродром накрыли «Юнкерсы» — воронки на полосе засыпали быстро, но был убит штурман полка. В общей неразберихе Николай Николаевич проигнорировал приказ остаться на аэродроме. Через стекло штурманской кабины он смотрел, как взлетают гигантские петляковские машины и исчезают в утреннем тумане. Когда от земли оторвался и его самолёт, то Николай Николаевич почувствовал полное, настоящее счастье.
Николай Николаевич сидел, скрючившись над картой плоского моря несколько часов. Он рассматривал круги и стрелки на метеокарте, прикидывал границы атмосферных фронтов и скорость их движения. Вновь получал новые метеосводки и опять вычерчивал движение воздушных масс над Балтикой. Впрочем, вся Балтика его ничуть не интересовала — лишь безвестный остров Рюген был для него важен. Лишь то место, к которому приближались бомбардировщики — два из них разбились при взлёте, а два были сбиты сразу. Ещё два упали из-за отказа двигателей, и чёрная вода сомкнулась над ними навсегда.
Но вот остатки полка прошли Борнхольм и вышли к Рюгену. Строй был нарушен, и часть машин, так и не замеченная истребителями ПВО, зашла со стороны Померании, а другая двигалась к точке распыления с севера.
С задания вернулись лишь три экипажа — и его товарищи были третьим, последним долетевшим на честном слове и одном крыле. Николай Николаевич получил орден Красной Звезды через год, в начале сорок третьего — только теперь его вручали не в Кремле, старичок с седой острой бородкой уже не тряс ему руку. Его просто попросили расписаться в спецчасти, и выдали красную коробочку с орденом и орденской книжкой. Формулировка была расплывчата «За образцовое выполнение задания командования».
История закончилась, он должен был всё забыть. Оказалось потом, что его приказ о награждении был соединён с приказом о кинематографистах — оттого многие думали, что орден получен за какую-то кинохронику, снятую в блокадном Ленинграде.
Это помогало забвению. Он и забыл — на три долгих года.
Лишь в первый послевоенный год, когда он прилетел в советскую оккупационную зону принимать трофейное оборудование, история получила продолжение.
Его опять вызвали к начальству — и снова он увидел того же самого человека, и по-прежнему от него исходила эманация власти. Только теперь тот был в мундире, расшитом золотом. Николаю Николаевичу дали расписаться сразу в нескольких подписках о неразглашении, после чего он увидел перед собой личное дело немца Берга. Строчки русского перевода, второй экземпляр машинописи, фотографии и чертежи — Берг умер в концлагере за неделю до того, как танковая рота Красной Армии ворвалась туда, давя охрану гусеницами.
Николая Николаевича ни разу не спросили о том полёте над Балтикой, его просили дать заключение о некоторых технических деталях дела Берга.
На первых снимках Берг был радостен и весел — вот он в лётной форме, в обнимку с Герингом, а вот рядом с радарной установкой на том самом острове Рюген.
Берг пытался доказать, что Земля сферична, а эта сфера заключена в бесконечное пространство космического льда. Направляя локаторы вверх, он ждал отражения от противоположной стенки полой Земли.
А он, Николай Николаевич, не видный на фотографии, но определённо существующий где-то на заднем плане, за облаками внутри дальнего бомбардировщика Петляков-8, согнутого над картой плоской земли, был тем, кто, исполняя чужую, высшую волю, убил бывшего лётчика Берга.
С последних фотографий на Николая Николаевича глядел хмурый старик в кителе со споротыми знаками различия. Берг умирал, он был обречён с того самого момента, как повернулись в рабочее положение раструбы распылителей и «Поглотитель НН» превратился из прессованного порошка в облака над Рюгеном. Нет, даже с того самого момента, как Николай Николаевич, неловко переставляя ноги в унтах, забрался на штурманское место внутри бомбардировщика.
Бергу не помогло ничего, даже дружба с Герингом (они вместе летали во время Первой мировой войны). Берга уничтожил не Гиммлер, а группа таких же лжеучёных, как сам бывший лётчик Берг. Они проповедовали не менее фантастичную теорию шарообразной Земли, но не полой, а летящей в космической пустоте как пушечное ядро. Пауки Гиммлера съели несчастного Берга, слывшего креатурой рейхсмаршала Геринга, воспользовавшись неудачным экспериментом на Рюгене.
Берг не получил отражения от гипотетической противоположной стороны Земли — и стал обречён.
Говорили, что Берг дружил с Хаусхофером, известным теоретиком нацизма, и что когда Хаусхофер застрелился в сорок шестом при невыясненных обстоятельствах, первым, что изъяли американцы — была вся его переписка с несчастным сумасшедшим географом.
Несмотря на глухой лязг Железного занавеса, плоский мир был един, и все его силы от центра до Края Света вместе стояли на страже тайны.
«Поглотитель НН» потом совершенствовался — но уже без него, и вскоре его инициалы исчезли из названия. Идея оказалась плодотворной и широко применялась в ракетостроении, а он занимался своими книгами, пионеры на встречах аплодировали ему, Николаю Николаевичу повязывали красный галстук (этих галстуков у него собралось два десятка).
Лишь иногда он вспоминал о несчастном немце, что не верил в плоскую землю. А с каждым годом Николай Николаевич верил ему всё больше.
Его давний товарищ, чьи разговоры он слушал у чуть тёплой буржуйки в блокадном городе, после войны стал академиком. Он исчез ненадолго, но вернувшись откуда-то с востока, где полыхало пламя маленькой войны, оказался в фаворе. Напившись после торжественного ужина в Академии, он поймал приглашённого туда же Николая Николаевича за пуговицу и стал рассказывать о новой интерпретации опытов Майкельсона. Речь потекла гладко, но тут новоиспечённый академик осёкся. Николай Николаевич увидел в его глазах страх, которого не замечал тогда — в вымороженную и голодную зиму сорок второго года.
Академику, впрочем, эта запоздалая осторожность не помогла — он исчез точно так же, как исчезали давнишние начальники Николая Николаевича. Не помогли академику его звания и ордена — видимо, он был чересчур говорлив и в других компаниях.
Николай Николаевич вновь остался наедине с тайной — и ломкие страницы древних книг были слабой помощью. И древние авторы были забыты, и сгинули потом в иной, страшной лагерной безвестности их переводчики. Те, кто поднял голову против устаревших теорий Пифагора и Аристотеля в Средние века, кого бросали в тюрьмы за речи о плоской природе Земли, цитировали своих оппонентов — и за этими цитатами всё же оставалась часть правды. Когда в шестом веке была опубликована «Христианская топография» Козьмы Индикоплова, этот просвещённый купец, первый из европейцев приблизившийся к Краю Света, стал только первым в цепочке мучеников за науку. Всё дело в том, что Библия не говорила впрямую, кругла ли Земля или плоскость её, правда, не очень гладкая, уходит в бесконечность. Великие атомисты — Левкипп и Демокрит стояли за плоскую Землю, но Демокрит допускал дырку в земной бесконечной тверди. Споры о наследстве древних тогда разрешил Блаженный Августин, который провозгласил эту тему вредной, как не относящуюся к спасению души.
С тех пор говорить о Полой Земле стало чем-то неприличным, вроде серьёзного разговора о Вечном двигателе.
В пятьдесят втором Николай Николаевич попал на дискуссию вулканистов и метеоритчиков, что не могли договориться о строении Луны. Там к нему подошёл совсем молодой человек, и, воровато озираясь, начал расспрашивать о Берге. Этому мальчику что-то было известно, но он темнил, путался, даже покраснел от собственной отваги.
Николай Николаевич сделал пустое лицо и отвлёкся на чей-то вопрос.
Но было понятно, что тайна зреет, набухает — и долго она продержаться внутри него не может.
Поднялись над плоскостью первые космические аппараты — второй космонавт Титов обнаружил искривление пространства, благодаря которому вернулся почти в ту же точку. О магнитной кривизне были напечатаны тысячи статей, но Николай Николаевич только морщился, видя их заголовки.
Плоские свойства Земли были известны ещё со времен Средневековья — в каждом учебнике по физике присутствовал портрет старика в монашеской рясе.
Иногда Николай Николаевич вспоминал этого высушенного страданиями старика — таким, каким он изображался на картинках.
Вот старик на суде, его волокут к костру, но из клубов дыма доносится «И всё-таки, она плоская»!
Он представил себе, как его самого волокли бы на казнь, и понял со всей безжалостностью самоанализа — он не стал бы кричать. Дело не дошло бы ни до костра, ни до суда.
Плоская или круглая — ему было всё равно, с чем согласиться.
Им
были написаны десятки книг — и в том числе научно-популярных — и противоречий не возникало.
Но что если Земля — это лишь пустая сфера внутри космического льда? Смог бы старик-монах принять так легко смерть, если бы знал, что умирает не за истину, а за научное заблуждение? Вот так легко — шагнуть в огонь, но при этом сомневаясь.
Пустая квартира жила тысячей звуков — вот щелкали время ходики, точь-в-точь как сказочная белочка щёлкает орехи, вот заревел диким зверем модный холодильник. Николай Николаевич сидел перед пишущей машинкой, и чистый лист бумаги, заправленный между валиками, кривлялся перед ним.
На этом листе могла быть тайна, но страх за свою жизнь не оставлял. Время утекало, как вода из крана в ванной. Он слышал удары капель в чугунный бубен ванной и вздрагивал.
Жизнь была прожита — честная славная жизнь, страна гордилась им, он был любим своей семьёй и честен в своих книгах.
Пришло время сделать выбор — и он понял, что можно выкрикнуть тайну в пустоту. Он знал, что именно так поступил придворный брадобрей, который, шатаясь под грузом этой тайны, пробрался к речному берегу и бормотал в ямку, чтобы земля слышала историю о том, что у царя — ослиные уши. Чтобы поведать эту тайну плоской и влажной земле у реки брадобрею тоже понадобилось изрядное мужество.
Николай Николаевич начал печатать, первые абзацы сложились мгновенно — но главное будет дальше.
Маленькие человечки отправятся к Луне. К полой Луне — кому надо, тот поймёт всё.
Нет, какое-то дурацкое название для его героев — «человечки».
Пусть будут «коротышки».
Коротышки отправятся к Луне и увидят, словно косточку внутри полого шара, прекрасный новый мир себе подобных.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
28 июня 2015
(обратно)
Память льда (День антарктиды. 21 июня) (2015-06-29)

Раевский смотрел на угли, что дрожали, умирая. Костёр догорал, и пора было возвращаться в дом.
Какой-то сумасшедший жук бился в лампочку над забором. Он упал, наконец, но на смену ему тут же явился новый.
— Ты помнишь, как мы слушали иностранное радио? — спросил Раевский. — Тогда, в детстве? Мой отец слушал его давным-давно, так же у костра. И так же я слушал.
— А? Что? — переспросил его Гамулин.
— Да нет, ничего. — И Раевский поворошил палкой угли в костре.
Старинный радиоприёмник из тех, что когда-то носили на плече, как гранатомёт, мигал рядом лампочками, хрипел, но исправно говорил на разные голоса.
Рассказывали о дележе Антарктиды. Антарктический Договор был не продлён, теперь континент жил по новым правилам, и его территорию поделили минут за двадцать — но не государства, а корпорации. «Корпорации давно сильнее государств, — подумал Раевский. — Впрочем, грех жаловаться, теперь у меня новая работа, и я поеду к пингвинам. Бедные пингвины. Будет им весёлая жизнь».
Он приехал сюда, в маленький дачный посёлок, на свои собственные проводы — тут были старые друзья, особая порода циников.
Что хорошо со старыми друзьями, так это то, что при них не надо хвастаться.
С ними просто невозможно хвастаться.
А мужчины часто хвастаются, когда чувствуют, что их время уходит.
— Ты будешь льдом заниматься? — спросил его зоологический человек Степаныч.
— Я всем буду заниматься. Например, пресной водой.
— Это значит — льдом?
— Ну, да, будем транспортировать айсберги. Оборудование уже завезли.
— Быстро у вас. Ты меня, если что, выпиши. Я бы там низшие формы жизни за харч бы изучил, без оклада. Я могу ещё публике про тайны воды рассказывать — но это уж когда совсем обнищаю. У меня это убедительной выйдет — биоэнергетические потоки и всё такое.
— А почему жучки летят на свет?
— На свет вообще никто не летит. У них просто нарушена навигация: насекомые пытаются держать один и тот же угол к свету, но это хорошо с Солнцем, а вот когда источник света рядом, они летят вместо прямой по спирали, которая кончается в лампочке. Ты спроси меня ещё, как комары нас находят.
— И как?
— По теплу, углекислому газу и влажности.
Они пили виски, очень дорогой, Раевский бы сказал — «бессмысленно дорогой».
Но он сам привёз эти бутылки, потому что давно перестал экономить. Радиоприёмник откашлялся, замер, так что они подумали, что им скажут что-то важное, но эфир разразился рекламой антарктического туризма.
— Ну, что скажешь? — спросил Раевский хозяина, вышедшего из тьмы.
— Скажу вот что: я очень недоволен птицами, что воруют мою паклю из дырок между моими брёвнами, — ответил Гамулин. — Я её каждый год заколачиваю, а они не унимаются. Я оставлял паклю рядом, украшал ей стены, а они вытаскивают её из щелей.
Он обернулся к черноте леса и крикнул:
— Птицы, вы — свиньи!
Ему ответила какая-то ночная пернатая тварь — заухала, загоготала и стихла.
— Я бы бросил всё, — сказал Раевский, вполуха ловя новости из радиоприёмника. — Ушёл бы в язычники. Жил бы тут в лесу, прыгал бы через костры и искал цветущий папоротник на иванкупалу. Совокуплялся бы с кикиморами. И никаких воспоминаний.
— Прыгать — это хорошо, — согласился зоолог. — Тут главное — за куст не зацепиться. А то может выйти неловко. Зацепишься за куст в прыжке — а жизнь идёт мимо. Потухли костры, спит картошка в золе, будет долгая ночь на холодной земле. И природа глядит сиротливо. Месяцы идут за месяцами, облетает листва, выпадает снег, появляются проталины… Глядь — и кто-то снова подтащил на опушку сырые дрова и зажёг костёр. Красота!
Раевский улыбнулся в темноте.
«Одиночество — вот главная кара, — подумал он. — Только эти остряки у меня в жизни и остались».
Гамулин задумчиво сказал:
— А я вот тут научился хлеб печь. Раньше не умел, а теперь — научился. Значит, окончательно я тут укоренился.
Раевский снова улыбнулся, не без некоторой, впрочем, зависти.
Он прилетел на станцию, выкупленную Корпорацией, рано утром. Аэродром был забит туристическими чартерами. Прямо отсюда этих стариков и старух везли к полюсу. Разноцветная толпа (преобладали красный и синий) гоготала, собравшись вокруг нескольких пингвинов. Туристы и сами были похожи на пингвинов — видимо, из-за того, что старики комично переваливались в своих супертёплых комбинезонах.
Пингвины сейчас им были важнее всего, а вот Раевский слышал совсем иной звук, тонкий свист гигантского резака, которым пилят лёд. Если так он слышен здесь, то что творится на рабочей площадке.
Но в этот момент за ним пришёл автобус, и Раевского повезли в гостиницу.
Утром он смотрел в сияющую синь моря, сидя на закрытом балконе.
Там, в грохоте трескающегося льда, рождался новый контур побережья.
Раевский щурился, силясь сквозь солнечные блики разглядеть происходящее. Прямо перед ним был результат работы резака — сколотый треугольный айсберг, уже обмотанный изолирующей плёнкой, готовый начать своё плаванье.
Его, как индусы слона, держали на двух тросах огромные буксиры.
Раевский был инвестиционным супервайзером и давно понял, что есть совсем немного приёмов, чтобы поддерживать свою значимость у тех людей, которым он приезжал с инспекцией.
Мир сжался до размера самолёта и офиса.
В прошлый раз он провёл полмесяца в Заполярье, улетев туда в тонком пальто. Он не пробыл ни минуты на открытом пространстве — войдя в тот мир через телескопический трап аэропорта и так же покинув его через две недели, которые он провёл в офисе, мало отличимом от таких же офисов в пустыне или тайге. Только северные сияния, заливавшие огромное стекло, напоминали о близости полюса.
Отказавшись от сомнительных развлечений в виде скачек на ездовых собаках, он отбыл обратно.
Прогресс сделал своё дело, вернее, деньги сделали своё дело — комфорт был повсюду.
Иногда Раевский думал, что кончится раньше — его век или его специальность. Можно было, конечно, понаставить всюду видеокамер (их, впрочем, и понаставили) и мониторить всё происходящее. Но это было не так надёжно, как супервайзер, оценивающий мелкие детали. По запаху в офисе можно было угадать, какой конфликт раздирает коллектив, по мелким деталям быта, не списываются ли деньги на неизвестные счета.
Раевский был профессионал. И теперь выписанному из тепла профессионалу предстояло курировать ледяных людей и водяных людей. Или питьевых людей.
— Скажите, Карлсон, а по вашим ощущениям, от чего тут гибнут люди? Нет, статистику я знаю, я не об этом. Я про ощущения, ваши личные ощущения.
Карлсон посмотрел на него внимательно, взвешивая: не проверяет ли инспектор его психическую устойчивость.
— Людей всегда губит страх. Даже если они падают вместе с вездеходами с полки, то есть, с ледника над берегом, то их губит страх. И когда они уходят в пустоту — их тоже губит страх.
— Уходят?
— Ну да. У нас было несколько случаев — мы выходили на лёд для снятия показаний. И вот человек вдруг вставал и уходил в черноту. Знаете, ночь полгода, только звёзды, иногда всполохи сияния, и человек уходит в сторону океана. Красиво со стороны, конечно.
— А зачем?
— Кто знает. Наверное, домой. Мы потом стали ходить втроём, чтобы успеть задержать беглеца. Но некоторым это не помогает. Помните Стаховского, вы ведь наверняка читали в отчёте про Стаховского?
— Это который застрелился?
— Он не застрелился. Я знал Стаховского, он был добродушным человеком, обожал кошек, домашний уют и жену. Среди своих он считался застенчивым и предельно честным. Но, как часто случается с подобными людьми, был ужасно воинственным. Когда он стал первым начальником буровой, над ним подшучивали и побаивались, но никто не мог предположить, чем закончится его поездка в Антарктиду.
Говорили, будто он сошёл с ума — вдруг забрался в хранилище образцов и объявил оттуда по селекторной связи войну неполноценному человечеству. Это тоже списали на переутомление и модную тогда теорию озонового дождя. Стаховский бушевал двое суток, отбивался от ему одному видимых воинов с копьями, а потом сунул голову под буровое долото. Какие там озоновые дожди, всё это глупости.
Он умер от страха.
Некоторое время оба молчали. Наконец Карлсон сделал неопределённый жест рукой — дескать, не слушайте меня, я понимаю, что это всё глупости, но вы просили пересказать глупости, и вы их получили.
— Вы едете к дальним станциям? Давайте я с вами? — спросил Раевский.
— Да зачем вам это? Вы слетайте лучше к МакМёрдо, там будет экскурсия на кровавый водопад. Знаете про кровавый водопад? Кровавый водопад все любят.
Но они всё-таки поехали к дальним станциям вместе.
Ехали они долго, но с комфортом — и Раевский снова подумал, что корпорации главнее государств. Богаче — это уж точно.
— Всё, что касается льда — не к добру, — вдруг хмуро сказал Карлсон. — Не стоило его трогать, чует моё сердце. Но не мы первые, не мы последние.
— Странно это слышать от гляциолога, — пожал плечами Раевский.
Они заехали на две автоматические станции, что контролировали состояние ледника, Карлсон осмотрел их, сменил какие-то блоки, и повернули назад.
— Видите бугорок? — надевая красные очки, поинтересовался вдруг Карлсон. — Там живёт Сумасшедший Немец.
— На карте ничего нет… — Раевский оживился. — Подъедем, а?
— Сумасшедший Немец не любит чужих. А, впрочем, давайте.
Это действительно было жилищем. Наружу торчала покатая ледяная крыша, смахивающая на северные домики малых народов, называемые «иглу». Раевский видел такие, и даже однажды ночевал в иглу, правда, по туристической программе.
Но это был, конечно, не иглу.
Это была сарая станция. Закрывать такие было невыгодно — рекультивация стоила дорого.
Поэтому станции сдавали в аренду малым странам, а теперь и просто частным лицам, со всем мусором, что там накопился.
Карлсон, готовясь выйти на мороз, бормотал:
— Много лет назад здесь тоже жили немцы. Я слышал, что тут часто находили следы их прежних поселений, не этого, нет, совсем старые домики, крохотные — один или два. Рядом с буровой, в вынутых кернах, ледяных цилиндрах, будто мушки в янтаре, находились значки, обломки досок с надписями, что сделаны странным шрифтом, и клочки древних газет. Немцы искали чудесного и были одержимы фантастическими идеями.
Так Карлсон и сказал — «фантастическими идеями» — ах, ну да, Раевский вспомнил: Тайны Ледяных Богов, все слова нужно писать с прописных букв, так получается гораздо внушительней.
А уж немцы писали все свои слова с больших букв, это кто бы сомневался.
Сумасшедший Немец жил как раз на месте немецкой станции, и Карлсон сказал, что у них есть подарок для отшельника.
Раевского что-то неприятно кольнуло.
Значит, визит этот не волне случаен, и крутились они вокруг этой точки, будто насекомые вокруг лампы.
Раевский увидел на флагштоке изодранное полотнище и не сразу понял, что это.
Сперва ему показалось, что это какая-то масонская эмблема, но память услужливо подсказала ему — этот флаг с циркулем родом из ГДР.
Он не видел его много десятков лет, и вот теперь он трепетал на металлической мачте посреди антарктического льда.
В доме, похожем издали на сугроб, оказалась мощная шлюзовая дверь и внимательный глаз видеофона над входом. Интересно, сколько людей видел этот глаз за последние лет тридцать.
Карлсон приложил ладонь в рукавице к панели, и они услышали недовольный голос. Как бы хозяин ни относился к этому визиту, неожиданностью он явно не стал — видимо, вездеход засекли камеры наружного наблюдения. Дверь шлюза приоткрылась, и человек внутри сухо кивнул.
Так кивал фельдмаршал Паулюс среди русских солдат — будто птица с высохшей шеей клевала что-то невидимое.
— Я родился в Восточной Германии. Моя фамилия Маркс. Вы знаете, что значит прожить столько лет с фамилией Маркс?
— Представляю, — согласился Раевский. — И я помню, что такое Deutsche Demokratische Republik.
Он действительно это помнил хорошо — вплоть до герба с циркулем.
Немец поглядел на него, и на его лице не отразилось ни удивления, ни беспокойства. Раевский смотрел на него с любопытством, Карлсон, казалось, скучал, а Сумасшедшему Немцу было всё равно.
— Инженеры… А я — старый любитель льда, — спокойно отозвался хозяин и пригласил войти в дом.
Они спускались вниз по лестнице и понимали — дом не ограничивается сугробом, что торчал сверху. Дом был похож на айсберг: внизу вырыто довольно большое помещение, а может, много помещений. Старинная пластиковая отделка изнутри напоминала о великих дизайнерах прошлого — того самого, в котором была DDR, и смешные автомобили — как их Вагант? Бант? Трабант.
— Чай, — скорее утвердительно, чем вопросительно, произнёс хозяин.
Они заметили, что оторвали его от обеда. На столе стояла плошка с супом, в котором, как медузы, плавали чёрные грибы. Пока он заваривал чай, они осмотрелись. Коробки с сушёными грибами, вермишелью, яркие пакетики, разноцветные брикеты, баночки стояли на полках в гостиной, служившей одновременно кухней, — видно было, что старик поддерживает устойчивую связь с цивилизацией.
Но на столе стояла архаическая аппаратура, похожая на стадо заблудившихся роботов из старинного фильма. В углу мерцала индикатором дверь огромного промышленного холодильника.
Карлсон открыл сумку и достал оттуда буханку русского хлеба. Раевский видел этот пахучий хлеб у них в столовой — но разрезанный на маленькие кусочки.
Немец оживился.
— Я это спрячу. Для меня это экзотика, а для вас — просто часть меню. Знаете, я отношусь к тому поколению, которое голода не застало. Тем не менее, у нас в семье был культ хлеба.
— Я сам вздрагиваю, если вижу брошенный хлеб, — согласился Раевский. — Но у нас в этом ещё больше истории. Войны, голод. Хлеб у нас был пайком, иногда, единственной составляющей пайка. К тому же наши вожди писали о хлебе книги.
Раевский чуть покривил душой — человека, что писал о хлебе, никто не звал уже вождём. Его звали длинно и одновременно посмеивались над этим длинным званием. Хотя сам Раевский ещё учил в школе книгу, которая начиналась со слов «Есть хлеб, будет и песня!»
— Ну, в общем, да, — подытожил он. — Мы последнее поколение, которое воспринимает хлеб в библейском смысле. Его нельзя выкинуть.
— Именно так, — согласился Маркс. — Его нельзя выкинуть, можно лишь отдать птицам. В библейском смысле, точно… Вы ведь недавно здесь? Здесь вообще много библейского. А будет ещё больше.
Раевский с Карлсоном переглянулись.
Они пили резко и пряно пахнувший чай, кажется — натуральный.
— Я здесь живу, у меня тут библиотека, исследования, — вдруг сказал хозяин. — Я тоже, можно сказать, геолог. Только занимаюсь льдом, одним словом, гляциолог. Мало интересные публике задачи, правда… Здесь хорошие условия, вот только связь неустойчива, приходилось приглашать специалиста с научной базы, это стоит дорого, и я перестал пользоваться Сетью.
«Малоинтересные… — чуть не засмеялся Раевский. — Скоро местный лёд поплывёт на север, здесь ведь во всякую сторону по морю будет север, и превратится там в питьевую воду и живые деньги. Всё будет очень шумно и интересно».
Он только открыл рот, чтобы спросить, на чьё правительство тот работает, но, наткнувшись на хмурый взгляд Карлсона, прикусил язык.
— Я рад, что мы с вами встретились, — вновь заговорил Маркс. — Смысл льда сейчас никто не понимает. Эти идиоты собираются даже им торговать.
Раевский сам удивился интуиции Карлсона, хотя опять казалось, что он участвует в спектакле, и все реплики расписаны.
— А что у вас за дела тут? — вдруг насторожился хозяин.
— Нефть, материковые породы, следовые остатки жизни… Это буквально в часе езды отсюда.
— Я стараюсь не появляться снаружи, — поскучнел хозяин. — И никуда не езжу. А вы, значит, не инженер, а Kaufmann.
Он мрачнел на глазах.
— …и пресная вода, — всё же не сдержался Раевский.
— Ох, они всё-таки решились, — дёрнул головой хозяин.
Он стал беспокойно ходить по комнате, разговор не клеился. Раевский с Карлсоном смотрели на висящий на стене экран, как в окно. Экран транслировал происходящее над домиком. Погода явно портилась. Нечего было и думать о возвращении прямо сейчас.
«Зачем-то этот швед привёз меня сюда, — с раздражением думал Раевский. — Неужели, чтобы показать этого фрика? Но фриков я видел достаточно».
Карлсон связался с базой, чтобы за ними прислали вертолёт. Но база ответила, что вертолёт будет ждать утра и лётной погоды.
— Я прошу простить нас… — начал Карлсон, но немец быстро закивал и взмахнул рукой, показывая, что они могут устраиваться.
Немец Маркс извинился и ушёл к себе, ступая странно, словно богомол. Карлсон уже прилёг на широкий диван, а Раевский разглядывал непривычные бумажные карты на стенах и приколотые рядом репродукции. Там же висела и фотография с какими-то ряжеными воинами в снегу.
Он хмыкнул:
— Странное оружие было у древних. Здесь говорится, что во время одной битвы арабские воины накололи листки священной книги на копья и остановили сражение. Листки — это обрывки бумажных газет, как у немцев? Зачем?
Раевский обернулся за ответом и вздрогнул. Карлсон уставился на него, как будто проигрывая что-то в памяти.
— Стаховский перед… незадолго до смерти рассказывал мне об этом. За ним шли какие-то солдаты с копьями. Он говорил, что тогда хотелось ринуться в бой и одновременно — бежать. Он и убежал тогда, мы смеялись, а он был уверен в том, что видел. И через две недели случилось то, о чём я рассказывал. Это всё лёд, этот лёд.
Они не успели ничего сказать, потому что в этот момент хозяин завыл.
Переглянувшись, оба осторожно двинулись на звук. Дверь в комнату хозяина была распахнута, и там тоже стояли стеллажи, а сам он плясал, голый, и выл как шаман, которых Раевский видел в туристическом кластере.
— Они решили растопить лёд! — зло крикнул Сумасшедший Немец Маркс замершим на пороге и бессильно сел на пол.
Они молчали. Тишина прерывалась только шумным дыханием.
Вдруг Маркс поднял голову и взглянул на них ясным взглядом.
— Придётся вам кое-что объяснить, — он встал и мгновенно пришёл в себя. К нему вернулся прежний голос. — Вы сказали: разработки. У меня здесь особые занятия, уже много лет. Я начинал ещё в Москве, когда был молодым химиком, вернее, то был другой человек, я забыл его имя… Память воды — как скажешь эти слова, тебя сразу запишут в шарлатаны. Но память льда, вот что открылось мне. С каждым годом, с каждым днём мне всё страшнее, оттого, что я знаю — тут, внутри ледяной решётки, записано всё. Сначала я записывал видения, а потом устал. Тот, кто читает книги, вовсе не должен делать заметки на полях.
Сумасшедший Немец открыл холодильник (они обратили внимание, что контейнеров с образцами было множество — они тянулись по полкам слева направо и сверху вниз, от пола до потолка) и достал несколько пластинок льда в деревянных рамках.
Первая пластинка отправилась в аппарат, стоящий на столе, и слышно было, как она потрескивает, тая.
Гости ощутили что-то тяжёлое, что было сильнее их, что звало их в битву, бить, бить чем-то тяжёлым по головам врагов…
— Одна из первых, — заявил хозяин, имея в виду какую-то штуку, лежащую сейчас в сканере, они никак не могли её разглядеть. — Когда я занимался этим, жажда власти, как талая вода, заполнила комнату. Хотелось завоевать весь мир. Даже пингвины это чувствовали. Они вообще многое предчувствуют.
Он говорил и говорил. Выходило так, что лёд был привязан к какому-то дню прошлого. Небо смотрело на него сверху, небо запоминало, слои воздуха текли по кругу — север — юго-запад — Атлантика, Чили, Аргентина, Антарктида… Неподвижный лёд отражал и впитывал образы неба.
Маркс подошёл к стеллажам и аккуратно снял другой контейнер — внутри оказалось несколько рамок.
— Это всё с разных буровых, керны с разной глубины — но принцип один и тот же — можно легко посчитать даже, какой это год, будто по кольцам древесного спила.
Пока Раевскому было очевидно только то, что кто-то нашинковал как колбасу стандартные керны, вынутые из скважины.
Привычным движением Маркс поставил ледяную нарезку на подставку, но вдруг вынул обратно.
— Впрочем, нет… Это сейчас нельзя. — И он взял другую, что медленно таяла у него в руках. Он смотрел на неё с любовью и обожанием и даже протянул вторую руку, пытаясь погладить ускользающую поверхность.
В воздухе сгустилось что-то лёгкое, будто запах весеннего луга, и тут же пропало.
Когда вода потекла по пальцам, и от пластинки в приборе не осталось почти ничего, немец повернулся к Раевскому:
— Можете посмотреть другую.
Тот осторожно запустил руку в контейнер и выбрал верхнюю ледышку. Карлсон встал рядом, с любопытством ожидая, что будет.
Удивление, перемешанное с обожанием, завладело обоими. Им показалось, что перед ними была красивая женщина — нет, её не было, она не присутствовала, но все чувствовали, что она есть где-то рядом, детали ускользали, что-то милое было в ней, родное и одновременно божественное…
Вдруг всё пропало.
Пластинка растаяла.
Они в растерянности смотрели на гляциолога.
— Этой много в моих записях. Я узнал, кто она — актриса, ей поклонялись два поколения.
Он вздохнул, словно набирая воздуха, и заговорил снова.
— Дело не в ней. Лёд хранит память обо всех сильных эмоциях человечества — здесь у полюсов осаждается всё то, что растворилось, перемешалось и исчезло в небе над людьми. Это только кажется, что сильные эмоции могут пропасть без следа — они остаются, и чем сильнее человеческое чувство, тем лучше хранит его лёд. В моей гляциотеке тысячи пластинок, я читаю их, будто пью старинный чай — по капле, долго-долго.
В верхних слоях живут голоногие кумиры прошлого века, женщины, сделанные из лучших синтетических материалов и кривоногие диктаторы.
Нижние слои льда состоят из святых, принявших мученическую смерть — туда я стараюсь не заглядывать.
Как-то я случайно растопил один из самых древних образцов и не ощутил ничего, кроме ужаса. До сих пор не знаю, что это было. Лучше я покажу не этот ужас, а простой человеческий страх.
Он резко шагнул ко второму контейнеру и, порывшись, вынул пластинку откуда-то снизу. Молча протянул пластинку Раевскому.
Не успел тот ничего сказать, как видение буквально выпрыгнуло на него из тающего льда — монстр со средневековым мечом в руках извивался и бесновался в тесной комнате. Раевский отпрянул, пластинка выскользнула из рук и разбилась. Кусочки льда таяли на полу.
Немец сидел в кресле, обхватив руками голову.
— Мы поедем… — хмуро сказал Карлсон, глянув на просветлевшее небо, что показывал экран.
Немец больше не обращал на них внимания.
Они вышли и перевели дух. Вездеход почти не замело, дверца радостно чмокнула, впуская хозяев, и оба быстро, не разговаривая, забрались внутрь.
Раевский думал, зачем Карлсон привёз его сюда. Всё было сделано специально — разыграть инспектора, приехавшего из тепла? Не верил же Карлсон во всё это?
Но откуда было это чувство ненависти и сменившее его пьянящее детское чувство восторга?
Они ведь были — но как с этим связаны обычные ледышки? Или сумасшедший гляциолог показал им забавные фокусы, а они испугались, как дети, лишь от одного его загадочного вида…
Нет, Карлсон всё знал, но всё равно ему явно было не по себе.
Сейчас казалось, что он был просто наркоманом, одиноким печальным наркоманом, который где-то достал ароматических палочек, вызывающих видения — Раевский где-то читал об этих палочках, которые были только похожи на ароматические.
.
Но оставались ещё покойный Стаховский, странное взбудораженное состояние людей на станции и собственные сомнения. Время текло, настроение портилось.
Через несколько дней они собрались снова заехать в немецкий скит, и Карлсон даже сходил в столовую за хлебом.
Но тут к ним в офис заглянул один из операторов ледового резака.
Он рассказал, что Сумасшедшего Немца нашли замёрзшим около его дома. Приятель оператора, вертолётчик, нашедший труп, подивился предсмертной записи на диктофоне. Оператор смеясь, как над анекдотом, передал, что ученый обещал смерть всему человечеству, — но странным образом.
— «За вами придут все, кого вы любили», — вот что записал старикан перед смертью. Так это ж хорошо, — недоумевал оператор. — Те, кого мы любили… Нет, вы что-нибудь понимаете?
«Кажется, понимаю. Нет, вдруг всё взаправду?», — подумал Раевский и представил, как раз за разом будет высвобождаться память льда. Вдруг хмурый Карлсон просто решил поделиться своим страхом, чтобы не нести его за пазухой?
В этот день осколок ледяного купола отправлялся в плавание к австралийскому берегу.
Пора было и Раевскому лететь отсюда.
Перед отлётом он пошёл на берег и принялся смотреть на гигантский айсберг, что сполз в океан и был облеплен вертолётами, как мухами.
Вот сейчас он дрогнет и начнёт движение на север. Впрочем, здесь действительно везде север.
— Ни грамма не пропадёт, — вдруг хлопнул его по плечу кто-то из инженеров в оранжевых касках. — Ни грамма! И тут же убежал куда-то, скрылся за спинами точно таких же людей в оранжевых комбинезонах.
Что будет потом — он постарался не думать.
Немец со смешной фамилией Маркс так испугался этого, перелистывая свою ледяную библиотеку, что ушёл из жизни. Он давно всё понял.
А вот Раевский начал бояться только сейчас.
В любом случае, любопытство убило страх перед будущим.
Интересно посмотреть на этот мир, а там будь что будет.
Раевский представлял, как начинает таять гигантский айсберг, приближаясь к тёплым странам.
Осталось совсем немного.
Как он будет наполнять мир всем тем, во что верили миллионы людей — сначала это будут кумиры в платьях с блёстками, потом святые, а потом…
Как он будет высвобождать образ за образом, видение за видением.
А потом и весь континент понемногу стает, вернув людям прошлое.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
29 июня 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-01)
Скажу ещё раз:
Меня вот что всегда поражало — как часто люди в качестве оценки говорят: «Меня блевать тянет» и все такое. По мне, так рвотные позывы нужно скрывать, тошниться в кустиках подальше, а не публично демонстрировать оные.
Меж тем, даже изысканные дамы описывают через рвоту все, что угодно.
Извините, если кого обидел.
01 июля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-02)
Дело в дом, что нужно сидеть достаточно долго. Некоторые видят желаемое только к пенсии, в половодье, когда бурный поток воды подточит деревенское кладбище и соседи пустятся в неожиданное плавание.
Извините, если кого обидел.
02 июля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-05)
Есть стыдные глупости и нестыдные глупости.
Вот если Татьяна Ларина спьяну дала Зарецкому, то это не стыдно.
А вот когда Онегин читает Татьяне нравоучительную лекцию и упивается своим благородством — это стыдно.
Извините, если кого обидел.
05 июля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-06)
Героиня неоконченного романа Пушкина и Анна Каренина видят одно и то же — мужчину, который так легко ломает их жизнь, который принципиально легкомыслен.
Теперь я говорю о философии легкомыслия, потому что «Анна Каренина» — роман о двух нравственностях, игра в кошки-мышки, когда мышку — женщину — не пропускают, а кошку — мужчину — с удовольствием пропускают, ласково.
Шкловский В. Энергия заблуждения: книга о сюжете Тетива: о несходстве сходного — М.: Художественная литература, 1983. С. 327.
Извините, если кого обидел.
06 июля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-11)
Жизнь не густа, а война состоит из большого взаимного неумения — так писал Шкловский.
А ещё он написал повесть Zoo или Письма не о любви, которую неправильно называют "Зоо", а надо бы "Цоо" — потому что действие происходит в Берлине.
Извините, если кого обидел.
11 июля 2015
(обратно)
Царь рыб (День рыбака. Второе воскресенье июля) (2015-07-13)

— Вот ты знаешь, рыбу выбрать — это как жену выбрать, — Шеврутов хитро поглядел на меня и положил перед собой судака.
Хрустнули кости, и судачья голова отлетела с разделочной доски.
— Ты можешь выбрать себе геморрой, а можешь земное счастье, и никто не знает, что для кого счастье, а что геморрой. А можешь выбрать снулую рыбу, пустую и никчемную, можешь получить от судьбы ледяную рыбу, прозрачную гостью южных морей. Тебе скажу, как аквариумист со стажем, что правил общих нет.
Над нами действительно высились железные стеллажи со снующими рыбками. Стучали компрессоры на балконе, в воде что-то булькало, и даже, кажется, кто-то бил хвостом.
Шеврутов любил рыб, и сам понемногу становился рыбой. Он ел рыб, разводил рыб, кормил рыб и жил рыбами. Тайными тропами к нему приезжали люди за редкостями, с ненадёжными людьми встречались посредники.
Он давно стал тайным магистром ордена аквариумистов.
Я приехал к нему с вечера, чтобы потом утром выехать на рыбную ловлю. Как настоящий тайный магистр, Шеврутов имел занятия, которые не мог передоверить никому.
Тайное рыбное место, вот что ждало его завтра. И в знак особого доверия он взял меня — зачем, можно было только гадать. Сейчас, когда мы сидели под сенью чёрной аквариумной воды, в световом кругу маленькой лампы, я думал, что тайному магистру всё-таки хочется славы.
Если найдётся кто-то, кто расскажет о нём, очарованный тайнами и сказками, то пусть это буду я. Самые знаменитые разведчики — это разведчики провалившиеся, говорили мне коллеги.
Если судьбе нужно раскрыть тайну тайному магистру, то я буду её орудием — всю жизнь я занимался созданием репутаций.
Толстосумы и политики с жирными глазами, журналы-однодневки и химические заводы (восемь труб, дым-отрава шести цветов и кипящая от стоков даже в мороз речка) — мы занимались всеми.
Что уж до Шеврутова, то мы были знакомы давно — я бы согласился ехать с ним в любом случае.
— А жёны, — сказал Шеврутов, — те же рыбы. Их нужно хорошо кормить и чаще менять воду.
Мы выпили странной китайской водки — со вкусом рыбьего клея.
Спалось плохо — жужжал над головой демисезонный комар, что завёлся в шеврутовском доме от сырости. Однажды, на старой квартире, к нему пришёл сосед снизу, жалуясь на шум компрессора. Прямо в прихожей он увидел, что над его квартирой зависло полторы тонны воды — он ещё не видел всего шеврутовского водяного царства. Сосед изменился в лице и решил не жаловаться, а тихо молиться вышестоящей власти — чтобы та усмирила промежуточную власть третьего этажа и оттянула потоп.
Теперь Шеврутов жил на первом этаже старинного дома с сохранившимся на фронтоне гербом неизвестного дворянина и пентаграммой Осоавиахима над единственным подъездом. Перед сном я долго курил, пытаясь понять его выбор — я собирался уйти из рекламы, скучал и ленился дома. Шеврутов спал сном праведника. Я перелез через провода и трубки на цыпочках, миновал его кровать и пошёл в прихожую, чтобы проверить кое-что из собранного нами на завтра.
Мы выехали в утренней темноте. Мусор кривых переулков хрустел под колёсами, большую машину качало на ухабах. Шеврутов рассказывал, как много лет назад один молодой человек пришёл к нему просить денег. Молодой человек проиграл грузинам в карты свою квартиру, а время было горячее, как пистолетный ствол после стрельбы.
Шеврутов не дал молодому человеку денег, он рассказал ему секрет выращивания стеклянного окуня. Скоро тот расплатился с долгами, поднялся круто и быстро, а потом следы его потерялись. Но раз в год курьерская служба бренчала ящиком французского коньяка у дверей Шеврутова.
Мы разогнались по серому утреннему проспекту, затем свернули от него в промзону. Мелькнула огромная гармоника цементного элеватора, страшные птицы речных кранов, и вот уже мы ехали мимо неосвещённого берега реки.
Странный запах вдруг ударил в ноздри. Я заёрзал на сиденье — было такое впечатление, что у меня на ботинках вдруг оттаяло прилипшее дерьмо.
— Не мучайся, — Шеврутов заметил это моё движение. — Тут всегда так. А кто живёт, давно уже привыкли. Даже не замечают, сидят на лавочках, целуются. А знаешь, что тут было во время войны? Там дальше — нефтеперегонный завод, его немцы бомбили до сорок третьего года. Так тут был фальшивый факел, который отвлекал бомбардировщики на себя.
Я представил себе, как «Хенкели» заходят на цель, как отделяется от каждого них две тонны бомб и фонтаны говна поднимаются над поверхностью канализационных отстойников. Я представил себе и этот звук, воющий, ноющий звук падающей взрывчатки и чавканье фильтрационных полей.
От этой воображаемой фантастической картины меня отвлёк Шеврутов. Он остановил машину рядом с небольшим проломом в бетонной стене — я вылез наружу, ёжась от утренней сырости. Тайный магистр вынул из багажника чехлы и жужжал молниями на них.
Наконец, он вынул несколько блестящих странных предметов и запер машину.
Мы шагнули в проём, как десантники шагают в пустоту за бортом.
Дальше тропинки не было — Шеврутов шёл в утренних сумерках по одним только ему известным приметам. Я иногда утыкался ему в спину, иногда отставал на несколько шагов и видел, как дорогое чёрное пальто метёт глину.
Рядом под поверхностью мрачных луж шла загадочная внутренняя жизнь. Как в гигантском аквариуме, что-то булькало, ухало. Над жидкостью в лужах поднимался пар, курились дымки близко и далеко в этих полях.
— Ты не думай, настоящие поля аэрации дальше, а здесь старая зона… Так вот, — продолжил Шеврутов какую-то фразу, начало которой я упустил. — Рыба здесь особенная. Начало здешней рыбе положили бракованные телескопы, которых лет пятьдесят назад спустил в унитаз аквариумист Кожухов. Он вывез свою коллекцию из Берлина в сорок шестом. Я видел эти аквариумы — увеличительные вставки в стёклах, бронзовая окантовка с орнаментом… Когда его пришли брать в пятидесятом, дубовая дверь продержалась ровно столько, сколько понадобилось Кожухову, чтобы спустить последнюю рыбу в канализацию.
Но сейчас у нас другая радость — наша рыба очень живуча. Мои продавцы возили её в пластиковых мешках с кислородом по всей Европе. Переезд до Парижа ей совершенно нипочём. И это не самое интересное. Мне мутанты не интересны, мутанты нежизнеспособны и мрут, как первый снег тает. Мне интересны новые виды.
Я тебе покажу совершенно иное…
Мы прошли криво погрузившийся в лужу трактор с экскаваторным ковшом и заброшенное бетонное здание. Дальше начинался лес ржавой арматуры и странные постройки без крыш.
— Вот, можешь поглядеть. Спустись по ступенькам, пока я сачок свинчиваю. Подивишься.
Я начал спускаться по обнаружившимся ступенькам мимо забора из сетки-рабицы. Рядом с кроватной спинкой, вросшей в землю как поручень, начиналось небольшое озерцо. Вода в нём, или то, что было водой, стояло ровно и неподвижно. Если бы озерцо возникло из бомбовой воронки военных времён, то я не удивился бы.
Я наклонился к воде, чтобы разглядеть новый аквариумный вид, составивший Шеврутову славу.
Но никто не роился в этой неожиданно прозрачной воде.
Роиться там было некому.
Огромный глаз глядел на меня оттуда бесстрастно и мудро. Огромное существо изучало меня, как червяка, зашедшего на обед. Царь рыб ждал гостей в своей страшной глубине.
Я отшатнулся и сделал несколько шагов по ступенькам вверх. Там уже стоял Шеврутов. Неожиданно он толкнул меня в грудь.
— Ну, что стоишь. Иди, прыгай.
— Ты что? — шепотом спросил я и прибавил ещё тише: — Ты с ума сошёл?..
— Давай, давай, — толкал меня вниз Шеврутов. — Нечего тут…
Схватившись за ржавую кроватную спинку, я пытался отпихнуть аквариумиста.
Шеврутов печально достал из кармана пистолет ТТ, показавшийся мне отчего-то гораздо большего размера, чем на самом деле.
— Ну, давай, давай — а то он мертвечины не любит. Он тебя сам выбрал, он всегда сам выбирает.
Глаз приблизился к поверхности и бесстрастно смотрел на меня.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
13 июля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-20)
В комментах ад, конечно. Но это не ради них.
http://svpressa.ru/culture/article/127474/
Извините, если кого обидел.
20 июля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-25)
Люди часто выстраивают свои представления о других на основе того, что те им чем-то помогут.
Думают, к примеру, что вот, перед ними смешной человек, и он будет их веселить. А он повеселил случайно, а потов взял и в глаза плюнул.
Или вот, думают, что перед ними человек-спасательный-круг.
А он — человек-пассатижи.
И от этого обиды выходят.
Извините, если кого обидел.
25 июля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-25)
Извините, ничего личного, но понадобилось для ссылки:
История про писателя Ляпунова
…но это ещё что — я видел писателя Ляпунова. Несмотря на то что писатель Ляпунов был урождённым советским гражданином, в его жилах текла кровь анархиста Бориса Акуниндта. Этот анархист поднял восстания в девяти европейских странах, пять раз был приговорён к различным видам смертной казни, три раза бежал из тюрем, но всё же уцелел. Другой на месте писателя Ляпунова возгордился бы такой родословной, а он — нет: на равных говорил он с разными людьми, да и со мной тоже.
Ляпунов как-то написал замечательную пародию на рецензента, тупого и злобного. Этот рецензент занимался тем, что ругал Льва Толстого, напыщенно излагал философию литературы, но его утверждения на поверку оказывались сплошными глупостями. Персонаж Ляпунова, забыв о Шекспире, утверждал, что всякий писатель, не писавший для детей, вызывает подозрение, критиковал Толстого за косноязычие, при этом сам выражаясь примерно так: «…Наташе Ростовой подобные издевательства безразличны, она никогда не была живой, а романтически настроенные читательницы чувствуют себя так, словно это их насилует автор..»
Влюблённый в творчество Толстого, Ляпунов написал, одним словом, блестящую пародию. В этой пародии высмеивалось много разных приёмов, и все это могли видеть, но я хочу сказать о другом: писателю Ляпунову принадлежало также многотомное исследование «Анна Каренина. Зверь из Бездны», написанное в духе великого литературоведа, у которого писатель Ляпунов учился в юности.
Это сочинение предваряла цитата из Набокова: «Когда Анна приходит к Цинциннату, то он понимает, что она-то и есть его казнь». Я не удержусь от того, чтобы процитировать зачин:
«Анна Каренина — сука.
Даже лежит на рельсах она как-то криво.
Лучше бы я рассказал про моховики и грузди. Я бы рассказал про белые. Но огонь Гражданской войны ещё горит во мне, и я не могу сдержаться. Старый айсор, что вставлял в моей комнате выбитое пулей стекло, рассказывал мне, как гибнут люди под паровозами. «Но чаще гибнет скот», — говорил он печально. Мир перевернулся, оттого корову, погибшую на рельсах, жалко, а человека — нет.
Анна Каренина похожа на корову.
Она толста и глупа.
Она одновременно глупа и ужасно хитра. Она делает только глупости, и одновременно строит хитроумные заговоры. Не спрашивайте меня, как это можно совместить. Я говорил об этом Якобсону — он тоже не знает. Поливанов нашёл ответ в персидском трактате, но в холодную зиму спалил этот трактат в буржуйке. Тканые розы на сафьяновом переплёте ещё долго шевелились в жестяной утробе.
Секрет пропал, но я буду рассказывать дальше.
В старом Гамбурге, где обсыпанные тальком борцы пыхтели в тайных схватках, борцов-убийц звали «Анна Каренина». У них был особый
тусклый блеск в глазах.
Есть несколько приёмов, которыми можно сломать позвонки противнику, — я не буду о них рассказывать.
Это значило бы множить труд Анны, а она — сука, сука. Сука! Впрочем, я сдерживаюсь.
Аля, Аля, помнишь ли ты ещё меня?!
У Анны Карениной тусклые глаза перед еблей. Желающие проверить — могут перечитать текст. Толстого гонит по рельсам энергия заблуждения. Он доезжает до Астапова, не услышав, как хрустят кости под чугунными колёсами. Смерть идёт рядом.
Анна — это смерть.
Если внимательно перечитать черновики Толстого — жаль, что не издали отдельно восьмой вариант рукописи в юбилейном собрании, — было бы видно, что Анна всё время в белом. Когда она выходит косить с Левиным на луг, он, глядя на неё против солнца, понимает всё. Коса в её руках — естественна.
С тех пор Левин и прячет от себя верёвку.
Но всё равно Левин думает о варенье и сердится, что в доме варят варенье не по левинскому способу, а по способу семьи Китти. Варенье густое, но нет в нём радости.
А жизнь не густа.
Одна Каренина царит в ней, машет косой, собирает свой страшный урожай. Мало в этой жизни моховиков и груздей. Ещё ничего не кончилось…»
Несмотря на то, что для прокорма семьи Ляпунову пришлось писать о мертвецах, первом круге ада и проповедовать язычество, в нём свято горел огонь Православия.
По ночам он писал свои романы, а поутру торопился во храм, чтобы отмолить это безобразие. Я, к сожалению, не читал писателя Ляпунова вовсе и не знаю, писал ли он о чём-то ещё, кроме Толстого, которого этот писатель преданно и беззаветно любил с детства.
Однажды завистники пытались поссорить нас, и Ляпунов, специально приехав в Москву, поймал меня на тихой улице.
Он вынул из кармана крохотный перочинный нож, с видимым усилием раскрыл его и, вытянув вооружённую руку, упёр лезвие мне в живот.
Дрожащим голосом писатель Ляпунов спросил меня, имею ли я что против Льва Николаевича Толстого.
Я отвечал, что не имею ровно ничего, кроме безраздельной любви и преклонения. Ножик нам сложить не удалось, но Ляпунов подобрел, и мы подружились окончательно.
Ножом мы открыли банку килек в электричке, на которой уехали в Ясную Поляну.
Извините, если кого обидел.
25 июля 2015
(обратно)
Восемь транспортов и танкер (День ВМФ. Последнее воскресенье июля) (2015-07-26)
Старший лейтенант Коколия задыхался в тесном кителе. Китель был старый, хорошо подлатанный, но Коколия начал носить его задолго до войны, и даже задолго до того, как стал из просто лейтенанта старшим и, будто медведь, залез в эту северную нору.
Утро было тяжёлым, впрочем, оно не было утром — старшего лейтенанта окружал вечный день, долгий свет полярного лета.
Он старался не открывать лишний раз рот — внутри старшего лейтенанта Коколия усваивался технический спирт. Сложные сахара расщеплялись медленно, вызывая горечь на языке. Выпито было немного, совсем чуть — но Коколия ненавидел разведённый спирт.
Сок перебродившего винограда, радость его, Коколия, родины, был редкостью среди снега и льда. Любое вино было редкостью на русском Севере. Поэтому полночи Коколия пил спирт с торпедоносцами — эти люди всегда казались ему странноватыми.
Впрочем, мало кто представлял себе, что находится в голове у человека, который летит, задевая волны крыльями. Трижды приходили к нему лётчики, и трижды Коколия знакомился со всеми гостями, потому что никто из прежних не приходил. Капитан, который явился с двумя сослуживцами к нему на ледокольный пароход с подходящим названием «Лёд», был явно человек непростой судьбы. Чины Григорьева были невелики, но всё же два старых, ещё довоенных, ордена были прикручены к кителю. Капитан Григорьев был красив так, как бывают красивы сорокалетние мужчины с прошлым, красив чёрной формой морской авиации, но что-то было тревожное в умолчаниях и паузах его разговора. Капитан немыслимым способом получил отпуск по ранению, во время этого отпуска искал свою жену в Ленинграде и увидел в осаждённом городе что-то такое, что теперь заставляло дергаться его щёку.
Тут даже спирт не мог помочь. Григорьев рассказывал ему, как ищет подлодки среди разводий, и как британцы потеряли немецкий крейсер, вышедший из Вест-фиорда. Что нужно было немцу так далеко от войны — было непонятно. Разве что поставить метеостанцию: высадить несколько человек, поставить на берегу домик или вовсе утеплённую палатку с радиостанцией. Такие метеостанции они ставили, но здесь её смысл был неочевиден.
Ветра в нашем полушарии были больше западные, и для чётких прогнозов нужно было лезть в Гренландию, а не к Таймыру. В общем, цели крейсера оставались загадкой.
Пришёл на огонёк и другой старший лейтенант, артиллерист. Он рвался на фронт, и приказ уже был подписан — один приказ и на него, и на две его старые гаубицы. За год они не выстрелили ни разу, но артиллерист клялся, что если что — они не подведут.
Спирт лился в кружки, и они пили, не пьянея.
А теперь Коколия стоял навытяжку перед начальником флотилии и слушал, слушал указания.
Нужно было идти на восток, навстречу разрозненным судам, остаткам конвоя, что ускользнули от подводных лодок из волчьей стаи — и при этом взять на борт пассажиров-метеорологов.
При этом старший лейтенант утратил часть своей божественной капитанской власти. Оказалось, что это не пассажиры подчиняются ему, а он — пассажирам.
Пассажиров оказалось несколько десятков — немногословных, тихих, набившихся в трюм, но были у них два особых начальника.
Коколия раньше видел много метеорологов — поэтому не поверил ни одному слову странной пары, что поднялась к нему на борт.
Один, одетый во всё флотское, был явно сухопутным человеком. Командиром — да, привыкшим к власти, но эта власть была не морской природы, не родственна тельняшке и крабу на околыше. Фальшивый капитан перегнулся через леера прямо на второй день. И это был его, Серго Коколия, начальник — капитан Фетин, указывавший маршрут его, Коколия, штурману, и отдававший приказы его, Коколия, подчинённым.
Его напарник был явно привычен к морю, но измождён, и шея его болталась внутри воротника, как язык внутри рынды.
Коколия вгляделся в него в кают-компании и понял, что этот худой — совсем старик, хотя волосы его и лишены седины. Старика называли Академиком, это слово просилось на заглавную букву.
«Лёд» был старым пароходом с усиленной защитой — он не был настоящим ледоколом, как и не был военным судном. На нём топорщились две пушки Лендера и две сорокапятки — так что любая конвенция признала бы его военно-морским. Но конвенции пропали пропадом, мир поделился на чёрное и белое. Чёрную воду и белый лёд, полосы тельняшек — и ни своим, ни врагам не было дела до формальностей.
Старший лейтенант давно уравнял свой пароход с военным судном — и что важно, враг вывел в уме то же уравнение.
Коколия трезво оценивал свои шансы против подводной лодки противника, оттого указания пассажиров раздражали.
Он был вспыльчив, и, зная это, старался заморозить свою речь вообще. Например, его раздражал главный механик Аршба, и тот отвечал ему тем же — они не нравились друг другу как могут не нравиться друг другу грузин и абхаз.
Помполит Гельман пытался мирить их, но скоро махнул рукой.
Но Аршба был по сравнению с новыми пассажирами святым человеком.
Они шли странным маршрутом, и Академик, казалось, что-то вынюхивал в арктическом воздухе — он стоял на мостике и мелкими глотками пил холодный ветер.
— А отчего вас Академиком называют? — спросил Коколия. — Или это шутка?
— Отчего же шутка, — улыбнулся тот, и Коколия увидел, что у собеседника не хватает всех передних зубов. Я как раз академик и есть. Член Императорской академии наук. Никто меня вроде бы не исключал — только посадили меня как-то Бабе-Яге на лопату, да в печь я не пролез. Вас предупредили насчёт Фетина?
— Ну?
— Фетин отменит любой ваш приказ — если что. Но на самом деле Фетину буду советовать я.
— В море вы не можете отменить ничего, — сорвался Коколия. Но это означало только, что в душе у него, как граната, лопнул шарик злости. Он не изменил тона, только пальцы на бинокле побелели.
— А тут вы и ошибаетесь. Потому что всё может отменить даже не часовая, а минутная стрелка — вас, меня, вообще весь мир. Вы же начинали штурманом и знаете, что такое время?
Коколия с опаской посмотрел на Академика. Был в его детстве, на пыльной набережной южного города, страшный сумасшедший в канотье, что бросался к отдыхающим, цеплялся за рукав и орал истошно: «Который час? Который час?».
— Видите ли, старший лейтенант, есть случаи, когда день-два становятся дороже, чем судьба сотен людей. Это такая скорбная арифметика, но я говорю об этом цинично, а вот Фетин будет говорить вам серьёзно. Вернее, он будет не говорить вам, а приказывать.
— Можно, конечно, приказывать, но меня ждут восемь транспортов и танкер, у которых нет ледокола.
— А меня интересуют немецкие закладки, которые стоят восьмидесяти транспортов! — и Академик дал понять, что сказал и так слишком много.
Коколия хотел было спросить, что такое «закладки», но передумал.
Разговор сдулся, как воздушный шарик на набережной — такой шарик хотел в детстве Серго Коколия, да так ни от кого и не получил.
Они молчали, не возобновив разговор до вечера. Академик только улыбался, и усатый вождь с портрета в кают-компании тоже улыбался (хотя и не так весело, как Академик).
Под вождём выцвел лозунг белым на красном — и Коколия соглашался с ним: да, правое, и потом всё будет за нами. Хотя сам он бы поместил что-то вроде «Делай, что должен, и будь что будет».
Академик действительно чуть не проговорился. Всё в нём пело, ощущение свободы не покидало его. Свобода была недавней, ворованной у мирного времени.
Война выдернула Академика из угрюмой местности, с золотых приисков.
И теперь он навёрстывал непрожитое время. А навёрстывать надо было не только глотки свободного, вольного воздуха, но и не сделанное главное дело его жизни.
Гергард фон Раушенбах, бежавший из Москвы в двадцатом году, успел слишком много, пока его давний товарищ грамм за граммом доставал из лотка золотой песок.
И теперь они дрались за время. Время нужно было стране, куда бежал Гергард фон Раушенбах, и давняя история, начавшаяся в подвале университета на Моховой, дала этой стране преимущество.
У новой-старой родины фон Раушенбаха была фора, потому что пока Академик мыл чужое золото одеревеневшими руками, фон Раушенбах ставил опыты, раз за разом улучшая тот достигнутый двадцать лет назад результат.
И теперь одни могли распоряжаться временем, а другие могли только им помешать.
Настал странный день, когда ему казалось, что время замёрзло, а его наручные часы идут через силу.
Коколия понял, что время в этот день остановится, лишь только увидел, как из тумана слева по курсу сгущается силуэт военного корабля.
На корабле реял американский флаг — но это было обманкой, враньём, дымом на ветру.
Ему читали вспышки семафора, а Коколия уже понимал, что нет, не может тут быть американца, не может. Незнакомец запрашивал ледовую обстановку на востоке, но ясно было, что это только начало.
Академик взлетел на мостик — он рвал ворот рукой, оттого шея Академика казалась ещё более костлявой.
Он мычал, глядя на силуэт крейсера.
— Сейчас нас будут убивать, вот, — Коколия заглянул Академику в глаза. — Я вам расскажу, что сейчас произойдёт. Если мы выйдем в эфир, они накроют нас примерно с четвёртого залпа. Если мы сейчас спустим шлюпки, не выйдя в эфир, то выживем все.
А теперь, угадайте, что мы выбираем.
— Мне не надо угадывать, — сказал хмурый Академик. — Довольно глупо у меня вышло — хотел ловить мышей, а поймался сам. Мне не хватило времени, чтобы сделать своё дело, и ничего у меня не получилось.
— Это пока у вас ничего не получилось — сейчас мы спустим шлюпку, и через двадцать минут, когда нас начнут топить, мы поставим дополнительную дымовую завесу. Поэтому лично у вас с вашим Фетиным и частью ваших подчинённых есть шанс размером в двадцать минут. Если повезёт, то вы выброситесь на остров, он в десяти милях.
Но, честно вам скажу мне важнее восемь транспортов и танкер…
Он просмотрел в бинокль на удаляющуюся шлюпку.
— Матвей Абрамович, — спросил Коколия помполита. — Как вы думаете, сколько продержимся?
— Час, я думаю, получится. Но всё зависит от Аршбы и его машины — если попадут в машинное отделение, то всё окончится быстрее.
— Час, конечно, мало. Но это хоть что-то — можно маневрировать, пока нам снесут надстройки. Попляшем на сковородке…
Коколия вдруг развеселился — по крайней мере, больше не будет никакого отвратительного спирта и Полярной ночи. Сейчас мы спляшем в последний раз, но главное, чтобы восемь транспортов и танкер услышали нашу радиограмму.
Это было, как на экзамене в мореходке, когда он говорил себе — так или иначе, но вечером он снова выйдет на набережную и будет вдыхать тёплое дыхание тёплого моря.
Коколия вздохнул и сказал:
— Итак, начинаем. Радист, внимание: «Вижу неизвестный вспомогательный крейсер, который запрашивает обстановку. Пожалуйста, наблюдайте за нами». Наушники тут же наполнились шорохом и треском постановщика помех.
Семафор с крейсера тут же включился в разговор — требуя прекратить радиопередачу.
Но радист уже отстучал предупреждение и теперь начал повторять его, перечисляя характеристики крейсера.
«Пожалуй, ничего другого я не смогу уже передать», — печально подумал Коколия.
И точно — через пару минут ударил залп орудий с крейсера. Между кораблями встали столбы воды.
«Лёд», набирая ход, двигался в сторону острова, но было понятно, что никто не даст пароходу уйти.
Радист вёл передачу непрерывно, надеясь прорваться через помехи — стучал ключом, пока не взметнулись вверх доски и железо переборок, и он не сгорел вместе с радиорубкой в стремительном пламени взрыва.
И тут стало жарко и больно в животе, и Коколия повалился на накренившуюся палубу.
Уже из шлюпки он видел, как Аршба вместе с Гельманом стоят у пушки на корме, выцеливая немецкие шлюпки и катер. Коколия понял, что перестал быть капитаном — капитаном стал помполит, а Коколия превратился в обыкновенного старшего лейтенанта, с дыркой в животе и перебитой ногой.
Этот уже обыкновенный старший лейтенант глядел в небо, чтобы не видеть чужих шлюпок и тех, кто сожмёт пальцы плена на его горле.
Напоследок к нему наклонилось лицо матроса:
— Вы теперь — Аршба, запомните, командир, вы — Аршба, старший механик Аршба.
И вот он лежал у стальной переборки на чужом корабле и пытался заснуть — но было так больно, что заснуть не получалось.
Тогда он стал считать все повороты чужого корабля — 290 градусов, и шли два часа минут, потом доворот на десять градусов, три часа… Часы у него никто не забрал, и они горели зелёным фосфорным светом в темноте.
Эту безумную успокоительную считалку повторял он изо дня в день — пока не услышал колокол тревоги.
То капитан Григорьев заходил на боевой разворот — сначала примерившись, а потом, круто развернувшись, почти по полной восьмёрке, он целил прямо в борт крейсеру, прямо туда, где лежал Аршба-Коколия.
Коколия слышал громкий бой тревоги, зенитные пушки стучали слившейся в один топот дробью — так дробно стучат матросские башмаки по металлическим ступеням.
И Коколия звал торпеду, уже отделившуюся от самолёта, к себе — но голос его был тонок и слаб, торпеда, ударившись о воду, тонула, проходя мимо.
В это время в кабине торпедоносца будто лопнула электрическая лампа, сверкнуло ослепительно и быстро, пахнуло жаром и дымом — и самолёт, заваливаясь в бок, ушёл прочь.
Тогда вновь началось время считалочки — один час на двести семьдесят, остановка — тридцать минут….
Потом Коколия потерял сознание — он терял его несколько раз — спасительно долго он плыл по чёрной воде своей боли. И тогда перед глазами мелькали только цифры его счёта: 290, 2, 10, 3…
И вот его несли на носилках по трапу, а тело было в свежих и чистых бинтах — чужих бинтах.
Его допрашивали, и на допросах он называл имя своего механика вместо своего. Мёртвый механик помогал ему, так и не подружившись с ним при жизни.
Мёртвый Коколия (или живой Аршба — он и сам иногда не мог понять, кто мёртв, а кто жив) глядел на жизнь хмуро — он стал весить мало, да и видел плохо. К последней военной весне от его экипажа осталось тринадцать человек — но никто, даже умирая, не выдал своего капитана.
Таким хмурым гражданским пленным он и услышал рёв танка, что снёс ворота лагеря и исчез, так и не остановившись. Коколия заплакал — за себя и за Аршбу, пока никто не видел его слёз, и пошёл выводить экипаж к своим. Он был слаб и беспомощен, но держался прямо. Ветхая тельняшка глядела из-за ворота его бушлата. Бывший старший лейтенант легко прошёл фильтрацию и даже получил орден. Нога срослась плохо, но теперь он знал, что на Севере есть, по крайней мере, восемь транспортов и танкер.
Коколия уехал на юг и теперь сидел среди бумажных папок в Грузинском пароходстве.
Иногда он вспоминал чёрную Полярную ночь, и холод времени проникал в центр живота. Коколия начинала бить крупная дрожь — и тогда он уходил на набережную, чтобы пить вино с инвалидами. Они, безногие и безрукие, пили лучшее в мире вино, потому что оно было сделано до войны, а пить его приходилось после неё. От этого вина инвалиды забывали звуки взрывов и свист пуль.
Иногда, до того, как поднять стакан, Коколия вспоминал своих матросов — тех, что растворились в холодной воде северного моря, и тех, кто легли в немецкую землю. Сам Север он вспоминал редко — ему не нравились ледяные пустыни и чёрная многомесячная ночь, разбавленная спиртом.
Но однажды он увидел на набережной человека в дорогом мятом плаще. Так не носят дорогие плащи, а уж франтов на набережной Коколия повидал немало.
Человек в дорогом мятом плаще шёл прямо в пароходство, открыл дверь и обернулся, покидая пространство улицы. Приезжий обернулся, будто запоминая прохожих поимённо и составляя специальный список.
В этот момент Коколия узнал приезжего. Это был спутник Академика, почти не изменившийся с тех пор Фетин — только от брови к уху шёл у гостя безобразный белый шрам.
Фетин действительно искал бывшего старлея. Когда тот, прижимая к груди остро и безумно для несытного года пахнущий лаваш, поднялся по лестнице в свой кабинет, Фетин уже сидел там.
Дело у Коколия, как и прежде, было одно — подчиняться. Оттого он быстро собрался, вернее, не стал собираться вовсе. Он не стал заходить в своё одинокое жилище, а только взял из рундучка в углу смену белья, и сунул её в кирзовый портфель вместе с лавашом.
Вот он уже ехал с Фетиным в аэропорт.
Его спутник нервничал — отчего-то Фетина злило, что бывший старший лейтенант не спрашивает его ни о чём. А Коколия только медленно отламывал кусочки лаваша и совал их за щеку.
Самолёт приземлился на пустом военном аэродроме под Москвой. Там, в домике на отшибе, у самой запретной зоны Коколия вновь увидел Академика.
Тот был бодр, именно бодрым стариком он вкатился в комнату — таких стариков Коколия видел только в горах. Только вот рот у Академика сиял теперь золотом. Но всё же и для него военные годы не прошли даром: Академик совершенно поседел — в тех местах за ушами, где ещё сохранились волосы.
Коколия обратил внимание, что Академик стал по-настоящему главнее Фетина — теперь золотозубый старик только говорил что-то тихо, а Фетин уже бежал куда-то, как школьник.
Вот Академик бросил слово, и, откуда ни возьмись, будто из волшебного ларца, появились на бывшем старшем лейтенанте унты и кожаная куртка, вот он уже летел в гулком самолёте, и винты пели нескончаемую песню: «не зарекайся, Серго, ты вернёшься туда, куда должен вернуться, вернёшься, даже если сам этого не захочешь».
На северном аэродроме, рядом с океаном, он увидел странного военного лётчика. Коколия опознал в нём давнего ночного собеседника, с которым пил жестокий спирт накануне последнего рейса. Тогда это был красавец, а теперь он будто поменялся местами с Академиком — форма без погон на нём была явно с чужого плеча, он исхудал и смотрел испуганно.
Коколия спросил лётчика, нашёл ли он жену, которую так искал в сорок втором, но лётчик отшатнулся, испугавшись вопроса, побледнел, будто с ним заговорил призрак.
Моряка и лётчика расспрашивали вместе и порознь — заставляя чертить маршруты их, давно исчезнувших под водой, самолёта и корабля. Это не было похоже на допросы в фильтрационном лагере — скорее с ними говорили, как с больными, которые должны вспомнить что-то важное.
Но после каждой беседы бывший старший лейтенант подписывал строгую бумагу о неразглашении — хотя это именно он рассказывал, а Академик слушал.
В паузе между расспросами Коколия спросил о судьбе рейдера. Оказалось, его утопили англичане за десять дней до окончания войны. Английское железо попало именно туда, куда звал его раненый Коколия — только с опозданием на три года. Судовой журнал был утрачен, капитан крейсера сидел в плену у американцев.
Какая-то тайна мешала дальнейшим разговорам — все упёрлись в тайну, как останавливается легкий пароход перед ледяным полем.
Наконец, Академик сознался — он искал точку, куда стремился немецкий рейдер, и точка эта была размыта, непонятна, не определена. Одним желанием уничтожить конвой не объяснялись действия немца — что-то в этой истории было недоговорено и недообъяснено.
Тогда Коколия рассказал Академику свою, полную животной боли, считалочку — 290 градусов — два часа, 10 градусов — три. Считалочка была долгой, столбики цифр налезали один на другой.
На следующий день они ушли в море на сером сторожевике, и Коколия стал вспоминать все движения немецкого рейдера, которые запомнил в давние бессонные дни.
Живот снова начал болеть, будто в нём поселился осколок, но он точно называл градусы и минуты.
— Точно? — Переспрашивал Академик, — и Коколия отвечал, что нет, конечно, не точно.
Но оба знали, что — точно. Точно — и их ведёт какой-то высший штурман, и проводка сделана образцово.
Коколия привел сторожевик точно в то место, где он слышал журчание воды и тишину остановившихся винтов крейсера.
Сторожевик стал на якорь у таймырского берега.
Они высадились вместе со взводом автоматчиков. Фетин не хотел брать хромоногого грузина с собой, но Академик махнул рукой — одной тайной больше, одной меньше.
Если что — всё едино.
От этих слов внутри бывшего старшего лейтенанта поднялся не страх смерти, а обида. Конечно — да, всё едино. Но всё же.
Они шли по камням, и Коколия пьянил нескончаемый белый день, пустой и гудящий в голове. За скалами было видно огромное пустое пространство тундры, смыкающейся с горизонтом.
Группа повернула вдоль крутых скал и сразу увидела расселину — действительно, незаметную с воздуха, видную только вблизи.
Здесь уже начали попадаться обломки ящиков с опознавательными знаками Кригсмарине и прочий военный мусор. Явно, что здесь не просто торопились, а суетились.
Дальше, в глубине расселины, стояло странное сооружение — похожее на небольшой нефтеперегонный завод.
Раньше он было скрыто искусственным куполом, но теперь часть купола обвалилась. Теперь со стороны моря были видны длинные ржавые колонны, криво торчащие из гладкой воды.
Тонко пел свою песню в вышине ветряной двигатель, но от колонн шёл иной звук — мерный, пульсирующий шорох.
— Оно? — выдохнул Фетин.
Академик не отвечал, пытаясь закурить. Белые цилиндры «Казбека» сыпались на скалу, как стреляные патроны.
— Оно… Я бы сказал так — забытый эксперимент.
Фетин стоял рядом, сняв шапку, и Коколия вдруг увидел, каким странно-мальчишеским стало лицо Фетина. Он был похож на деревенского пацана, который, оцарапав лицо, всё-таки пробрался в соседский сад.
— Видите, Фетин, они не сумели включить внешний контур — а внутренний, слышите, работает до сих пор. Им нужно было всего несколько часов, но тут как раз прилетел Григорьев. К тому же, они уже потеряли самолёт-разведчик, и как ни дёргались, времени им не хватило.
Академик схватил Коколия за рукав, старик жадно хватал воздух ртом, но грузину не было дела до его путанной истории.
Фетин говорил что-то в чёрную эбонитовую трубку рации, автоматчики заняли высоты поодаль, а на площадке появились два солдата с миноискателями. Все были заняты своим делом, а Коколия стремительно убывал из этой жизни, как мавр, сделавший своё дело, и которому теперь предписано удаление со сцены.
Академик держал бывшего старшего лейтенанта за рукав, будто сумасшедший на берегу Чёрного моря, тот самый сумасшедший, что был озабочен временем:
— Думаете, вы тут ни при чём? Это из-за вас им не хватило двух с половиной часов.
— Я не понимаю, что это всё значит, — упрямо сказал Коколия.
— Это совершенно не важно, понимаете вы или нет. Это из-за вас им не хватило двух с половиной часов! Думаете, вы конвой прикрывали… Да? Нет, это просто фантастика, что вы сделали.
— Я ничего не знаю про фантастику. Мне не интересны ваши тайны. За мной было на востоке восемь транспортов и танкер, — упрямо сказал Коколия. — Мой экипаж тянул время, чтобы предупредить конвой и метеостанции. Мы дали две РД, и мои люди сделали, что могли.
Академик заглянул в глаза бывшему старшему лейтенанту как-то снизу, как на секунду показалось, подобострастно. Лицо Академика скривилось.
— Да, конечно. Не слушайте никого. Был конвой — и были вы. Вы спасли конвой, если не сказать больше, вы предупредили всё это море. У нас встречается много случаев героизма, а вот правильного выполнения своих обязанностей у нас встречается меньше. А как раз исполнение обязанностей приводит к победе… Чёрт! Чёрт! Не об этом — вообще… Вообще, Серго Михайлович, забудьте, что вы видели — это всё не должно вас смущать. Восемь транспортов и танкер — это хорошая цена.
Уже выла вдали, приближаясь с юга, летающая лодка, и Коколия вдруг понял, что всё закончилось для него благополучно. Сейчас он полетит на юг, пересаживаясь с одного самолёта на другой, а потом окажется в своём городе, где ночи теплы и коротки даже зимой. Только надо выбрать какого-нибудь мальчишку и купить ему на набережной воздушный шарик.
Шлюпка качалась на волне, и матрос подавал ему руку.
Коколия повернулся к Фетину с Академиком и сказал:
— Нас было сто четыре человека, а с востока восемь транспортов и танкер. Мы сделали всё, как надо, — и, откозыряв, пошёл, подволакивая ногу, к шлюпке.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
26 июля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-28)

Пока страна так лихо празднует мои именины, я напомню о другой дате.
И вот, кстати, повод ещё раз рассказать про Симонова.
Это, правда, опять сокращённый вариант, потому что нужно было разобрать, как упоминался приказ № 227 (которому завтра годовщина) в прозе тех советских писателей, которые кончили войну полковниками, затем в так называемой "лейтенантской прозе" (потому как этим лейтенантам он имел прямое отношение, а к военным корреспондентам — опосредованное), и наконец, военная проза уже поздних лет советской власти — там всё по-разному, и разная интонация. От повести Казакевича "Дваое в степи (1948) до нынешней беллетристики.
Да только это диссертационная тема, а вот стихи Симонова -
Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой,
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной.
одно из рифмованных пересказов приказа, заслуживали упоминания.
Текст здесь.
Извините, если кого обидел.
28 июля 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-29)

Там в комментариях есть хорошее:
"В свою очередь, хочу сказать Вам, что это Вы потерялись в жизни, Вы не видите ориентиров и не отличаете добра от зла. Вы по ту сторону".
Люблю такое.
Главное, не отличая ничего, выбрать нужную сторону.
Но, в общем, я конечно, всех люблю.
Кстати, отчего-то этот текст проиллюстрировали размытой фотографией какого-то стриптиза (ну, я отношусь с пониманием к правилам), но в перепечатках там довольно дурацкое изображение героини за работой.
Вот текст.
Извините, если кого обидел.
29 июля 2015
(обратно)
День десантника (2 августа) (2015-08-02)

Он начал готовиться к этому дню загодя.
Собственно, ему немного надо было — тельняшка с синими полосами у него была, и был даже значок за парашютные прыжки — как ни странно, вполне заслуженный. Такие значки давали за небольшие деньги в коммерческих аэроклубах.
После этого он поехал на рынок и купил медаль. Конечно, это был даже не рынок, а его тайный отдел, особый закуток, в котором продавцы и покупатели смотрели друг на друга искоса. Однако покупка прошла успешно. Медаль была большая, на новенькой и чистой колодке. Прежде чем расплатиться — стоила медаль копейки, он перевернул её и посмотрел на номер. Номер был большой — она действительно могла принадлежать его сверстнику, а, может, её выдали перед смертью какому-нибудь ветерану войны, забыв вручить вовремя. Он представил себе этого старика с разбухшими суставами пальцев, морщинистую ладонь, на которой лежала эта медаль, и решил, что в судьбе этого куска серебра случился верный поворот.
И вот он вышел из дома, чтобы окунуться в пузырчатый и радостный праздник избранных. Но больше всего его манили женщины. Он видел, как обмякают девушки с рабочих окраин в руках бывших десантников. Он бредил от этих воображаемых картин, даже бормотал что-то. Законная добыча победителей были не городские фонтаны и не ставшие на день бесплатными арбузы у торговцев неясных восточных национальностей. Это были женщины, уже успевшие загореть к августу, покорные, как вдовы проигравших битву воинов.
Так и случилось — нырнув в толпу, как в море, он тут же почувствовал, что в его правой руке бьётся, как пойманная рыба, женское тело. Новая подруга была средних лет и, видно, много повидала в жизни. Фигура, впрочем, у неё была тонкая, девическая.
Она уже льнула к нему, но он вдруг почувствовал себя в смертельной опасности. Бритый наголо человек, только что с уважением смотревший на его медаль, стал расспрашивать нового знакомца об их общей войне, и пришлось отшутиться. Бритый наклонился к другому, видно, его товарищу, и что-то сказал. Что-то неодобрительно, кажется.
Товарищ тоже стал смотреть на его медаль, и медаль горела, будто демаскирующая сигарета дурака, закурившего в дозоре. По медали ехал старинный танк и летели самолёты, их экипажи хотели с отвагой защитить несуществующую уже страну, название которой было прописано ниже. И вот двое потасканных людей в таких же, как у него тельняшках смотрели на эту королевскую рать: в ту ли сторону она двинулась.
Верной ли дорогой идут товарищи.
Это была настоящая опасность, и она чуть было не парализовала его.
Страх ударил в лицо, как ветер, в тот момент, когда он делал шаг из самолёта.
Это был особый страх — хуже страха смерти.
Но Самозванец быстро притворился пьяным, и женщина, цепко взяв за руку, потащила его в сторону. Она привезла его к себе домой, и они тут же повалились на скрипучий диван. Он брал её несколько раз, женщина стонала и билась под ним, не зная, что не желание даёт ему силы, а страх выходит из него в простых механических движениях. Наконец она забылась во сне, а он, шлёпая босыми ногами, прошёлся по грязному полу. Жильё было убого, оно предъявляло жизнь хозяйки, будто паспорт бедной страны без нашей визы.
Женщина была вычеркнута из его памяти мгновенно, пока он пил тёплую мутную воду из кухонного крана. Теперь он знал, что надо делать.
Выйдя из пахнущего сырым подвалом подъезда, он двинулся к себе — десантники разбредались как разбитая армия. Некоторые из них волочили за собой знамёна, будто собираясь бросить их к неизвестному мавзолею.
На следующий день он, едва вернувшись с работы, включил компьютер и не отходил от него до глубокой ночи. Страх жил в его душе и как охранник наблюдал за его действиями.
Для начала он посмотрел в Сети все упоминания о той давней войне и составил список мемуаров. Отдельно он записал солдатские мемуары, отдельно — генеральские. Через несколько дней непрерывного чтения он выбрал себе дивизию и полк.
Нужно было найти не слишком знаменитое подразделение, но реально существовавшее. Армия стояла в чужой стране давно, и множество людей прошло через одни и те же полки и роты. Некоторые ещё помнили своих командиров, поэтому он постарался запомнить не только своих начальников, но и соседних.
Наконец он стал читать воспоминания своих потенциальных сослуживцев — из других дивизий, конечно. Выбранная им часть, к счастью для него, не была богата воспоминателями. Он запоминал всё — и подробные перечисления свойств вооружения, и анекдоты про каких-то нерадивых офицеров. Затем он стал читать переведённые на русский язык воспоминания с той стороны. Их за бородатыми немногословными людьми в чалмах записывали англичане и американцы. И вот он уже ощущал под пальцами ворс ковра и вкус того, что варится в казане на тот или иной праздник. Часто он натыкался на незнакомые слова и на всякий случай учил их наизусть, выучил наизусть он и несколько чужих пословиц, раскатистых, как падение камней по горным склонам.
Он учил и топографию чужой земли, не только города и дороги, но имена ручьёв и кишлаков — благо карт теперь было предостаточно.
На работе на него смотрели косо, а по весне просто уволили. Он не расстроился — только пожал плечами.
Приходя домой, он вытаскивал из ящика письменного стола свою медаль — танк пыхтел, жужжали самолёты, но теперь это была его армия. Он поимённо знал пилотов и название деревни, откуда призвали механика-водителя.
Это был его мир, и он царил в нём. Страх перестал быть конвойным и стал часовым. Страх преобразил его, и он с удивлением вспоминал своё прошлое будто чужое. Он уже и был — совсем другим. Тот неудачник с купленной медалью был убит лысым десантником. И никто, даже этот вояка, не заметил этой смерти.
Когда снова пришёл август, он вышел на улицу как хищный зверь. Меняя компании, он добрался до центра, его товарищи пили и ржали как лошади, и опять молодые с уважением глядели на его медаль.
Вдруг началась драка.
Как всегда, было непонятно, кто её начал, но их били — и крепко. Несколько восточных людей сначала отлупили задиравшую их пару, а потом открыли пальбу из травматических пистолетов.
Были восточные люди хоть молоды, но организованы, а десантники пьяны и испуганы. Они дрогнули.
И вот тогда он встал на дороге бегущих и повернул их вспять. Медаль на его груди сверкнула как сигнальная ракета. Он собрал растерявшихся и стал командовать. Слова звучали так же, как в уставах, и, услышав знакомые отрывистые команды, к ним стали присоединяться другие люди в тельняшках. Они окружили восточных людей и стали мстить им за минутное унижение.
В противники ему достался молодой парень, носивший, несмотря на жару, кожанку. Как только они сблизились, молодой выхватил нож, но человек с медалью перехватил его руку.
Не дав разжать молодому пальцы, Самозванец ударил этим сжатым кулаком в чужое горло. На мгновение драка замерла, потому что кровью всегда проверяется серьёзность намерений.
И если пролилась кровь и это никого не заставило сдаться, то драку не остановить. А если под ноги лёг мёртвый, то значит, серьёзность достигла края.
Восточные или же южные, а может, юго-восточные люди бежали прочь, оставив на поле боя раненых.
На следующий день за ним пришли трое в серых милицейских мундирах. Но никого не было в доме — жужжал включённый компьютер с пустым диском, да сквозняк гонял по полу какие-то бумажки.
Десантники прятали его на разных квартирах. Он по большей части спал или глядел в потолок.
Такие случаи бывали, но в этот раз ничего не кончилось.
В городе поднялся бунт. Восточные люди пронесли убитого по улицам, прежде чем похоронить. Торговцы первыми арбузами, вчера ещё мирные, избили нескольких милиционеров, заступивших им дорогу. Ещё через день запылали машины перед мэрией,
В его убежище пришли несколько человек и молча встали в прихожей. Вопрос был задан, но не произнесён.
Он спокойно посмотрел им в глаза и назначил старших групп.
— Это особый период, — сказал он под конец. — Особый период, вы поняли? Именно это и есть — Особый период.
Точно в назначенное время его подчинённые явились на встречу. У них уже были оружие и автомобили. Затем они реквизировали запас формы в армейском магазине. Снежный ком обрастал новыми частицами стремительно, и через две недели против них двинули внутренние войска.
Но оказалось, что Самозванец более прилежно учил учебники по тактике. С минимальными потерями он выиграл несколько боёв. Теперь у него был штаб, и несколько человек рассылали воззвания от лица нового партизанского командира.
Иногда их печатали в формате обычного листа, а в уголке помещалась фотография — человек с размытым лицом, но чётко очерченной медалью на груди.
Страх по-прежнему жил в нём, но теперь он стал преградой, не дающей ему вернуться в прежнее состояние, затаиться и спрятаться.
И вот наступил странный мир, против человека с медалью стояла огромная государственная машина, но свой особый страх разъедал и её. А если не решиться на что-то сразу, то с каждой секундой резкое движение становится всё менее пригодным.
Огромный край принадлежал теперь ему — и, играя на железнодорожной магистрали, как на флейте, он добился перемирия с правительством. Впрочем, страна рушилась, и что ни месяц, от неё откалывались куски.
Вокруг него возник уже целый бюрократический аппарат. Два раза человек с медалью провёл чистки, показательно расстреливая проворовавшихся сподвижников. Этим он убивал двух зайцев — уничтожал вероятных соперников и подогревал народную любовь. Жизнь стала проста и понятна — был урожай, и был лес на продажу, был транзит, с которого бралась дань. Экономика упростилась, и оказалось, что жить можно и так.
А о нём самом много спорили, но легенда побеждала все свидетельства. Первым делом он сжёг военкомат, а потом и изъял отовсюду свои личные дела — вплоть до медицинской карты. Официальная биография правителя не была написана. Собственно, её и запрещено было писать, и это выходило дополнительным доказательством личной скромности.
Однажды, после выигранной скоротечной войны с южными соседями, человек с медалью объезжал свою армию.
В одном из полков он увидел того самого лысого десантника, лицо которого запомнил навсегда. Лысый постарел, но всё же был бодр. Он не услышал шагов человека с медалью и, стоя к нему спиной, продолжал вдохновенно рассказывать, как воевал вместе с вождём на далёкой забытой войне.
Только по изменившимся лицам слушателей лысый догадался, что надо обернуться.
Ужас исказил его лицо, ужас точь-в-точь такой же, какой испытал человек с медалью давней августовской ночью. Сомнений не было — лысый не узнал его.
Человек с медалью помедлил и улыбнулся.
— Всё верно. Никто, кроме нас, да, — и он похлопал лысого по плечу.
<2006>
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
02 августа 2015
(обратно)
Веребьинский разъезд (День железнодорожника. Первое воскресенье августа) (2015-08-03)

Тимошин аккуратно положил портфель на верхнюю полку.
Остались только купейные места, и он ещё идя по перрону, с некоторым раздражением представлял себе чужие запахи трёх незнакомцев с несвежими носками, ужас чужих плаксивых детей… Но нет, в купе сидел только маленький старичок с острой бородкой и крутил в руках продолговатый вариант кубика Рубика — чёрно-белый, похожий на милицейский жезл, и такой же непонятно-бессмысленный, как все головоломки исчезнувшего тимошинского детства.
Перед отъездом жена подарила Тимошину чудесную электрическую бритву — но только он решил ещё раз поглядеть на неё, дополнением к компании, под звук отодвигающейся двери внутрь ступил мужчина — мордатый и весёлый.
Как Тимошин и ожидал, первым делом мордатый достал из сумки бутылку коньяка.
«Жара ведь», — устало подумал Тимошин — но было поздно. Пришёл унылый, как пойманный растратчик, проводник, и на столике появились не стаканы, а стопки.
Мордатый разлил. Шея его была в толстых тяжёлых складках, и оттого он напоминал шарпея в свитере.
— Ну, за Бога, — сказал он и как-то удивительно подмигнул обоими глазами, — и за железную дорогу.
— Мы что, с вами виделись? — Тимошин смотрел на попутчика с недоумением. В повадках шарпея действительно было что-то знакомое.
— Так мы же с вами из одного института. Я с вагоностроительного.
— А я математикой занимался, — решил Тимошин не уточнять.
— А теперь?
— Теперь всяким бизнесом, — Тимошин и тут не стал рассказывать подробностей. Но попутчик (миновала третья стопка), ужасно развеселился и стал уверять, что они поменялись местами. И тем, кем был раньше Тимошин, теперь стал он, странный, уже, кажется, совсем нетрезвый пассажир.
— Так вы программист?
— Не совсем, не совсем… Но программирую, программирую… — Мордатый веселился и махал руками так, что старичка с его головоломкой сдуло в коридор. Он действительно сыпал профессиональными шутками, припомнил несколько общих знакомых (Тимошин понятия не имел, кто они), вспомнили также приметы времени и молодость. Мордатый жаловался на то, что высокоскоростного движения теперь вовсе нигде нет, вокзал в Окуловке развалился. Какая Окуловка, о чём это он?
— А скоростник? Это ж семидесятые годы! Это консервная банка с врезанной третьей дверью, а больше ничего у нас нет — асинхронника нет, ЭП1 уже устарел, ЭД8 нету, и «аммендорфа» нет больше…
Ты вот (он ткнул пальцем Тимошину в грудь) отличишь ТВЗ от «аммендорфа»?
Тимошин с трудом сообразил, что имеются в виду вагоны немецкого и тверского производства.
— А вот я завсегда отличу! — Мордатый сделал странное движение, став на секунду похож на революционного матроса, рвущего тельняшку на груди. — По стеклопакетам отличу, по гофрам отличу — у нашего пять, у немцев покойных — два…
Какое-то мутное, липкое безумие окружало Тимошина. Он оглянулся и увидел, что они в купе давно вдвоём. Время остановилось, а коньяка в бутылке, казалось, только прибавлялось. Поезд замедлил ход и вдруг совсем остановился.
— Это спрямление, — икнул Мордатый. — Тут царь Николай палец на линейку поставил…
«Ишь ты, — подумал Тимошин, — и он ещё заканчивал наш институт». Всякий железнодорожник знал историю Веребьинского разъезда. Никакого пальца, конечно, не было — как раз при Николае поезда ходили прямо, но паровозы не могли преодолеть Веребьинского подъёма, и ещё во времена Анны Карениной построили объездной путь. Лет шесть назад дорогу спрямили, выиграв пять километров пути.
Всё это Тимошин знал давно, но в спор вступать не хотелось. Споры убивало дрожание ложечки в стакане, плеск коньяка в бутылке, что оставлял мутные потёки на стеклянной стенке.
— Да… Хотел бы я вернуться в те времена, да.
Тимошин сказал это из вежливости, и продолжил:
— Помню, мы в стройотряде… Вернуться, да…
Мордатый отчего-то очень обрадовался и поддержал Тимошина:
— Всяк хотел вернуться. Пошли-ка в ресторан.
Это была хорошая идея — она способствовала бегству от этого безумия. Тимошин встал с места и не сразу разогнул ноги. С ним было так однажды — когда партнеры в Гоа подмешали ему опиатов в суп. Мир подернулся рябью — но Тимошин удержал его за край, будто рвущуюся из рук на ветру простыню.
Мордатый уже торопился, быстро шагая по вагону, а Тимошин спешил за ним, на ходу ощупывая в карманах всё ценное и дорогое.
Поезд подошел к какой-то станции и замер. Дверь тамбура была заперта.
Мордатый сердито подергал её и вдруг рванул другую — дверь наружу. Ночная прохлада окатила Тимошина, и он шагнул вслед за своим спутником, чтобы перебежать в соседний вагон.
Движение оказалось неверным, и он, поскользнувшись, покатился по гладкой поверхности.
Под рукой был снег и лёд.
Движение закончилось.
Он ещё несколько мгновений сидел на твёрдом и холодном. Но в стороне стукнула дверца, и поезд стал набирать ход. Тимошин успел ещё прикоснуться к холодной стали последнего вагона и остался, наконец, в черноте и пустоте. Его окружала снежная зимняя ночь середины августа.
Это был бред, можно было назначить всё происходящее бредом, но вот холод, пробиравший Тимошина, был реальностью и никуда не исчезал. И тогда Тимошин побежал на огонёк, к какому-то домику. Холод лез под куртку, и Тимошин припустил быстрее, быстро тасуя в голове планы спасения. Наверное, надо скорее вернуться назад, к Бологому, или вперёд, к Чудово, дать кому-нибудь денег — и хоть на тракторе, но выбраться из проклятого места.
Он попытался вспомнить карту Новгородской области — но дальше бессмысленных названий дело не пошло. Боровёнка… Или Боровёнки? Там был ещё странный посёлок Концы, и студенты в те, давние времена, лет двадцать назад должны были плыть на байдарке мимо этих концов. Нет, ничего не вспоминалось.
И тут Тимошин увидел самое странное — никаких рельсов под ним не было — он бежал по насыпи с давно снятыми шпалами, поднимая фонтанчики лёгкого снега.
Не переставая удивляться, он ввалился в дверь маленького домика с освещённым окном.
Он не вошёл, а упал в сени, вслед ему свалилась какая-то палка, загремело что-то, зашебуршало, и, видимо, поколебавшись, тоже рухнуло.
Из сумрака на него, ничуть не удивляясь пришельцу, смотрел старик в железнодорожной фуражке.
Старик ничего не спрашивал, и вскоре Тимошин сидел у печки, понемногу проваливаясь в сон, не в силах уже куда-то ехать или даже расспрашивать о дороге.
В ушах стучали колёсные пары, щёлкали стрелки, и, наконец, всё слилось в неразличимый гул. Он проснулся на топчане в темноте, а вокруг было всё то же — печка, стол, ходики. Экран телефона вспыхнул белым светом — но сети не было.
Тимошин пошёл к выходу и услышал в спину:
— Возьми ватник, застудишься.
Снег снаружи никуда не пропал, он лежал чистой розоватой пеленой в свете звёзд. Бредовая картина прорастала в реальность, схватывалась как цемент. И этот морок не давал возможности сопротивляться, поэтому, вернувшись в дом, Тимошин долго лежал молча, пока рассвет не брызнул солнцем в окно.
— Я тебе валенки присмотрел, — наклонился к нему старик. — Ты привыкай, привыкай — не ты первый, не ты последний. Сто двадцать лет тут поезда ходили — я и не такое видел. Утром человек в Окуловку поедет и тебя заберёт.
Что-то начинало налаживаться, и это не могло не радовать.
Тимошин думал о пластичности своего сознания — сейчас, отогревшись и наевшись мятой горячей картошки прямо из кастрюли, он уже почти не удивлялся морозному утру посреди лета.
И вот они уже тряслись по зимнику в древней машине, Тимошин не сразу вспомнил её прежнее название — да-да, она звалась «буханка».
Внутри «буханки» гулял ледяной ветер, и Тимошин ерзал на продавленном сиденье. Старик завел беседу с водителем про уголь — вернее, орал ему в ухо, пытаясь перекричать грохот и лязг внутри машины. Уголь должны были привезти, но не привезли, зато привезли песок для локомотивов, который даром не нужен — всё это уже не пугало.
Они остановились рядом с полуразрушенным вокзалом, и он решил отблагодарить старика.
На свет появилась стодолларовая бумажка, старик принял её, посмотрел бумажку на свет, зачем-то понюхал и вернул обратно.
Тимошин с сожалением отстегнул с руки часы и протянул старику, но тот, усмехнувшись, отказался:
— Это нам уж совсем без надобности.
Действительно, с часами вышло неловко — к тому же Тимошин понял, что часы встали, видимо ударившись тогда, когда он катился кубарем по заброшенной платформе.
— Ты не понимаешь, — сказал старик, — у нас время течет совсем по-другому. Твое время — вода, а наше — сметана. Потом поймёшь.
Если бы не благодарность, Тимошин покрутил бы пальцем у виска — эти провинциальные даосы с их вычурным языком были ему всегда смешны.
И вот он остался один. На станции было пусто, только с другой стороны вокзала парил тепловоз, а рядом с ним стояла кучка людей.
Вдруг что-то рявкнуло из морозного тумана, и мимо Тимошина поплыл поезд с разноцветными вагонами. Тимошин не удивился бы, если увидел в окошке даму в чепце — но нет, поезд спал, только на тормозной площадке стоял офицер с папиросой и задумчиво глядел вдаль. Что-то было не то в этом офицере, и Тимошин понял — рука офицера опиралась на эфес шашки, а на груди тускло горел непонятный орден. Вряд ли это были киносъёмки — наверное, кто-то из ряженых казаков дышал свежим воздухом после пьяной ночи.
Сзади хрустко по свежему снегу подошёл кто-то и тронул Тимошина за плечо. Он медленно обернулся.
Этого человека он узнал сразу. Васька действительно был однокурсником — тут уж не было никаких сомнений. После института Васька, кажется, собирался уехать из страны. Потом случилась какая-то неприятная история, они потеряли друг друга, затем сошлись, несколько раз встречались на чужих праздниках и свадьбах — и вот стояли рядом на августовском хрустящем снегу.
— Тебе поесть надо, — сказал Васька хмуро. — А вот туда смотреть не надо.
Тимошин, конечно, сразу же туда посмотрел и увидел в отдалении, у себя за спиной мордатого — того самого, похожего на шарпея, человека, из-за которого он оказался здесь. Тимошин сделал шаг вперёд, но Васька цепко поймал его за рукав.
Мордатый командовал какими-то людьми, стоявшими у заснеженного поезда. Наконец, эти пассажиры полезли в прицепной вагон, сам мордатый поднялся последним и помахал рукой кому-то. Больше всего Тимошина удивило, что в снегу осталось несколько сумок и рюкзаков.
Тепловоз медленно прошёл мимо них, обдавая оставшихся запахом тепла и смазки.
— А это-то кто был?
— Это начальник дистанции, — так же хмуро пробормотал Васька.
— Не с нами учился?
— Он со всеми учился. Ну его к лешему. Пойдём, пойдём. Потом поймёшь, — и эта фраза, повторённая дважды за утро, вызвала внутри тоскливую ломоту.
Они подошли к вокзалу сзади, когда из облупленной двери выглянула баба в пуховой куртке. На Тимошина накатила волна удушающего, сладкого запаха духов. Баба улыбнулась и подмигнула, отчего на душе у Тимошина стало совсем уныло и кисло.
Да и внутри пахло кислым — тушеной коричневой капустой и паром. Они прошли по коридору мимо стеллажей, на которых ждали своего часа огромные кастрюли, с неразличимыми уже красными буквами на боках. Буфетный зал был пуст, только за дальним столиком сидел солдат в странной форме — не той, что он застал, а в гимнастерке без петлиц, с воротничком вокруг горла.
Васька по пояс нырнул в окошко и кого-то позвал. «А талончик у него есть?» — спросили оттуда глухо. «Вот его талончик» — ответил Васька и передал что-то внутрь, а потом вынырнул с двумя мисками, хлебом и пакетом молока, похожим на египетскую пирамиду.
Затем он сходил за жирными вилками и стаканами, и они уселись под плакатом с изображением фигуры, рушащейся на рельсы. «Что тебе дороже — жизнь или сэкономленные секунды?»
«Действительно, что? — задумался Тимошин. — Тут и с секундами непонятно, и с жизнью».
Васька заложил за щеку кусок белого хлеба и сурово спросил:
— Ты говорил недавно что-то типа «Хотел бы я повернуть время вспять»?
— Ну, говорил, — припомнил Тимошин. — И что?
— А очень хорошо. Это как раз очень хорошо. Потому что с тобой всё пока нормально.
Он вдруг вскочил, снова залез в окошко раздачи и забубнил там, на этот раз тихо, но долго — и вернулся с бутылкой водки.
— Слушай, мужик, — Тимошин начал раздражаться. — А ты-то тут что делаешь?
— Я-то? Я программирую.
— Вы тут все, что ли, программируете? Просто страна программистов!
— Не кипятись. Тут вычислительный центр за лесом, ничего здесь смешного нет, всё правда. Тут программирование совсем другое.
— А это что — особая зона? Инопланетяне прилетели? Военные? — спросил Тимошин с нехорошей ухмылкой.
— Не знаю. Ты потом поймёшь, а не поймёшь — тебе же лучше. Тут ведь главное — успокоиться. Успокойся и начни жить нормально.
— Мне домой надо, — сказал Тимошин и удивился, как неестественно это прозвучало. В глубине души он не знал точно, куда ему надо. Прошлое стремительно забывалось — он хорошо помнил институтские годы, но вот потом воспоминать было труднее. Он только что ехал, торопился…
— Зона? — продолжал Васька. — Да, может, и зона. Но, скорее всего, какой-то забытый эксперимент. Вот ты знаешь, я как-то пошёл в лес, думал дойти до края нашей зоны. Сначала увидел ряды колючей проволоки, какие-то грузовики старые — но нет, это я всё знал, тут давным-давно стояли ракетные части. Потом вышел на опушку и смотрю — там кострище брошенное. А рядом на берёзе приёмник висит. Музыка играет, только немного странно — будто магнитофон плёнку тянет… Помнишь наши катушечные магнитофоны?
— Как не помнить! У меня как-то была приставка «Нота», так… — начал было Тимошин, но тут же понял, что друг его не слушает.
— Висит на берёзе приёмник, «Спидола» старая, и играет. А я-то знаю, что в эти места никто из чужих за четыре года, пока я здесь, не ходил. Что, спрашивается, там за батарейки?
— Да, страшилка — как из кино.
— Да дело не в батарейках, тут всякое бывает. Что за музыка в замедленных ритмах? Это значит, что волна запаздывает, и уже довольно сильно. Ну и газеты ещё старые, не то борьба за здоровую выпивку, не то борьба с пьянством. И так меня разобрало от этого приёмника, что я понял, что дальше ходу нет — там время совсем по-другому течёт. Ты в него, как в реку ступаешь, как в кисель, — ноги не поднять.
А вот обходчик, что тебя встретил, рассказывал, что у него рядом с полотном вообще время другое, будто кто разбрызгал прошлое по лесу: стоят две берёзки, которые он давно помнил — одна вообще не растёт, тоненькая, а вторая уже толстая, трухлявая, скоро рухнет.
— А мертвецы истлевшие лежат? Или там — с косами, вдоль дороги?..
— Ничего, Тимошин, я тут смешного не вижу. Разгуливающих мертвецов не видел, а вот ты сходи на кладбище — там после восемьдесят пятого ни одной могилы нет. Я только потом понял, в чём дело.
— И в чём?
— И в том. Не скажу — не надо тебе этого.
Доев и допив, они пошли внутрь вокзала, причём шли необыкновенно долго, пока не оказались в диспетчерской. На стене висела странная схема движения — с множеством лампочек, означавших линии путей. Только шли они не горизонтально, а вертикально — путаясь, переплетаясь между собой и образуя нечто вроде соединённых двух треугольников, похожих вместе на песочные часы.
— Иван Петрович, — произнёс Васька, и голос его изобразил деловое подобострастие, — я его привёл.
Дежурный посмотрел на Тимошина, сделал странное движение пальцем сверху вниз, и оказалось, что всё это время он слушал телефонную трубку. Прикрыв её ладонью, он устало сказал:
— До завтра ничего не будет.
— А, может, его к нам, в Центр? — спросил Васька.
— Можно и в Центр, но до завтра, — и палец, поднимаясь по дуге снизу, указал им на дверь, — ничего не будет.
— Так я его в Дом Рыбака отведу, да?
Дежурный повернулся спиной и ничего не ответил.
Васька выглядел несколько обескураженным, и повёл Тимошина дальше, пытаясь продолжить прежний разговор:
— С тобой это всё из-за ностальгии, я думаю. Ностальгия похожа на уксус, вот что. Добавил уксуса чуть в салат — хорошо, выпил стакан — отравился. Всё нутро разъест. Я читал, как барышни уксус для интересной бледности пьют.
— Вася, барышни уже лет сто как такого не делают.
— А, всё равно.
Они пришли в домик на краю станции — совершено пустой, и на удивление чистый, только некоторой затхлостью тянуло из комнат.
— Вечером в столовую сходишь, я там уже договорился. Я попробую уговорить, чтобы тебя оставили. Я завтра за тобой зайду, ладно?
Спорить не приходилось — Тимошин, оставшись один, придвинул валенки к батарее и снова заснул. Снова ему в ухо грохотали колёса, и сигнальные огни мигали красным, зелёным и синим.
Он просыпался несколько раз и видел, как мимо проходили составы — чёрные, в потёках нефтяные цистерны, зелёные бока пассажирских вагонов из братской ГДР и побитые в щепу старинные теплушки.
На следующий день он опять опоздал в диспетчерскую, и это, видимо, было к лучшему. Дежурный выдал ему под роспись талоны на питание, а через неделю ему выдали форму. Брюки и рубашка были новые, а вот шинель — траченная, с прожжённым карманом.
Понемногу он прижился, влип в это безвременье, как мушка в янтарь.
Тимошин так и не попал в загадочный вычислительный центр, а стал бригадиром ремонтников, и кажется, его опять должны были повысить — бригада работала чётко, и сигнализация была всегда исправна. Семафоры махали крыльями, светофоры перемигивались и будто бормотали над головой Тимошина — «путь свободен, и можно следовать без остановки, нет-нет, тише, можно следовать по главному пути»…
Или под красной звездой выходного светофора в черноте ночи брызгал синим дополнительный огонь, условно разрешая товарняку следовать, но с готовностью остановиться в любой момент. А вот уже подмигивал жёлтый, сообщая, что впереди свободен один блок-участок.
К Тимошину вернулись прежние знания, и линзовые приборы подчинялись ему так же, как и прожекторные, электричество послушно превращалось в свет — хотя по-прежнему на станции в одну сторону, ту, откуда он появился здесь, горел вечный красный: «Стой, не проезжая светофора».
Прошлое, что давно перестало быть будущим, приходило только во снах — и тогда он просыпался, кусая тяжёлый сонный воздух как собака — свой хвост.
Он как-то ещё раз встретил своего друга. Тот чувствовал себя немного неловко, устроить товарища на непыльную работу за лесом он не сумел, и оттого о своей службе рассказывал мало. Они снова сидели в столовой, и старый товарищ привычным движением разлил водку под столом:
— Я тебе расскажу в двух словах. Есть у меня одна теория — началось, как я понимаю, всё с того, что один сумасшедший профессор собрал в шахте темпоральный охладитель. Я ведь тебе рассказывал, что у нас тут ракетных шахт полно. По договору с американцами мы их должны были залить бетоном, но потом все это замедлилось, а бетон, разумеется, весь украли.
Профессор собрал установку в брошенной шахте, охладитель несколько лет выходил на свой режим, так что заметили его действие не сразу. До сих пор непонятно — истлел ли профессор в своей шахте, или до сих пор жуёт стратегический запас в бункере. Так или иначе, день ото дня холодает, и время густеет на морозе. Поэтому у нас зима, зато скоро Мересьева увидим. Знаешь, что у нас тут Мересьев полз? Полз да выполз к своим. Кстати, Маресьев или Мересьев — ты не помнишь, как правильно?
— Не помню.
— Так вот, это у нас он ёжика съел.
Обоим стало жалко ёжика. Мересьева, впрочем, тоже.
— …Сначала никто ничего и не заметил — отклонение было маленьким — пассажиры и вовсе ничего не замечали: в поезде время всегда идёт долго, ну, а если ночью из Москвы в Питер едешь, так всё и проспишь. А потом отставание стало заметным, стало нарушаться расписание — тут как не заметить?
И от греха подальше в конце девяностых стремительно построили новый Мстинский мост и убрали движение отсюда. Чужие в зону не суются, да и сунутся — против времени не устоишь, с ним не поспоришь. Найти генератор сложно — это ведь тайная шахта, там поверх капониров и шахт ещё тридцать лет назад фальшивый лес высадили, а теперь этот лес и вовсе от рук отбился…
Вот у нас посреди дороги ёлка выросла. Что выросла — непонятно. Зачем? Мы об неё «пазик» наш разбили: вчера ёлки не было, а сегодня есть.
— Через асфальт, что ли, проросла?
— Почему через асфальт? У нас тут асфальту никогда не было. Ты ешь, ешь. Видишь ещё — тут время течёт для всего по-разному, но ты привыкнешь. Я тебя к нам пристрою, у нас хорошие ставки, программисты нам нужны… — и Васька улыбнулся чему-то, не заметив, что в точности повторяет своё обещание.
— А обратно мне нельзя?
— Обратно? Обратно никому нельзя. Помнишь про анизотропную дорогу? Мы, начитавшись книжек, думали, что анизотропия штука фантастическая, а потом на третьем курсе нам объяснили по Больцману, что в зависимости от энтропии время во Вселенной может течь в разные стороны. Но это только первое приближение, всё дело в том, что мы живём на дороге.
— Анизотропное шоссе?
— Шоссе? При чём тут шоссе? Я про железную дорогу говорю. Впрочем, шоссе, дорога — это все равно. У нас тут пути — тут видишь, у нас пути разные — первый путь это обычный ход, а второй — обратный. По второму пути у нас никто не ездит — там даже за Окуловкой рельсы сняты. А по основному пути тебе рано.
— Почему рано?
— А не знаю почему. Даже мне рано, а тебе и подавно. Но ты всё равно на основной путь не суйся, если ты перепутаешь, то даже сюда не вернёшься. Это только начальник дистанции туда-сюда ездит. Как Харон.
Зима тянулась бесконечно — только морозы сменялись оттепелью.
Иногда, вечером заваривая крутым кипятком горький грузинский чай, Тимошин чувствовал своё счастье. Оно было осязаемо, округло и упруго — счастье идущего вспять времени.
Они встречались с Васькой, когда он приходил поговорить.
Каждый раз он звал его на работу и каждый раз рассказывал новую версию того, отчего образовалась Веребьинская зона. Но итог был один — ничего страшного, просто нужно делать своё дело. Помнишь, Тимошин, мы особо много вопросов в институте не задавали, и всё как-то образовалось, все на своих местах, даже здесь встретились. Железнодорожник нигде не пропадёт, если он настоящий железнодорожник, ты понимаешь, Тимошин? Да?
Потом они встретились ещё, и Тимошин услышал новую, ещё более невероятную, историю. Она прошелестела мимо его ушей, потому что Тимошин прижился, и не было ему уже не нужно ничего — никаких объяснений.
Он находился в странной зоне довольства своей жизнью и думал, что вот, отработает ещё месяц и подастся в Вычислительный центр. Или, скажем, он сделает это через два месяца — так будет ещё лучше.
Проснувшись как-то ночью, Тимошин накинул ватник на плечи и вышел перекурить. Как-то сам собой он начал курить — чего раньше он в жизни не делал. К этому, новому времени хорошо пришёлся «Дымок» в мятой белой пачке, что обнаружился в кармане ватника.
Тимошин стоял рядом с домиком и думал, что вполне смирился с новым-старым временем. Единственной памятью о прошлом-будущем остался телефон, который в столовой справедливо приняли за иностранный калькулятор.
Он подкинул телефон на ладони и приготовился запустить им в сугроб, но вдруг понял, что схалтурил — тот светофор, что он сам чинил днём, подмигивал ему, зажигался и гас, разрешая движения с неположенной стороны. Сегодня Тимошин, засыпая на ходу, что-то намудрил в реле, и, не проверив, ушёл спать.
Это было больше чем позор, это была потенциальная авария, а, значит, преступление. А Тимошин знал с институтских времён фразу наркома путей сообщения о том, что всякая авария имеет имя, фамилию и отчество.
Он подхватил сумку с инструментами и побежал к светофору. Но только приготовившись к работе, он вдруг увидел, как к станции, повинуясь огням, медленно подходит поезд.
Что-то в нём было не то — и тут он понял: вагоны были Тверского завода. Вагоны были не аммендорфские, а ТВЗ, вот в чём дело. Пять гофров, а, иначе говоря — рёбер жёсткости, указывали на то, что это поезд из другого времени. И он шёл по второму пути — совсем с другой стороны.
Это был его поезд, тот давнишний, из тамбура которого вечность назад он скатился кубарем на промёрзшую асфальтированную платформу.
Поезд постоял несколько секунд в тишине, потом внутри что-то заскрипело, ухнуло, и он стал уходить обратно — в сторону морозного тумана, в своё уже забытое Тимошиным время.
И Тимошин сорвался с места. Из последних сил он припустил по обледенелой платформе. Ватник соскочил с плеч, но Тимошин не чувствовал холода.
Дверь призывно болталась, и Тимошин мысленно пожелал долгих лет жизни забывчивому проводнику. И вот, кося взглядом на приближающийся заборчик платформы, он прыгнул и, больно стукнувшись плечом, влетел в тамбур.
Он прошёл не один, а четыре вагона, пока не увидел старичка, что по-прежнему игрался со своим цилиндром Рубика, стоя в коридоре. Тимошин посмотрел на него выпученными глазами безумца, а старичок развёл руками и забормотал про то, что вот они только что чуть на боковую ветку не уехали, а всё потому, что впереди на переезде товарняк въехал в экскаватор.
Наконец, Тимошин открыл было рот:
— А где этот? Мордатый такой, а?
— А сошёл приятель твой, да и ладно. Нелюбезный он человек. Неинтеллигентный.
Тимошин проверил портфель и бумаги. Телефон, по-прежнему зажатый в руке, вдруг мигнул и запищал, докладывая, что поймана сеть.
Тимошин подложил его на подушку и взял в руки бритву, тупо нажав на кнопочку. Бритва зажужжала, забилась в его руках как пойманный зверёк — и это вконец отрезвило Тимошина.
Но что-то было не так. И тут он поймал на себе удивлённый взгляд старичка, последовал ему и тоже опустил глаза вниз. Тимошин стоял посреди купе, ещё хранившего остаток августовской жары, и тупо глядел на свои большие чёрные валенки, вокруг которых растекалась лужа натаявшего снега.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
03 августа 2015
(обратно)
История про патриотические песни (2015-08-07)

Случилась печальная годовщина событиям у Осовца, и на меня отовсюду полезла Варя Стрижак.
Нет, воля ваша, вы, конечно, любите себе Варю Стрижак, даже вслух любите, но поскольку меня спрашивают, чего я так морщусь, так я вас скажу, что это — кал.
«Кал» — так ведь можно говорить, да?
Отчего именно она — какая-то адская концентрация пошлости?
И ведь на днях я смотрел ночной телевизор, и там была масса купленных клипов с ухоженными женщинами средних лет, которые честно шли к этому достижению — и вот они-то меня не раздражали совсем. У некоторых даже были красивые сиськи.
И ведь вот Ваенгу я вовсе нахожу забавной.
Или там какого-нибудь Стаса Михайлова, что в бутафорских орденах, изображая фронтовика, поёт на праздник военные песни. И даже к КСП, к которому у меня личные счёты, я отношусь иначе.
Тепло, как к воспоминанием о детском садике и тому, как ты, не добежав, в отчаянии, писаешься в колготки. Но одно дело — ностальгия и непреходящая ценность стихов Пастернака, положи их на музыку или нет.
А другое дело, современная состарившаяся дева, что с придыханием подпевает тому, что вот идёт по свету человек-чудак. С этой бардовской песней случилось то, что всегда случается с запретным плодом или подземными реками. Есть история про то, как Булгаков, будучи уже тяжело больным попросил жену присесть на краешек постели и сказал: «Люся, хочешь, я расскажу тебе, что будет? Когда я умру (и он сделал жест, отклонявший ее попытку возразить ему), так вот, когда я умру, меня скоро начнут печатать. Журналы будут ссориться из-за меня, театры будут выхватывать друг у друга мои пьесы. И тебя всюду станут приглашать выступить с воспоминаниями обо мне. Ты выйдешь на сцену в черном бархатном платье с красивым вырезом на груди, заломишь руки и скажешь низким трагическим голосом: «Отлетел мой ангел…»
Я отвлёкся, хотя, быть может, именно это — ключ к Варе Стрижак.
Это как дантово отличие меж обманувшими недоверившихся и обманувшими доверившихся — находятся рядом, но вторые — глубже.
Пошлое патриотическое высказывание мгновенно становится антипатриотическим.
То есть, эта интонация патриотизма прет-а-порте в песнях о России, что мы потеряли, хруст нефранцузкой булки…
Ну а Собственно, эта как бы патриотическая эстетика хорошо показана одним чехом в его романе (чех, правда, сперва воевал на той стороне):
Он пушку заряжал,
Ой, ладо, гей люди!
И песню распевал,
Ой, ладо, гей люди!
Снаряд вдруг пронесло,
Ой, ладо, гей люди!
Башку оторвало,
Ой, ладо, гей люди!
А он все заряжал,
Ой, ладо, гей люди!
И песню распевал,
Ой, ладо, гей люди!
Варя Стрижак давно трудится на военно-патриотической ниве, и клипов у неё достаточно. Все сделаны по одним лекалам: клубника-в-сметане-доронина-таня-как-будто-«шанели»-накапали-в-щи. Если она пела про трагическую жизнь на питерском телевидении или там что ещё семейное, я бы не возражал, но она об убитых. Тут перед нами жанр «сентиментально-патриотический лубок», где трагические события не осмыслены, а обозначены. Я как-то даже разбирал, какой-то её клип, как там чередуются штампы и собираются в одну кучу — шинель, крест на церкви, слеза, голос повыше, голос пониже, Россия, смерть, любовь, непорочность.
В случае Осовца видеоряд, кстати, тут сделан по принципу «чтобы пострашнее», а оттого напоминает бразильский сериал.
Избыток пафоса всегда мстит агитатору, нет случая, чтобы не отомстил — это как слова «я тебя люблю» и «я тебя очень люблю».
Ну и чудовищные, конечно стихи. Там указан такой странный человек Ватагин, ну так это туши свет, сливай воду:
В бой идут ополченцы,
Крепко сжимая приклад.
На официальном сайте, кстати, слова песен выложены. Среди прочих — чудесное «Имперский Дух, или Боже, Царя Храни!» с пометой «Гимн Российской империи (1833–1917). Слова: Василий Жуковский. Музыка: Алексей Львов». Правда потом добавлен «Слова: Владимир Шемшученко. Музыка: Михаил Чертищев».
Василий Андреевич изрядно бы подивился, как в гимн Российской Империи проникла строфа:
Пусть цепь звенит! Пусть снова свистнет плеть
Над теми, кто противится природе!
Имперский дух неистребим в народе.
Империя не может умереть!
Оно что вышло, Михалыч. Цепь и плеть. И прелести кнута.
Я не говорю про то, что поёт она неважно и добирает слабость вокала пафосом. Патриотический лубок не предполагает хорошего вокала, он как раз в этом месте предполагает тоненький срывающийся голосок.
Но, у нас феномен, конечно, ещё более интересный, потому что делается не самой певуньей, а благодарной публикой.
В случае Стаса Михайлова был сильный спрос на шансон без тюрьмы, в случае упоительных русских вечеров — спрос на реинкарнацию «Звезды пленительного счастья», но без кронверка Петропавловки и каторги, а Стрижак — это такая милитаризированная россия-которую-мы-потеряли.
Не без декабристов, но так, что Государь всех простил, и они сами — на Кавказ, и там погибли. Все-все. А ветка сирени зацвела.
Человеку хочется каких-то идеалов. Вообще, нормальному человеку свойственно эмоционально попереживать. Расчувствоваться. Смахнуть слезу. Вздохнуть.
Но он, простой обыватель, не всегда уверен, что это прекрасный идеал. Ведь в своём всегда не уверен. Можно эти идеалы выстрадать, можно к ним идти через постоянное обдумывание — но это чрезвычайно утомительно. А идеал прет-а-порте тем и хороши: оглянулся, и вот они. Под рукой, пустил слезу и реализовал патриотическое чувство.
Я бы на её месте перепел бы про то, что в ларчике своём она погоны хранит, но не знаю, как это ляжет на квинтовый круг.
07 августа 2015
(обратно)
Про новый дизайн френдленты (2015-08-11)
Не, ну а вот нельзя бы тут повесить фамилии этих людей, что решили что-то улучить. Нет, просто вот фамилии, но лучше фотографии. Некоторых улучшателей я знал в прежние времена, а некоторых — видел на фотографиях. После этого, когда они фотографировались в своих белых ленточках и постили свои фоточки на митингах в защиту всего хорошего против всего плохого, я очень хотел, на манер генерала Чарноты, вписаться куда-нибудь к Путину. расстрелять этих улучшателей, а потом, если успею, выписаться обратно.
Вот по этому, бля, и стухла вся ваша оппозиция, и поэтому говно ваш креативный класс, и поэтому ничуть мне не жаль, если вы валите с моей многострадальной Родины — всё оттого, что несколько персонажей решили, что так веселее, что это им так решать, и поулучшали.
Не, если вы у кровавого режима на окладе, так я даже уважаю.
Это даже стильно.
Нет, добивать Живой Журнал, который взошёл, когда вы ещё под столом лужи делали и перейти их не могли, дело святое. Я к нему и сам с претензией.
Нет, конечно, сразу сгущаются люди, что несут в ладошках правду про консоль и волшебные ссылки. Ссылки-то есть у меня, да не всем они помогают.
У меня-то старый стиль 2001 года — тронешь и осыпется он прахом, сдует его ветер.
Так что всё закономерно.
Но фамилий я не знаю, вот беда.
И на фоточки я бы всё равно посмотрел.
Извините, если кого обидел.
11 августа 2015
(обратно)
Ы (День народностей севера. 9 августа) (2015-08-11)
Я вообще презираю все слова на „еры“, в самом звуке „ы“ сидит какая-то татарщина, монгольство, что ли, Восток. Вы послушайте: ы. Ни один культурный язык „ы“ не знает…
Андрей Белый, «Петербург»

Это так его звали — Ы. Всё вокруг было на «Ы». Твёрдый мир вокруг был Ырт, а небо над ним было Ын.
Но мальчика давно не звали по имени.
Человек со стеклянными глазами звал его «Эй», когда был далеко, и «Ты» — когда он стоял близко. «Ты» — было хорошее слово, и ему нравилось — только всё равно это было не его имя. Стеклянноглазый говорил, что «ы» — смешное имя, но мальчик жалел старика и не отвечал ему, что стеклянные глаза, которые тот надевает с утра — ещё смешнее.
Мальчик откликался и на «ты» и на «эй» — ведь больше звать его было некому — потому что умерли все.
Только Человек со стеклянными глазами жил с ним — вместо настоящей семьи. Человек со стеклянными глазами пришёл в стойбище давным-давно, и мальчик уже не помнил когда.
Тогда ещё были живы родители мальчика, и ещё несколько семей жили рядом. Потом пришла болезнь, и все родственники мальчика ушли из твёрдого мира. Теперь они остались вдвоём.
Во время Большой Войны оттаял лёд под землёй. Он оттаял там, на юге — и Ырт оказался отрезан от прочей земли. Так говорил Человек со стеклянными глазами, но мальчик вежливо верил ему. Пока у него есть Ырт, есть белёсое небо над ним, есть река — больше не надо ему ничего.
Нет, есть, конечно, ещё Труба.
Всё дело в том, говорил стеклянноглазый, что кончился газ. Если бы газ не кончился, здесь по-прежнему было бы много людей, которые сновали бы между севером и югом. Но газ кончился ещё до войны, и местность опустела. Остались странные сооружения, смысл которых был мальчику непонятен, и остался покинутый город.
Город давно уже разрушился — лёд толчками, будто лёгкими ударами, выбивал из земли сваи, затем дома складывались, а потом под ними подтаивала лужа.
Снова на долгий северный день приходило солнце, и остатки дома утягивало на дно — и дальше, вглубь. А потом появлялась ряска, мох смыкался над озерцом — будто и не было здесь ничего.
Мальчик знал, что так происходило оттого, что Ырт живой и он тоже должен питаться. А может, земле было интересно, что там, на поверхности, и вот она тащила внутрь всякое — чтобы лучше рассмотреть.
Так Человек со стеклянными глазами делал, если забывал где-нибудь свои стеклянные глаза. Тогда он водил носом, ощупывая вещи, и моргал. Сначала мальчик думал, что Стеклянноглазый хорошо нюхает, но это оказалось не так.
Просто без своих стеклянных глаз он мог видеть только так.
Город исчезал, подёргивался болотным мхом. Лес, который в детстве мальчика стоял на горизонте, придвинулся ближе и уже рос на улицах бывшего города.
Человек со стеклянными глазами нравился мальчику, хотя пользы от него не было никакой. Он был слаб, не умел управиться с оленем. Единственно, что он научился делать, это собирать ягоду морошку. Но мешки с ягодой Стеклянноглазый волок в свой огромный дом, в комнату, уставленную стеклянными банками. Там пахло кислым, курился неприятный дымок.
Стеклянноглазый был колдуном, но колдуном неважным — он только и умел, что превращать ягоду-морошку в воду, которую можно было зажечь.
Мальчик как-то пробовал эту воду, но ему стало так плохо, как бывает в момент перехода из твёрдого мира в царство мёртвых.
Человек со стеклянными глазами долго объяснял ему, что мальчик просто из другого племени — оттого ему не идёт впрок чужое питьё. Например, ни у кого из племени мальчика не росла борода, а вот у Стеклянноглазого борода была широкая, длинная, разноцветная: серая и жёлтая — и тоже пахла кислым.
Иногда, выпив превращённой воды, Человек со стеклянными глазами рассказывал ему про другие племена. Он говорил об огромных прозрачных домах, о больших птицах, что везли людей по воздуху. Он говорил ему о женщинах, что живут без детей, и о детях, что живут, не добывая себе корма.
В это как раз мальчик верил, потому что когда он был совсем маленький, то отец взял его в путешествие к южным болотам. Это были очень неприятные места.
Во время войны на Север пошёл поток беженцев — они шли с юга толпами, но все они исчезли в этих болотах.
Северный народ боялся подходить к тем местам близко, потому что, исчезая в трясине, люди кричали протяжно и печально — и не было потом спокойствия от этого звука. Это рассказывали все — и вот, спустя много лет, мальчик с отцом поехали на юг посмотреть — как там и что. Мальчик видел на кочках оставшиеся от беженцев странные вещи — круглые и блестящие, совсем непонятные и, наоборот, годные в хозяйстве.
Но больше его поразили тотемные звери исчезнувших людей. Они были сделаны из упругого материала — и не было среди них ни медведей, ни оленей — только страшные уродцы. Один полосатый, другой с тонкой длинной шеей, третий с круглыми огромными ушами.
Мальчик взял одного — зверя в полосатых штанах, с круглой головой, откуда торчал нос, похожий на лишнюю руку или ногу.
Поэтому мальчик верил всему — отчего же нет? Пускай.
Даже хорошо, что где-то живут эти люди, но ещё лучше, что они живут далеко. И ещё он вспоминал о мудрых стариках, что велели завалить камнями огромное жерло трубы сразу после того, как по Трубе к ним попал Человек со стеклянными глазами.
Стеклянноглазый приехал на тележке, что ехала внутри трубы, и долго был похож на человека, лишённого души.
Только потом он пришёл в себя и внешне стал похож на человека севера, тем более, что его рассказам про южную жизнь никто не верил. Страшно было подумать, что вслед за ним придут эти звери — с длинными шеями, полосатые, и самый страшный — серый, толстый, с длинным носом посреди морды, похожим на пятую ногу.
И один мальчик слушал рассказы Человека со стеклянными глазами, будто сказки о существах Дальнего мира, то есть царства мёртвых.
В эту весну мысли о юге особенно тревожили мальчика по имени Ы. Что-то происходило с ним — он смотрел, как олень покрывает самку, как бьются грудью друг о друга птицы, и ему было сладко и тревожно. Он будто знал, не проверяя силки, знал наверняка, что пойман большой зверь.
Стеклянноглазый только улыбался, наблюдая за ним — он говорил, что эта болезнь давно записана в книгах колдунов большого мира, что понимают и в зверях, и в людях. Стеклянноглазый говорил это, хлопая себя по бокам, изображая медведя, стоящего на задних лапах.
Мальчик не обижался и всё равно слушал его внимательно. Однако мальчика пугали огромные изображения женщин, что висели на стенах комнаты Стеклянноглазого — эти женщины были раздеты и манили мальчика пальцами. Правда он видел, что эти женщины немощны, худы и не годны ни к родам, ни к работе.
Иногда ему хотелось посмотреть, есть ли они на самом деле — залезть в Трубу и уехать на тележке Стеклянноглазого прочь — на юг. Но твёрдый мир может пропасть, если не останется в нём никого. Он свернётся, как листочек в огне, или съест его в один кус евражка.
Поэтому мальчик только слушал да запоминал рассказы колдуна.
Но теперь всё кончалось.
Стеклянноглазый заболел — он уже не выходил из комнаты со своими стеклянными банками, и мальчик начал носить ему еду.
Больной стал говорить всё быстрее, мешая слова и употребляя те, что мальчик не мог понять. Стеклянноглазый то убеждал мальчика, что жить в Ырте хорошо, что это счастье — прожить жизнь здесь, никуда не отлучаясь. И тут же начал проклинать Ырт, противореча самому себе.
Мальчик понял, что время стеклянноглазого истончается. Когда колдун говорит о том, что мир ему надоел, то боги помогают ему, каким бы дурным колдуном он ни был. Стеклянноглазого стало немного жаль — и мальчик даже решил подарить ему одну душу.
У людей с юга, даже колдунов, была всего одна душа, и боги забирали её после смерти.
А вот у людей Севера было семь душ — не много и не мало, а в самый раз.
И счёт душам был такой:
Душа Ыс должна была спать с мальчиком в могиле, когда он умрёт. Она должна была чистить его мёртвое тело, оберегать его от порчи. И если человека Севера похоронят неправильно, то душа Ыс придёт к живым и возьмёт с собой столько вечных работников из числа семьи, сколько ей нужно.
А душа Ыт — вторая его душа — унесёт мальчика вниз по реке, к морю — она похожа на маленькую лодочку. Там, где кончается река, царство мёртвых выходит своими ледяными боками из-под земли наружу.
Третья душа, душа Ым — похожа на комара, что живёт в голове мальчика, и улетает из неё во время сна. Именно поэтому иногда мальчику снятся причудливые сны — где сверкают на солнце прозрачные дома, и между ними ходят огромные звери — и среди них толстый зверь с длинным носом, похожим на пятую ногу.
Мальчик видит сны только потому, что маленький комар летит над землёй и ночью мальчик глядит его глазами.
А четвёртая душа по имени Ык живёт в волосах. Оттого, если у человека вылезли волосы, то, значит, жизнь его в Ырте закончилась.
И есть у мальчика ещё три души, что предназначены для его нерождённых детей. И их можно назвать как хочешь — согласно тому, какие дети родятся.
Но детей у него пока нет, потому что некого взять в жёны, а Стеклянноглазый уже сказал давным-давно, что с ним завести детей нельзя.
Всё равно мальчик хотел отдать ему одну душу, и вот теперь он начал шептать в умирающее морщинистое ухо об этом.
Но прежде мальчик хотел узнать, есть ли на юге большая река, что текла бы на север. Он знал, что душа-лодка не пройдёт по болотам — и река на юге, по словам Стеклянноглазого, была. Потом он ещё раз уточнил, правда ли, что многие люди на юге стригут волосы, некоторые даже бреются.
Мальчик запоминал всё — и то, как двигается тележка внутри трубы, и то, как устроена жизнь на юге. Человек со стеклянными глазами снова отговаривал его от странствий — на юге, говорил он, люди злы. Они живут в городах, как мыши в клетках. Он говорил, что они вовсе живут без души, а у всех на руке железная печать, по которой их отличают одного от другого.
Главное, говорил Человек со стеклянными глазами, там нет свободы — и снова начинал плакать.
Мальчик приходил к Стеклянноглазому ещё два дня и поил его оленьим супом — а на третий день Человек со стеклянными глазами открыл рот, да и не закрыл его больше. Суп вытек обратно по щеке, и все четыре глаза колдуна потеряли смысл. Тогда бог Стеклянноглазого пришёл и забрал его единственную душу.
Подул по комнате ветер, с шорохом перебирая бумажные картинки, повешенные на стенах, упала, подпрыгнула и покатилась куда-то пустая банка от превращённой воды.
Мальчик понял, что чужую душу куда-то увели.
Он закопал колдуна, как и положено — лицом вниз, чтобы он сразу увидел, что там, внутри земли.
Единственный оставшийся под белёсым небом твёрдого мира человек задумался.
Всё, что он знал теперь о мире, позволяло сделать правильный выбор.
Пока человек жив, его душа движется, хотя это нам и не видно — одна душа, как тень облака летящего над Ыртом, другая — как тень птицы, третья — как тень оленя. Пока движутся души, движется и человек.
Дети должны быть рождены, и человечьи души должны совершить свой привычный круг в природе.
Мальчик снова вспомнил бессмысленных бумажных женщин колдуна и пожалел его.
Но главное — он придумал, кто сбережёт твердый мир Ырта до его возвращения.
Несколько дней он разбирал каменный завал у жерла трубы.
В полуразрушенном зале, среди железных шкафов и непонятных колёс с рукоятками, перед ним открылась чёрная дыра, ведущая на юг. Понизу трубы шли рельсы для тележки ремонтного робота. Мальчик залил в огромный бак всю превращённую из ягоды морошки воду, оставив колдуну только одну бутыль.
Наутро он стал прощаться с привычным миром. Третья душа, похожая на комара, вернулась из леса — её обязательно надо было дождаться — иначе, забыв эту душу, он проведёт всю жизнь без сна.
Первая душа проснулась и требовала еды — потому что смерть и еда рядом, а могильной душе нужно много сил. Вторая душа, душа-лодка, напряглась в его теле, потому что она отвечала за всякое странствие — неважно, на север или на юг, по воде или посуху.
Души его нерождённых детей сидели смирно, как настоящие испуганные дети.
Тогда он сделал последнее из того, что нужно было сделать перед дорогой — во-первых, он оставил волосяную душу Стеклянноглазому, потому что волос у Человека со стеклянными глазами было много, а заботиться о них и о его теле было некому.
Теперь Душа волос будет бережно хранить Стеклянноглазого, а много из могильной бутыли всё равно она не выпьет. Всё-таки это душа северного человека, а не южного.
Во-вторых, он наконец, напрягшись, вырвал из себя одну из детских душ и велел ей жить в самом страшном тотемном звере — носатом и ушастом. Эта душа должна ждать его возвращения и хранить безлюдный Ырт его предков.
Зверь в полосатых штанах уставился на восход, поднял свой нос и замер. Теперь его, маленького и храброго, звали Ы.
Осталось пять из семи — это не так уж мало.
И вернувшись к Трубе, мальчик запустил мотор самоходной тележки.
Оживший инспекционный робот подмигнул ему лампочкой, и все они тронулись в путь. Пять душ вцепились в его тело, как дети в быстро бегущие нарты.
За спиной плакали две оставшиеся души, потому что тот, кто остаётся, всегда берёт большую печаль, а тот, кто уезжает — меньшую.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
11 августа 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-08-11)

Вот сегодня день рождения поэтессы Софьи Парнок.
Непростой, юбилейный.
Известна она, правда, не сколько своими стихами, а женской любовью.
Но это не беда — могла бы какой ужасной смертью быть известна.
Я был довольно долго её соседом.
Я жил неподалёку от дома, где родился Пастернак — в странном небольшом доме. Дом этот когда-то был служебным у военного ведомства, и в нём расстреляли несколько составов жильцов — волнами.
Единственная квартира, в которой никого не расстреляли, была квартира моей родственницы.
Её муж счастливо умер в 1936 году.
А вот в соседнем доме жила поэтесса Парнок.
Она жила у меня за стенкой фактически, только на полвека раньше.
Эти дома были маленькие и стояли стена к стене.
Известно, что дом, где жила Парнок строил знаменитый архитектор Нирензее. В Москве что-то лихо снесли за последнее время много его домов, и поэтому проектировщикам велели, когда они это снесут, сохранить в новом здании форму старого фасада.
Но потом это разудалое дело сноса замедлилось, меня, впрочем, оттуда уже давно выселили.
Я к государственной машине сноса и разрушений относился философски, помня фразу Шкловского: «Когда мы уступаем дорогу автобусу, то мы делаем это не из вежливости».
Но вот старухи из моего дома боролись.
И соседские — тоже.
Однажды я пришёл к старухам, что пытались отстоять эти дома, на собрание.
Я сказал им:
— Старухи! Давайте повесим тут мемориальную доску: «Здесь в 1914 году Марина Цветаева потеряла невинность с Софьей Парнок». Дом станет выявленным памятником, на угол даже собаки ссать побоятся — и всё такое.
Но старухи обиделись и меня больше не звали.
Впрочем, дом Парнок, кажется, отстояли.
Кстати, отчего это творческие личности жили в квартирах за номером три — непонятно. Парнок тоже жила в третьей квартире — но не на 2-ой Тверской Ямской, а на 4-ой.
Я больше всего удивился именно этому открытию, ведь — каково? В трёх метрах, значит, от меня — за стенкой… Цветаева… И Парнок… А потом — те… И эти… И те тоже… А я-то, прочитавший Бог знает сколько текстов, про всех этих людей — ничего не знаю. Хотя, конечно, это всё надо проверить — может Парнок там делала совсем другое и с другими — она была известной ветреницей. Ан нет, пепел истории стучал мне в сердце, как полированные шишечки железной кровати в стену.
Стук-стук, слушай, сосед, силлаботонику русской поэзии.
Но и жизнь её не баловала, конечно.
А так-то дома тут были полны легенд — мне долго и серьёзно рассказывали про квартиру, что находилась подо мной — о том, как маршал Тухачевский пришёл туда на блядки, а его повязали по утру, и ещё со следами довольства на лице, и упаковали в чёрный автомобиль. И нужды нет, что его арестовали в городе Куйбышеве. Где город такой? Глянь вон всяк желающий прямо сейчас на карту — нет там никакого Куйбышева.
Был, может, да сплыл.
Отравили.
Как Тухачевский.
А несколько лет подряд я слушал из стены музыку. Нужно было привалиться стоптанным ухом в определенном месте — и было слышно тихое урчание электрогитары. Наверное, в подвале сидел какой-то человек, для которого наступил вечный день Сурка — он играл всё лучше и лучше, и вдруг исчез. Может быть, я опознаю его на слух в каком-нибудь радио.
Или вот во дворе нашего дома поставили какой-то бетонный куб, перевязанный арматурой.
На нём было написано: «Памятник потребителю». И точно, вместо части двора и больничного скверика нам на радость поставили богатый потребительский дом.
Извините, если кого обидел.
11 августа 2015
(обратно)
Ночной самолёт в дачном небе (День ВВС. 12 августа) (2015-08-12)

Мы сидели на крыльце в сгущающихся сумерках. Наши матери несколько раз выглядывали — как мы там, и меня веселило то, что они явно боялись — не покуриваем ли мы. На дачах были тысячи мест, где это можно было сделать тайком, а они боялись, что мы будем курить прямо у них на глазах. Да и бояться надо было совсем других веществ, не табака все теперь боялись.
А уж наши отцы как раз задымили сразу после ужина.
Их фуражки висели рядом — у моего отца околыш был голубой, а у Лёхиного — чёрный. Они всё время шутили, что, дескать, один должен сбивать другого, а тот должен бомбить первого. «Сами не летаем и другим не даем!» — приговаривал Лёхин отец. А вот Лёха всегда завидовал моему шлему, настоящему шлему пилота, чёрному, кожаному, с вставками для наушников. У его отца такого шлема не было, зенитчикам лётные шлемы были не положены. Правда и мне мать запретила носить этот шлем — если я затягивал ремешок на подбородке, то не слышал уже ничего, а она боялась, что я попаду под машину.
Я бредил авиацией и представлял себя в кабине бомбардировщика — в кожаной куртке, в шлеме, с планшетом, откуда перед вылетом надо достать конверт с указаниями — точно, на Берлин, мы готовы к этому и моторы нашего ТБ-7 уже запущены, мы знаем, что вряд ли вернёмся на родной аэродром, прощай, мама, прощай, Лёха…
Мы жили на соседних дачах, и в городе наши дома были неподалёку.
Дружили наши матери, дружили наши отцы, и мы с Лёхой жили как братья.
Сейчас отцы наши крепко выпили, и мой остался на веранде — сидеть и смотреть на чужую работу. Дача — много посуды в холодной воде. Тарелки стучали друг о друга, и тихо звенели вилки.
Лёхин отец вышел к нам, как раз когда в небо россыпью бросили крупные августовские звёзды.
Там, в вышине, мигал разноцветными огнями заходящий на посадку самолёт. Ещё выше по небу медленно двигалась белая точка, и я подумал, что это, наверное, спутник или космическая станция.
— Да, — сказал Лёхин отец, — много всего в воздухе нынче болтается. В мои-то времена…
Лёха скривился, и я знал почему — сейчас его отец будет вспоминать, как начинал службу.
Мы слышали этот рассказ не раз — и всегда вот так, после шашлыков, когда Лёхин отец, приходил в сентиментальное состояние.
Он и выглядел в этот момент моложе.
А рассказывал он всегда о том, как начал служить в зенитном полку, одном из многих, стоявших под Москвой. Эти полки встали там ещё при Сталине, а ракеты для них придумал сам Берия. Ну, или сын Берии или внук — всё равно. Мы как-то ездили на велосипедах к такому месту — нам рассказали, что это огромные сооружения, которые строили зеки, и их не стали ломать, потому что как начали, так обнаружили, что внутри толстенных стен эти самые зеки и замурованы.
Никаких скелетов мы не нашли — военная часть была в запустении, всюду валялся мусор, и местные пацаны, судя по пустым бутылкам, уже выпили там целое море пива. Честно сказать, местных мы боялись больше, чем скелетов.
Внутри бетонных укрытий было нагажено, всё мало-мальски ценное растащили, и мы не стали рассказывать об этом Лёхиному отцу, чтобы не расстраивать.
А когда мы, снова оседлав велосипеды, приехали года через два с новенькой цифровой мыльницей, то оказалось, что перед нами крепкий забор, а вместо развалин военного городка — коттеджный посёлок.
Но для Лёхиного отца все эти сооружения были живы, он перечислял смешные позывные и названия каких-то приборов. Рассказывал, как надёжно всё было придумано ещё тогда, в конце сороковых, а в наше время в специальном месте сидел пулемётчик, который должен был сбивать крылатые ракеты.
Но мы потихоньку вырастали из того возраста, когда любая железяка, покрашенная в зелёный цвет, возбуждает мальчишку. Нас стали возбуждать совсем иные вещи.
Мы, поздние дети, любили наших отцов, видя, как они понемногу становятся беззащитны.
Вот и сейчас мы слушали старую историю про то, как дежурный по полку уронил свой пистолет в туалетную дырку и пришлось пригнать целый кран с электромагнитом, который притянул к себе не только боевое оружие из трясины, но и все гвозди из дощатого домика.
— При Сталине за такое бы не поздоровилось, — сказал я и тут же прикусил язык.
Глупость какая, я, в общем, понимал, что Сталин был давным-давно, а Лёхин отец, как и мой, служил при ком-то другом.
Но тут мой батя вылез с веранды и сказал:
— Ты им про атомный самолёт расскажи.
Лёхин отец посмотрел на меня с недоверием — стоит ли такому рассказывать про атомный самолёт.
По всему выходило — не стоит. Дурак я был дураком, и этой истории недостоин, но он всё же начал.
Когда он только приехал в полк, время было неспокойное (оно у нас всегда было неспокойное), но как-то особенно ждали войны. Особенно, значит, в неё верили.
И вот однажды молодой лейтенант сидел на своём боевом посту и защищал наш город от американских бомбардировщиков: к нам ведь не могли долететь никакие другие бомбардировщики, ни английские, ни китайские.
Вдруг он увидел на экране своего радара точку, что приближалась к нашему городу.
Он тут же нажал кнопку боевой тревоги и стал ловить нарушителя в прицел — не такой, правда, какой бывает у снайперской винтовки, а в специальный электронный захват.
Я себе очень хорошо представлял эту картину — в полутёмном зале светятся только зелёные круглые экраны, потом вспыхивает красная лампа, она мигает, как на дискотеке, все начинают бегать, а Лёхин отец тревожным голосом кричит в микрофон: «Цель обнаружена! Маловысотная! Дальность — тридцать!» Ну, что-то ещё он кричит в микрофон, а в это время солдаты отсоединяют заправочные шланги от ракеты и бегут в укрытие — и вот эта ракета медленно летит по голубому небу, оставляя длинный ватный след.
А на них всех смотрит Сталин с портрета. Ну или там Берия. Или там ещё кто-то, кто должен висеть в виде портрета на этой чумовой дискотеке.
Но в этот раз всё было иначе, старший смены остановил молодого лейтенанта и крикнул: «Отставить тревогу!».
И тревогу отставили — только жёлтая точка всё ползла и ползла по экрану, а потом выползла за его край.
Это был наш атомный самолёт.
У него был вечный запас топлива, потому что атомному самолёту нужен всего один грамм топлива для его реактора, чтобы облететь Землю. А, может, даже и меньше ему нужно.
— Всё дело было в том, что много лет назад, ещё при Сталине, — тут уж Лёхин отец сказал это с нажимом и посмотрел при этом на меня.
— Ещё при Сталине, в сороковые годы, когда война уже кончилась, а у нас появилась атомная бомба, мы стали думать, как же нам её добросить до американцев. Не из рогатки же ею пуляться. Ракеты у нас были маленькие, прямо скажем, ракет у нас вовсе не было, а вот самолёты были хорошие. Одна беда — нашим самолётам не хватало дальности, и вот в этом была засада.
Тогда Сталин вызвал к себе разных авиаконструкторов и велел им придумать самолёт, который бы мог пролететь десять тысяч километров.
Потому что американцы могут на нас атомную бомбу сбросить, а мы — нет.
А у него за спиной сидел Берия, и когда Сталин говорил, то Берия корчил из-за его спины авиаконструкторам такие рожи, что они понимали, лучше бы этот самолёт им сделать, а не то с ними случатся неприятности.
Когда Сталин закончил, то встал Берия и говорит: «А сейчас выступит товарищ Курчатов, наш самый главный специалист по атомным бомбам, который не только всё про них знает, но ещё и понимает, как их можно использовать в других целях». Тут вышел такой бородатый старичок и говорит: «Есть такое мнение: очень полезно сделать атомный самолёт. Но не в том смысле, что на нём будет атомная бомба, а в том, что он будет летать на атомной энергии».
Тут конструкторы переглянулись, и всё это им показалось дико — совершенно непонятно, как это всё будет летать, потому что атомная бомба понятно, что такое, и на ней, конечно можно далеко улететь, но только один раз и неизвестно куда.
А бородатый Курчатов и говорит: «Вы ничего не понимаете, мы поставим внутрь самолёта ядерный реактор, он будет нам вырабатывать электричество, а от этого электричества будут винты у самолёта крутиться. Но если вам так не нравится, то можно просто воздух нашим реактором нагреть, реактор-то ведь жутко греется, а потом этот воздух из двигателя будет вылетать — и вот у вас реактивный двигатель без керосина. Теперь уж вы сами думайте — что вам удобнее: сделать винты на электрической тяге, или сразу на ядерной.
Тогда встал такой конструктор Туполев, которого Берия не любил и даже посадил в тюрьму. Поэтому Туполев уже ничего не боялся, и как был в ватнике и ушанке, пришёл на это совещание.
— Я могу сделать, — говорит.
Ну и начали Туполев и другие конструкторы делать проекты, а потом и сами самолёты. Сначала, конечно, выложили эти самолёты свинцом внутри, а потом стали туда реакторы ставить. То так, то этак примериваются — у нас ведь лётчики не одноразовые, как камикадзе.
Медленно, но верно, продвигались конструкторы к своей цели, но тут умер Сталин. Потом умер Берия — там с ним, правда, как-то неловко получилось, и он очень неудачно умер. А потом умер и человек, который был специалистом и по атомным бомбам, и по разным реакторам — бородатый старичок Курчатов.
Но задания-то никто не отменял! А они были советские люди, и отступать им было некуда, даже без Берии с его дурацкими гримасами. Им даже если бы Берия сказал: всё, надоел мне ваш самолёт, и Сталин всё равно умер, не делайте ничего! Так они бы ему сказали, что всё равно надо сделать, даже без зарплаты, ведь мы же взялись, обещали… Ведь надо отвечать за своё дело и не кривляться, что вот у меня болел зуб, и я поэтому математику не сделал. Наконец, конструкторы построили такой самолёт, который может летать вечно и вечно пугать американцев атомной бомбой.
Но я вообще-то думаю, что если он сам бы, безо всякой бомбы, грохнулся у американцев, то им бы мало не показалось.
Нам в школе рассказывали про реактор, который взорвался в Чернобыле, так уж много лет все только глазами хлопают, не знают, что со всем этим делать.
Лёхин отец как раз и засёк этот наш самолёт.
Оказалось, что двигатель-то конструкторы к нему сделали, а сам самолёт вышел очень тяжёлым. Недаром там столько свинца было, чтобы защитить лётчиков — на меня когда в рентгеновском кабинете свинцовый фартук надевали, я дышал с трудом, а тут целый экипаж надо защитить от излучения.
И вот на взлёте самолёт уж было приподнялся, но нырнул вниз и стукнулся о взлётно-посадочную полосу. И от этого у него отвалилось переднее колесо. Я всегда говорю «колесо», хотя отец меня поправляет и говорит, что надо произносить «шасси».
Самолёт взлететь-то взлетел, а сесть они уже не могут — у них же там реактор за спиной, и люди могут погибнуть, если всё это взорвётся. И будет новый Чернобыль. То есть, Чернобыля ещё не было, а мог бы быть гораздо раньше.
Тогда экипаж стал набирать высоту — делать-то нечего, они ведь были советские лётчики, а они всегда спасали тех, на кого мог упасть их самолёт.
Я посмотрел на своего отца — он был абсолютно серьёзен и кивнул мне:
— Экипаж Поливанова. Я его даже знал, хорошие ребята. Лучшие тогда были в летно-испытательном институте.
— Так вот, — продолжил Лёхин отец. — Этот самолёт был вечен. И они поднялись высоко-высоко, до самого практического потолка этой машины и стали уводить самолёт в сторону от жилья. Но тут выяснилось, что и катапультироваться им нельзя, тогда всё это упадёт на людей в других странах, да и какие-нибудь пингвины ничем не виноваты, да и киты…
С тех пор они летают над нами, но раз в год командир корабля направляет машину в сторону испытательного центра и пролетает над своим домом.
А я его чуть не сбил тогда. Хорошо, что старший смены у меня был что надо. Его потом, правда, сняли, когда Руст к нам пролетел и сел на Красной площади. Тогда многим не повезло, вот нашего главкома тоже сняли. А он неплохой был человек, всё говорил: «Главное богатство войск ПВО — замечательные советские люди»…
Я его уже не слушал, тем более, что их всех позвали снова на веранду. Лёха тоже пошёл туда пить чай с только что сделанным крыжовенным вареньем.
Я встал на полянке перед домом и, задрав голову, стал всматриваться в чёрное небо. Там медленно плыла новая святящаяся точка.
Наверняка это были они — и я представил себе этот самолёт с двойными винтами, которым нет сносу, могучую машину, что плывёт между облаков, а за штурвалом её сидит седой старик в ветхом кожаном шлеме. У него длинная белая борода, и такая же борода у второго пилота. А маленький высохший старичок за штурманским столом выводит их на правильный курс — прямо над домами родственников, что забыли их имена. Портретов у них никаких нет, какие портреты в кабине, разве фотографии давно умерших жён? Но отец говорил мне, что лётчики на испытаниях таких фотографий не брали — из суеверия.
Они и были такие, как мой отец — приказали бы ему, он бы тоже полетел на атомном самолёте. И тоже всех спас, если что.
А теперь летящий надо мной самолёт превратился в белую точку. Этот самолёт был уже стар, я слышал, как скрипят под обшивкой шпангоуты. Самолёт шёл тяжело, как облепленное ракушками судно, но бортинженер исправно латал его — потому что полёт их бесконечен.
Они уже так стары, что не слышат попискивания в наушниках, да и не от кого им ждать новостей.
Но их руки крепко держат штурвалы, и вот пока эти лётчики живы, всё будет хорошо.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
12 августа 2015
(обратно)
Блистающий мир (День физкультурника. Вторая суббота августа) (2015-08-15)

Лаврентий Круг внезапно ощутил, что сейчас он должен услышать звонок в дверь. Прямо сейчас кто-то повернёт гребешок механического звонка, и железный молоточек застучит по медной чашке, огласив своим дребезгом прихожую. В детстве он просыпался за несколько минут до того, как в его комнату войдёт бонна. Но тогда это было всего лишь расставание со сладким сном — особенно сладким перед тем, как надеть колючую гимназическую форму. Теперь ставки были куда выше, и он несколько раз представлял себе в деталях последующее — как гости входят, скрипя кожаными куртками. Как солдаты замирают у дверей со своими длинными винтовками, что так неуместны в городской квартире.
От солдат пахнет мокрыми шинелями — запах, который он навсегда запомнил ещё в Восточной Пруссии. От кожаных и вовсе пахнет водкой и табаком. Вот они выдвигают ящики из буфета и простукивают письменный стол в поисках потайных отделений. Вот — достают его ордена и разглядывают лики святых на них, ссыпают письма в мешок, а соседка жмётся на стуле.
В дверь действительно звонили — короткими прерывистыми звонками, которые разделяли долгие паузы, будто звонящий был нерешительно настроен.
Соседка, не вытерпев, пошла открывать. Лязгало железо, а слова в прихожей оставались неслышными.
И вскоре в его дверь поскреблись.
На пороге стояла девушка из другого мира.
Этот мир канул лет семь назад, а если считать Великую войну — и все десять. Он провалился куда-то вместе с двуглавыми орлами, с мундирами и дамскими шляпами, чьи поля были шире границ империи, вместе с дачным уютом и горничными в белых передниках.
Девушка была в высоких башмачках и длинном летнем пальто. Блёстка прошлого мира, магически занесённая в мир нынешний.
Тотчас Круга назвали по имени отчеству, и, сбиваясь, объяснили, что они познакомились в поезде — тогда я была с братом, помните?
Он действительно вспомнил этот случай в прошлом году. Тогда он сразу, ещё на вокзале в Петрограде, заприметил эффектную пару — барышню в белом платье и её спутника, высокого атлета. И сразу же ощутил резкий укол самолюбия — так всегда бывает с мужчиной при виде очевидного, но чужого счастья.
Но руки судьбы не дрогнули, и случайная встреча была доведена до логического конца. Они оказались в одном купе.
Атлет оказался глуп и разговорчив, и в Круге всплывала ненависть, смешанная с завистью.
Барышня оказалась мила, и улыбнулась, когда он представился. Многие смеялись над его фамилией, когда он, поклонившись, произносил: «Круг». Зовите меня просто Круг. Имя моё — пять букв. Революция, кстати, отняла у него последнюю букву. И от этого у него был дополнительный счёт к новой власти.
А вот девушке в белом платье он сразу простил детскую непосредственность.
К ним время от времени подсаживался военный. Военный ему тоже не понравился — на груди у него был красный орден, но привычки у этого красного командира были штатские. Он был будто вымочен в безволии. Рыхлое тело наполняло френч, военный был новой, непонятной породы. Поэтому Круг решил, что это кто-то из комиссаров. Военный разговорился с атлетом, и звал его на службу.
Впрочем, они говорили о науке.
Круг, служа в Московском Институте Холода, ненавидел эти разговоры — на седьмом году революции в этих разговорах была какая-то сумасшедшинка. Все, забыв Божьи чудеса, с той же силой верили в чудеса науки — и, поголовно, — в чудеса электричества. Сплетницы спорили, что будет раньше — война или открытие бессмертия — и расходились в датах: назначить на следующий год бессмертие или всё же войну.
Будто подслушав его мысли, военный припомнил профессора Иванова, собиравшегося в Африку за обезьянами. Обезьяны нужны были для скрещивания с человеком. С этими обезьянами случилась смешная история — Круг подумал, не рассказать ли её, но разговор уплыл от обезьян в небо.
— Наш Павлик, — вдруг сказала девушка (атлету совсем не шло это мягкое «Павлик»), — хотел стать лётчиком. Мальчиком его свозили на воздухоплавательную неделю, и он решил научиться летать. Но тут война, и вы сами понимаете…
— Не в том дело, Маша, — перебил атлет, — в новом мире люди должны летать с минимумом технических приспособлений. Они должны войти в блистающий мир будущего не в потёках машинного масла и бензина, а чистыми и прекрасными как птицы!..
«Сдаётся мне, — отметил Круг, — на тебя ни разу не гадили голуби».
Военный между тем оживился:
— Я знаю. Уже изобретены сильные магниты, действующие при помощи электричества.
— Электричество — ерунда, — горячился атлет. — Мы будем летать силой мысли.
«Экой он романтик, — подумал Круг, — такие вот посылали нас на пулемёты, чтобы мы силой мысли остановили армию Фрунзе. Впрочем, красные тоже упорствовали в силе воли, заменяющей боевой порядок».
— Вот вы, — спросил вдруг Павлик Круга — вы хотели бы летать? Так просто, без аэроплана?
Круг поперхнулся от неожиданности.
— Нет, никогда. Я вообще плохо переношу высоту.
Военный всмотрелся в него цепко и твёрдо.
— Дайте угадаю? У вас была контузия? Но вы не лечились?
Страх тяжёлой вязкой жидкостью затопил тело Круга, быстро и неотвратимо, будто ледяная вода, заполняющая пробитые трюмы парохода. Если бы он остался в госпитале, то давно бы растворился в ялтинской воде. Да и какая контузия может быть у белобилетника, неприметного советского служащего.
— Точно так, на империалистической войне, десять лет назад, — быстро соврал он, подменив даты.
— Я сразу догадался, — самодовольно улыбнулся военный. — У меня была большая практика с контуженными.
Страх Круга стал уходить, как море во время отлива. Военный был не чекистом, а врачом. Круг прислушивался к себе — всё в нём ликовало, но он знал, что это ликование трусости.
Но на него уже не обращали внимания. Военному идея полётов без механизмов очень понравилась, и он уговаривал молодого человека перейти к нему в институт.
— Идти надо не от машины, а от человека. Человек сам по себе — великий механизм, который нам ещё предстоит настроить…
Круг молчаливо соглашался с обоими, а сам смотрел на девушку. Она заботилась о своём спутнике трогательно и нежно — и Круг завидовал этой горе мышц, которую даже здесь окружали дорожным уютом.
Вокруг него говорили о заре науки и победе нового мира над старым. А он и был этим старым миром — скромным совслужащим с поддельной биографией и фамилией, потерявшей одну букву.
Страх съел его душу, и он легко, по затравленному взгляду, находил таких же одиночек. Вот это была — наука, а науку, состоящую из формул, насосов и трансформаторов, он видел на службе каждый день, и наука эта его не радовала.
Отпущенная в свободный полёт, в странствие без надзора, она казалось ему безнравственной. Вместо того, чтобы понять свои цели, она пожирала всё окружающее точно так же, как нобелевский динамит. Она бы обрядила крылатых людей в будёновки и увешала гранатами. Крылатые красноармейцы пронесли бы революцию на своих крыльях в Польшу и далее. «Даёшь Варшаву, дай Берлин!» — всё это он уже слышал.
И приходя на службу, он каждый раз думал, что и его холодильные установки запросто обернутся бомбами, но прочь, прочь всё это.
Молодой человек говорил быстро и горячо, проповедуя идеалы физкультуры, что сменит буржуазный спорт и то и дело тыкал пальцем в сторону Круга.
Круг снова стал смотреть на девушку, которая разложила на столе абрикосовские конфеты. Одна из конфет досталась Кругу, и он ощутил на языке забытый сахарный вкус леденца.
Он выходил курить в коридор, и в стекле перед ним стояло лицо девушки.
Когда поезд уже подходил к Москве, она тоже вышла и встала рядом.
— Вы не обижайтесь на Павлика. Он ведь, по сути, большой ребёнок. Всё время кидается в крайности — вот сейчас поступил в физкультурный институт, чтобы выучиться на идеального человека. Такой брат вроде сына.
— Так он ваш брат? — совершенно неприлично обрадовался Круг.
Оказалось, что да, и даже — младший.
Круг надписал свой адрес на папиросной коробке, отчётливо понимая, что время для флирта уже упущено.
Теперь она стояла перед ним — растерянная.
— От Павлика уже три месяца нет писем. Я приехала из Петрограда вчера, сразу к нему — оказалось, что он давно съехал. Добралась до физкультурного института — мне сказали, что Павлик давно переведён в какой-то другой, уже научный. Так вышло, что в Москве я знаю только вас.
Он молча указал ей на диван и пошёл кипятить чайник, а потом выслушал историю Павлика. То есть историю человека, мечтавшего летать. Последнее, что сообщал брат сестре, была прекрасная сказка, как он, будто птица, облетел вокруг надвратной церкви Донского монастыря. Прямо взвился вверх — и сделал круг. «Круг, круг, — повторил про себя Лаврентий, — Он меня сделал, глупый каламбур с каким-то странным смыслом».
День упал в августовскую ночь — стремительно и безнадёжно. Сердце Круга замирало от предчувствий, когда он постелил себе на полу. Так и случилось, едва она вошла в комнату, то с удивлением посмотрела на его ложе. Ночью девушка показалась ему неожиданно умелой, и это неприятно удивило Круга.
Оказалось, что она куда старше, чем он думал, и куда больше видела в жизни, чем можно было ожидать от пассажирки в белом платье. Какая-то страшная история, вернее, цепочка страшных историй случилась с ней во время смуты, и её опытность в любви шла оттуда, из этого лихолетья.
Наутро она снова превратилась в девочку, и уселась на диван как ни в чём ни бывало.
Они вместе изучили письма Павлика и сверили адреса.
Девушка настаивала на тайном проникновении в место, где держат брата.
Круг сомневался, но чувствовал, что только в этот момент его страх уходит. Хватит прятаться — нужно выбежать опасности навстречу.
Он не задумывался над тем, что хочет девушка от тайного свидания — как они поволокут по улицам узника и где будут его прятать. И полно — вдруг это заточение добровольно? Выходило, что несчастный Павлик живёт в лаборатории с видом на Донское кладбище и вовсе не так весел, как прежде.
Рациональное отступило, и Круг был благодарен судьбе за то, что с помощью этой хрупкой девочки победил в себе страх загнанного животного.
Наскоро позавтракав, и позвонив на службу, Круг пошёл к знакомому из архива и под большим секретом ознакомился с планами зданий института.
О причинах своего интереса врал он так неубедительно, что знакомый только махнул рукой. Впрочем, для отвода глаз он взял несколько чертежей совершенно различных построек. Он перерисовал план института и за этим делом понял, что Донское кладбище может быть видно из окон только одного здания.
Вечером он пришёл домой, прижимая к боку полкруга колбасы.
Девушка сидела на его диване поджав ноги, и казалось, не сдвинулась с места, только в старинном камине кучерявились листы сожженных писем.
Быстро темнело. Ехать им было далеко — по Калужской дороге. Почти за городом, у Донского монастыря, они сошли с извозчика.
Круг грел в кармане револьвер — что, спрашивается, бежать куда-то, спасаться, когда можно умереть красиво. Лечь в перестрелке, умереть на руках у красивой женщины. Он покосился на неё и подумал: «Если, конечно, её не убьют первой».
— Вы читали рассказы о Холмсе и Уатсоне? — спросил он вдруг.
— Да, конечно.
— Я спросил это потому, что на вас теннисные туфли. Уатсон надевает теннисные туфли перед тем как они отправляются на опасное приключение.
— Нет-нет, всё куда проще. Ботинки подкованы, а туфли — единственное, что есть ещё у меня в багаже.
Они прошли мимо высокой кирпичной стены монастыря и упёрлись в забор.
— Это здесь, — сказал он, внимательно присматриваясь к чёрным доскам. — Проход должен быть где-то здесь. Я знаю это по собственному опыту — во всяком охраняемом учреждении всегда есть дыра в заборе, нужно только её найти.
И действительно, через несколько минут поисков, он обнаружил на пустыре подобие тропинки, что утыкалась в забор. Доски в этом месте разошлись, будто кулиса, и пропустили их внутрь.
— А собаки?
— Они сэкономили на собаках. Большевики на всём экономят. Собаки есть, но это дворовые псы, которые спят, обмотавшись цепями.
Они прошли по тропинке мимо сараев с огромными поленницами и санитарной кареты без колёс. Всё было занесено многолетней палой листвой, скрадывавшей звук шагов.
Виварий находился на подсказанном картой месте.
На входе вместо ночного сторожа расположился красноармеец, но он дремал в жёлтом круге керосиновой лампы. Да, с дисциплиной у новой власти дело обстояло неважно. Они крадучись прошли через него, но даже когда скрипнула железная дверь вивария, караульный не шелохнулся.
Они прошли вглубь расступившегося коридора, сперва мимо пустых клеток, а потом, за второй дверью, мимо клеток обитаемых.
В них молча бегали странного вида собаки. Круг сначала подумал, что они забьются в вое и лае, но собаки с удивительным молчанием встретили пришельцев.
Зато за собаками пошли свиньи, опутанные странными проводами. И вот из их-то клеток шёл несмолкаемый рокот, совсем не похожий на хрюканье. Свиньи бормотали что-то, будто пьяные извозчики в праздник. Свиней сменили диковинные птицы, клекочущие и вскрикивающие, громко бьющие крыльями о прутья.
И вот, наконец, они ступили в последнее отделение.
Там в клетке сидел молодой атлет, впрочем, атлетом его можно было назвать только с трудом. Лицо его осунулось, выглядел он измождённым, но главное, руки его были покрыты огромными перьями так, что они превратились в крылья, а запястья связывала с туловищем волосатая перепонка.
Лицо его при виде сестры осветилось радостью, но эта радость тут же потухла, как спичка на ветру.
— Убейте меня, — прохрипело существо.
Сестра, просунув руку сквозь решётку, погладила брата по перьям. На время в глаза вернулось что-то человеческое, и он прошептал:
— Знаешь, Маша, я ни о чём не жалею. Я летал, слышишь, я летал. Только сейчас наступил регресс, сейчас ужасно больно, Маша. Больно, больно, больно… Но это только сейчас…
— Убейте меня, убейте, — и речь стала похожа на клёкот, а на глаза наползли тонкие куриные веки.
Круг замер.
И тут хрупкая барышня вынула револьвер из его руки. Быстрыми шагами подойдя к существу в клетке, она вложила ствол ему в ухо и выстрелила.
Выстрел, на удивление, остался незамеченным — видимо он совпал с ночными звуками Института.
Они выбрались наружу тем же путём, хотя Круг был готов открыть пальбу в караульного красноармейца. Но он всё так же спал, и впору было задуматься — не чучело ли он.
Путь лежал по ночной улице, лишённой фонарей, и только у Мытной их лица осветил зыбкий газовый цвет.
Промчался на кургузом автомобильчике пьяный нэпман, а сразу за ним проехал другой автомобиль, полный пьяного крика.
«Этим никакого полёта не нужно», — подумал Круг. — «Ради чего юношам жертвовать собой? Ради них?».
Он вспомнил гимназистов на снегу под Киевом, что удивлённо смотрели в серое небо мёртвыми глазами. Им ещё повезло — их хоронили с музыкой, а сколько таких гимназистов легло по России без могил? Убиты они были такими же гимназистами, только без погон.
Романтика войны вмиг кончилась, но осталась ещё романтика творения нового мира — да только новый мир рождается в корчах, вопя от боли. Он оказался грязен и кровав, и часто просил револьверного милосердия. Был такой кинжал, которым добивали раненых, который так и назывался — мизерикордия.
Как нынче исправляют научные ошибки, он уже видел.
И ещё Круг вспомнил историю, что не была рассказана год назад в поезде — историю про то, как его соседка, узнав, что профессор Ильин проводит опыты скрещения обезьян с человеком, тут же послала профессору телеграмму. Там говорилось, что она разочаровалась в любви, и готова послужить революции и науке своей половой жизнью. Тоже своего рода романтика, — печально улыбнулся он сам себе. Что с этим делать — непонятно.
Они шли по Валовой навстречу тусклым огням Павелецкого вокзала.
— Мы никогда не увидимся, — сказала она сурово.
Он сообразил, откуда знает эту суровость — в студенческие времена у него была подружка из партии с.-р. У неё были такие же интонации в голосе, и, пожалуй, такой же жертвенный взгляд.
— Где вы переночуете? — спросил Круг с некоторой надеждой.
— Вам это знать необязательно, — и, чтобы смягчить ответ, она добавила. — Для вашей же безопасности.
— У меня нет никакой безопасности. Вся моя безопасность вот здесь, — и Круг помотал в воздухе револьвером, а потом спрятал его в карман.
Они подходили к мрачному зданию вокзала, и вместо прощания девушка дала ему указание:
— Вещи мои на барахолку не носите, лучше сожгите. Впрочем, это всё равно, там нет ничего указывающего на меня.
— Но ехать без вещей — это ведь подозрительно?
— Скажу, что украли, — спокойно ответила она. — И… не провожайте дальше.
Она слегка коснулась его щеки сухими губами и исчезла в темноте.
Круг вышел из гулкой пустоты вокзала и сразу же свернул в пивную. Веселье, кипевшее там с вечера, утихло, и только горькие пьяницы, те, что с глазами кроликов, сидели за столами. Круг прошёл мимо этих людей и спросил водки.
Водка нашлась, но явно самодельная и пахла керосином.
За соседним столиком сидел железнодорожник в форменной тужурке со скрещёнными молотками в петлицах. Он был пьян, и давно пьян. Железнодорожник вёл давний разговор с невидимым собеседником:
— А я бы с обезьяной жил. Можно побрить, если уж невмоготу станет. Обезьяна ругаться не будет…
Круг быстро выпил свою водку и вышел.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
15 августа 2015
(обратно)
Отрывок из черновика (2015-08-26)

Они встретились случайно — на дороге под Кишинёвом. Август клонился к закату. Наступление уже замедлялось, оно продолжалось где-то далеко на западе ухали пушки.
Тут был польский край, вернее, много раз бывший польский.
Старшина курил на броне танка, а к заднему катку был привязан румынский пленный.
Пленный ходил на длинной бечеве и не унывал — ему уже рассказали, что король Михай решил воевать с Гитлером.
Когда рядом остановился виллис, старшина не повёл бровью.
Но капитан заорал ему в контуженное ухо:
— Шура! Это ж я!
Они обнялись в нарушение субординации. Мехвод смотрел на чужого капитана с испугом, но старшине своему доверял. У старшины было три «Славы», да только две из них — третьей степени.
А капитан был гладкий, от такого жди беды.
Но эти двое уселись рядом на корму танка, а водитель «виллиса» притащил им бутыль в оплётке.
Мехвод прилёг в теньке, и до него только доносилась обрывки истории про какого-то их общего приятеля, что воевал в Войске Польском, тоже танкистом, но не было от него вестей, а Варшава, куда тому хотелось заглянуть, горела сейчас, как промасленная ветошь.
— А вот где наш Александр Иваныч, боец ташкентского фронта? — весело гогоча, спросил капитан. — Где он со своим чемоданчиком, полных пустых надежд? Ему ж лет пятьдесят сейчас? А? Поди, превратились его накопления в порошок, или танк для Родины прикупил? А то спекулировал лендлизовской тушёнкой? Или вот, представляю себе, как он пробирается на передок, а на краю окопов фрицы вытрясают из него золотые червонцы.
В голосе капитана было что-то личное, нерастраченное презрение.
Но старшина не отвечал. Молчание было долгим, так что капитан забеспокоился.
— Повесили Александра Ивановича, Остап Ибрагимович, — ответил старшина наконец, — румыны и повесили. Вместе с Зосей повесили в Черноморске, в сорок втором. Он туда вернулся перед войной: любовь, Остап Ибрагимович.
Капитан застонал протяжно, как стонут раненые.
И что-то там, наверху вышло такое, что пленный румын полез от них под тридцатичетвёрку, зарываясь в землю, как крот.
Мехвод не мешал ему, надо спать, а не суетиться.
За ними сейчас придёт ремонтная летучка, будет не до сна.
Поскольку тут уже начали комментировать, так я расскажу, что из этого потом получилось:
МЕЧТА
Малыш был хороший мальчик. Более того, он был сын хороших родителей.
Он хорошо учился и хорошо вёл себя.
Поэтому он поступил в один московский институт, где готовили дипломатов. Там готовили ещё много кого, но сложность заключалась в том, что нужно было ещё найти хорошую работу в хорошей стране. Одно дело — бродить по Елисейским полям, а другое — жить посреди каменистой пустыни, экономя воду. Одно дело пить пиво в Бонне, а совсем другое — сидеть в заложниках внутри бамбуковой клетки.
Малыш по-прежнему хорошо вёл себя и в результате попал в Швецию.
Жизнь его катилась медленно, как фрикаделька в соусе.
Однажды он познакомился со старым Карлсоном, бывшим поверенным в делах Швеции в Бразилии.
Бывший поверенный говорил по-русски, и это немного насторожило молодого человека. Но он написал докладную записку об этих встречах и успокоился.
Карлсон был алкоголик, но Малыш, как и полагается дипломату, был устойчив к алкоголю. Одним словом, в этих встречах не нашли ничего страшного.
За бутылкой настоящей шведской водки он рассказывал Малышу о делах прошлого. Они сидели на крыше дома Карлсона в креслах-качалках и курили. Карлсон рассказывал о паровых машинах, абстрактной живописи, спутниках-шпионах, шведском телевидении и шведских жуликах и, разумеется, о королях и капусте. Ведь, всё-таки, он был бывшим поверенным в делах Швеции в Бразилии.
Как-то они курили, глядя на шведские крыши, и Карлсон упрекнул Малыша, что тот слишком хорошо ведёт себя.
— Ты жизнь проживёшь свою, и сожалеть будешь о том, — сказал Карлсон. Он, конечно, не очень хорошо говорил по-русски, и порядок слов казался Малышу непривычным.
— Но можно весть себя дурно, и потом всё равно пожалеть, — возразил Малыш.
— Если дурно вести себя совсем, то ты пожалеть не успеешь, мой молодой друг, — парировал Карлсон.
— Не хотелось бы жить слишком быстро и молодым умереть, — не сдавался Малыш.
— Жизнь устроена так, — отвечал старик. — Но жалеть всё равно будешь. Не упускай мечты.
И он сказал, что в Бразилии видел одного русского, что следовал своей мечте, не обращая внимания на её цену. Это было много лет назад, в те времена, когда сильные вожди кроили карту мира по своему желанию, возникали и рушились империи, а этот русский исполнил свою мечту, таким Карлсон его и увидел.
Мечта у русского была прозрачной как морской воздух и высокой как крик чаек.
Этот человек
давным-давно, ещё до большой войны, попался в России на какой-то махинации. Беда его была в том, что украл он не частное имущество, а общественное. Он пытался бежать через пограничную реку, да ничего не вышло. Оттого он уехал от своего дома далеко и надолго.
В вагоне он быстро понял, что выдавать себя за бывшего начальника нельзя, и сочинил себе дружбу со знаменитым уголовником по кличке Полтора Ивана.
Благодаря этому он попал не на общие работы, а в гражданскую баню. Там его начальником оказался высокий красивый поляк с залысинами.
Поляк обладал военной выправкой, но мало смыслил в обороте угля, мыла и полотенец. А вот его новый подчинённый понимал в этом хорошо, и они подружились.
Поляк врал сказки про великие битвы и то, как он рубился в дальней стране с каким-то бароном.
Банщик победил барона, но тот наложил на поляка заклятие быть своим среди чужих и чужим среди своих.
Социально-близкий заключённый не верил в эти сказки, как и в обещание вытащить его отсюда, и очень удивился, когда его начальник исчез.
А через полгода и его самого внезапно освободили.
На станции он увидел газету с портретом банщика — банщик был с огромными звёздами в петлицах и четырьмя орденами на груди.
Бывший узник двинулся в сторону любимого города на Чёрном море.
Но, пока он медленно двигался от города к городу, началась война, и всюду, как пена на бульоне, закипала неразбериха.
На брошенном складе он оделся в чужую форму. В скромном звании техника-интенданта 2-го ранга он решил пробиваться к своему благодетелю, да тут же попал в окружение, а затем в партизанский отряд.
Там он заведовал кухней и оружейной мастерской.
В 1944 году вновь мобилизован и окончил войну с двумя медалями — «За боевые заслуги» и «Партизану Отечественной войны».
С войсками Толбухина он вступил в Румынию.
Остановившись на постой в доме одной вдовы, он вдруг заметил странно знакомый предмет.
Это было большое и овальное, как щит африканского вождя блюдо фунтов на двадцать весом.
Это что-то напомнило ему из прошлой жизни, и он вскрыл финкой буфет.
Там оказался портсигар с русскими буквами: «Г-ну приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания». Под надписью помещалось пылающее эмалевое сердце, пробитое стрелой.
Тут он вспомнил всё и зашарил рукой глубже. Но глубже ничего не было — чужая семья проела его мечту. Не было ничего, кроме маленького барашка на потёртой ленте.
Вдова заплакала.
— Золотое руно, — бормотал она, — муж получил за высшую доблесть!
— Оставьте, мадам, — отвечал он, — я знаю, что за доблесть была у вашего мужа.
Но потом этого русского подвела старая привычка. Их перевели в Венгрию, и отчего-то он не смог сдержать себя.
Он служил в оккупационной группе войск и был на хорошем счету. Однако через год попался на афёре со швейными иголками, которые он поставлял демобилизующимся крестьянам, возвращающимся в свои деревни.
В последний момент он решился бежать и, сев на виллис, рванул к австрийской границе.
Оставив машину, русский перешёл демаркационную линию двух зон пешком, снова, как и пятнадцать лет назад, по горло в воде.
Он не открылся американцам и притворился сумасшедшим турком из Боснии.
Медали были зашиты в тряпицу и лежали в мешке вместе с портсигаром и орденом Золотого руна.
В Далмации он сел на корабль и заплатил портсигаром за дорогу через океан.
Чтобы прокормиться, он рисовал портреты пассажиров — за прошедшие годы он набил себе руку, но всё равно, итальянцы и югославы выходили у него похожими на русских крестьян, истощённых голодом.
Через месяц он сошёл на берег в Рио-де-Жанейро и обменял последние деньги с американскими бородачами на белый костюм, в котором спал на набережной.
Он спал, а над карманом горели две советские медали и блестел свесившийся на бок литой барашек.
Кричали чайки, а он спал и видел во сне девушку Зосю из Черноморска, которую повесили румыны в 1942 году.
— Вот так, — заключил Карлсон. — Он многому научил меня, этот русский. Ушёл со службы я и поселился. А у тебя, человек молодой, шанс есть ещё. Не ищи, чья сила светлее, мечту ищи свою.
Малыш ничего не отвечал, он думал, что напьётся сегодня как свинья, а там видно будет.
Извините, если кого обидел.
26 августа 2015
(обратно)
День кино (27 августа) (2015-08-27)

Гамулин пил второй день — вдумчиво и с расстановкой. В местном баре обнаружился неплохой выбор травяных настоек, и он, не повторяясь, изучал их по очереди. Он ненавидел пиво и вино, любой напиток малой крепости был для него стыдным — а тут наступило раздолье. Тминная настойка, настойка черешневая и липовая, а также водка укропная и водка, настоянная на белом хрене, перемещались из-за спины бармена на стойку.
Стаканы были разноцветны — зелёный — в тон укропной, красный для черешневой, желтоватый для тминной… Остальных он не помнил.
Съёмочная группа выбирала натуру — уже неделю они колесили по Центральной Европе, готовясь к съемкам фильма о Великом Композиторе. Здесь, в городе, где родился Композитор, их и застали дожди. В небе распахнулись шлюзы, и вода ровным потоком полилась на землю.
Машина буксовала в грязи, похожей на родной чернозём, съёмочный фургон сломался по дороге, а шофёр пропал в недрах местного автосервиса. В довершение ко всему вся киноплёнка оказалось испорчена — из бобин потекла мутная пластиковая жижа, будто туда залили кислоты.
Теперь Гамулин второй день ждал режиссера в гостинице.
Композитор строго смотрел на него со стены, держа в руках волынку. Или не волынку — что это был за инструмент, Гамулин никак не мог понять. Могло показаться, что на картине не знаменитый Композитор, а продавец музыкального магазина — за его спиной висели скрипки, стояло странное сооружение, похожее на гигантский клавесин, и горели органные трубы.
У Гамулина тоже горели трубы — медленным алхимическим огнём. Он давно приметил мутную бутыль с высокомолекулярным (слово напоминало тест на трезвость) соединением и упросил хозяйку откупорить. Виноградная водка огненным ручьём сбежала по горлу.
Гамулин мог достать всё — однажды, на съёмках в Монголии он нашёл подбитый семьдесят лет назад советский танк и, починив, пригнал на съёмочную площадку. В сухом воздухе пустыни танк сохранился так хорошо, что многие считали, что он просто сделан реквизиторами по старым чертежам.
Посреди города Парижа, на Монмартре, он достал живого козла для съёмок фильма «Пастушка и семь гномов». Для сериала «Красная шапочка и дальнобойщики» он выписал из австралийского цирка волка, понимающего человеческую речь. Друзья по его просьбе печатали паспорта и удостоверения, которые были лучше настоящих.
Сейчас Гамулину велели договориться о натурной съемке в Музыкальном музее. И он не сделал за два дня того, что делал раньше за час.
Он был похож на печального землемера из странного романа, который всё никак не мог подняться в замок, и застрял в деревенской харчевне. Музей и вправду был похож на замок, что был страшен с виду и сам напоминал декорацию. Это здание, плод фантазии самого стареющего Композитора, свело исполнительного архитектора в могилу. Теперь Гамулин глядел в окно на то, как четыре высокие башни кололи низкие тучи, а между ними плясали сумасшедшие гномы — кто с лопатой, а кто с кайлом. Но нет, конечно, это были не гномы — вместо горгулий по стенам торчали музыканты со своими лютнями, дудками и шарманками.
В полдень они оставались недвижны, а в полночь начинали приплясывать, приводимые в действие старинным часовым механизмом.
Гамулин звонил в музей, стучал в железные ворота древней колотушкой, но всё было бестолку. Местные жители смотрели на него, как на чумного, уверяя, что музей не работает со времён падения Варшавского договора.
Хозяйка гостиницы, персонаж вполне итальянского извода — толстая, пучеглазая (кто-то сказал, что это душа её рвётся наружу), раздражала Гамулина. То, что всегда служило ему бесплатным источником всех местных тайн и подробностей, оказалось досадной помехой. Хозяйка была русской — вот в чём было дело. Она вышла замуж за иностранного студента, превратив его из супруга в средство передвижения, и встала за эту стойку лет пятнадцать назад. Муж умер (скоротечный рак, страховка, детей не было), и вот провинциальная барышня, ставшая на чужбине вполне шароподобной, крутила ручки пивных кранов.
Такие люди бывают двух сортов — они либо радуются земляку, либо хотят ему доказать, что их выбор тогда, много лет назад, был верен. Хозяйка была из вторых, и Гамулину приходилось заказывать чуть больше, чтобы она не лезла со своими разговорами.
Композитора он, кстати, тоже возненавидел — вместе с будущим фильмом. Старый музыкант много шалил в юности, потом стал злым гением короля, и даже, по слухам, отравил своего лучшего друга.
В знак протеста его музыка не исполнялась нигде — существовал молчаливый (в буквальном смысле) заговор музыкантов. Но в новом кинематографическом шедевре Композитор должен был воскреснуть спустя двести лет, переродиться и в новой жизни, колеся по Европе, спасать евреев от нацистов — никуда не деться, таково было условие продюсеров.
Но замок был закрыт, плёнка оказалась бракованной, и съёмки откладывались.
Теперь Гамулин напоминал себе советского разведчика, что, напившись, будет петь протяжные песни у камина — он даже забрал из реквизита гармонь и решил перенести её к себе в комнату.
Надо было взять инструмент и уходить. День стремительно растворялся в дожде, но вдруг к Гамулину пристал местный сумасшедший цыган Комодан. Комодан говорил на всех языках мира, причём одновременно. Вчера от него удалось избавиться, вложив немного денег в его грязную ладонь, но сейчас этот фокус не прошёл.
Как и все сумасшедшие, этот шептал о спасении мира. Мир клокотал в горле цыгана, как поток в водосточной трубе. Но Гамулин был не лыком шит — чужая речь удивительно хорошо фильтровалась тминной настойкой, настойкой черешневой и липовой, а также водкой укропной и водкой, настоянной на белом хрене.
Одно только заставило Гамулина вздрогнуть: цыган вдруг потребовал ехать в замок — прямо сейчас.
При этом Комодан крутил на пальце огромный ключ — и Гамулин сообразил, что это шанс. Подустав, сумасшедший пьяница бормотал уже невнятно, и Гамулин брезгливо снял его руку со своего плеча:
— Ша, тишина на площадке! Поедем сейчас.
Чтобы не возвращаться в свой номер, он понёс футляр с гармонью на плече.
Они вышли на улицу — дождь не прекратился, а завис в воздухе. Цыган бежал впереди, раздвигая плечом водяную пыль, а Гамулин шёл за ним как матрос, враскачку — медленно, но верно.
Ключ вошёл в железную дверь замка легко и беззвучно, и она отворилась так же неожиданно тихо. Гамулин, впрочем, решил про себя, что лязг и скрежет сделает звуковик. «Снимать, конечно, нужно только в замке. Лучше, конечно, в подвалах» — подумал он.
Он мог бы сам снимать фильмы, да только это ему было незачем. Гармонии в этом не было. Гармония была у него за плечом, в большом коробе.
Коридор был гулок и пуст — они шли мимо портретов великих музыкантов прошлого. Из них Гамулин узнал только пухлощёкого немца в белом парике.
Кто-то запищал под полом, а, может, в полости стен.
— Крысы? — спросил Гамулин.
— Здесь нет крыс, — ответил цыган неожиданно сурово. — Здесь никогда не было крыс, но всегда было много разных зверей. В подвале держали пардуса, а говорят, композитор перед смертью купил крокодила. Но теперь — другое. В таких домах всегда живут хомяки или сурки — это обязательно.
— Почему сурки? — спросил Гамулин, но ответа не получил.
Звуки приближались.
— Мы почти пришли, господин, — сказал цыган, и Гамулин поразился этой перемене. Комодан зачем-то засунул себе в нос две бумажные упаковки сахара, украденные из бара, и стал похож на безумного персонажа чёрной комедии. Походка его тоже изменилась, и цыган приплясывал, как человек, который никак не может добежать до туалета.
Комодан отворил дверь в залу и пропустил Гамулина вперёд. Гамулин перекинул ремень короба через плечо и шагнул через высокий порог.
Вдруг резкий удар обрушился на его голову, и всё померкло.
Он обнаружил себя висящим, как космонавт — в крутящемся колесе. Он привязан в неудобной позе к ободам странного колеса, стальной карусели, стоящей вертикально посреди огромного зала.
Ноги и руки его торчали из зажимов на ободе. Вокруг, в проволочных лабораторных клетках сидели несколько зверьков и таращили на него глаза-бусинки.
— Чё за херня? — спросил он угрюмо в пустоту перед собой. Из-за его спины вышел незнакомый человек, можно сказать, коротышка. Повернувшись куда-то в сторону, коротышка спросил:
— А он точно музыкант?
— Да, господин Монстрикоз. Он даже пришёл с инструментом… — ответил голос цыгана, — инструмент в чехле.
Гамулин не стал вступать в разговор и разочаровывать карлика. Он справедливо рассудил, что от этого может быть только хуже.
— А это что? — спросил Гамулин недоумённо, мотнув головой. Указать рукой вокруг было невозможно. Хотя он не обращался ни к кому конкретно, ответил карлик:
— Это — идеальный инструмент. Иначе говоря, генератор переменной частоты, — карлик вместе с цыганом прилаживал какие-то провода к машине, и, не прерывая этого занятия, продолжил:
— Мне как злодею, позволительно поболтать перед началом Великого Делания. Именно Делания — впрочем, такая мелочь, как превращение ртути в золото и обратно, меня не интересует. Вчера я разложил вино на простые составляющие, упростил несколько изображений, и ещё кое-что по мелочи. Почему-то обратные гармонии лучше всего действует на фотоплёнку… Но тогда у Инструмента ещё не было центральной части, а теперь Комодан нашёл тебя, и я доведу его до совершенства.
Настойка тминная заспорила внутри Гамулина с водкой укропной, и он подумал, не заснуть ли ему — это был хороший способ решения подобных проблем. При пробуждении, впрочем, появлялись другие проблемы, не менее серьёзные, и ужасно болела голова, но дурацкие карлики всегда исчезали.
И гномы — тоже.
Заснуть, однако, не выходило, хотя голова всё время валилась на грудь, а карлик продолжал:
— Вы знаете, любезный иностранец, отчего не исполняется музыка Композитора? Многие дураки до сих пор считают, что это месть поклонников его знаменитого друга. Глупость! Чепуха! Друг, конечно, был талантлив, но глуп, а музыка его — слащава. Наш же герой, строитель этих стен, знаток гармоний и властелин звуков, был настоящий гений! Он был гениальнее этого изнеженного выскочки в сто, в тысячу раз! И он дошёл до тех высот, какие тому и не снились — и вот, на краю мироздания он создал Великую Гармонику.
— Чё? — тминная и укропная уступили место черешневой и липовой, и Гамулин резко выдохнул.
— Я же говорю, это особый музыкальный инструмент, в котором сочетаются звуки всех инструментов мира.
— Мира… — как эхо отозвался Гамулин.
— По внутренним его колёсам бегут десять хомяков, восемь кошек сидят в специальных камерах и мяукают в такт ударам стальных игл, шесть соловьёв поют в клетках, а в центре этого находятся органные трубы, синхронизирующие звук. И вам повезло, мой незнакомый друг — вы станете главной частью механизма.
— Это поэтому я похож на цыпленка табака? — злобно сказал Гамулин.
— Почему цыплёнка? Вы что, не видели знаменитого чертежа Леонардо? В процессе музицирования вы будете олицетворять гармонию человека.
Гамулин как-то понимал под гармонией совсем не то, никакого знаменитого чертежа никакого Леонардо в глаза не видел, но в его положении выбирать собеседников не приходилось.
— И что? Спляшем, Пегги, спляшем? Ну, сыграем, а дальше-то что?
— Дальше — ничего. Потому что наш инструмент, Великая Гармоника, обладает особым свойством — если играть на нём музыку, что сочинил отравленный юнец, в мире нарастает сложность. Если же, наоборот… Наш мёртвый хозяин, музыкальный чародей, открыл закон движения гармонии — от звуков этого инструмента мельчайшие частицы вещества могут вибрировать и образовывать новые гармонические связи. Но если инструмент переключить на обратный ход, то он заиграет не музыку глупого юнца, а сочинения нашего гения. Всё гениальное просто — это одна и та же музыка. Только проигранная задом наперёд. Хотя, кто знает — где тут перёд, а где — зад. Мы с вами будем свидетелями, как все цепочки связей и излишне сложные соединения начнут распадаться. Мир станет прост и чёток.
Сначала процесс пойдёт медленно, но потом распространится — мир покатится по этой дороге, стремительно набирая обороты.
— Вот радость-то, — мрачно отметил Гамулин. — И спирт тоже?
— Что — спирт?
— Спирт тоже должен распасться.
— Дурак! Причём тут спирт… Хотя да, и спирт. Но тебе остаётся радоваться — ты увидишь великий праздник упрощения мира, понимая, в отличие от профанов, что происходит…
— Мы на «ты» перешли, что ли? На брудершафт не пили.
— Дурак! Дурак! Не об этом! Мир изменится — он станет строг и прям, в нём не станет места сложности. Чёрное всегда будет чёрным, а белое — белым. Гармония будет нулевой, то есть — полной, и цветущая сложность сменится вечной простотой.
— И что?
— И всё.
Гамулин вздохнул. Он понял немного, но то, что он понял, описывалось коротким русским словом. И этот конец был близок.
— Ну, дай сыграть-то перед смертью? — попросил Гамулин. — Недолго уж.
Директор музея несколько успокоился и вежливой горошиной «вы» снова вкатилось в его речь.
— Умирать, положим, вы будете очень долго. Или жить — мы все будем жить довольно долго, наблюдая приход Великой Простоты. А развязать я вас не могу.
— Да не развязывай. Мне одной руки хватит. Дай только гармонь мою.
— А это что? Что? Что? — закричал карлик.
— Гармонь. Русскому человеку без гармони никак нельзя. Вон в коробе у стола стоит.
— А, аккордеон? — и карлик нагнулся.
Гамулин опять не стал его поправлять и принял гармонь, освобождённой от ременного зажима рукой. Он расправил меха, и первый звук гармони заставил вздрогнуть карлика. Задрожал и музыкальный Пластификатор.
Что-то шло не по плану.
Гамулин повис на ремнях, как висели на своих костылях инвалиды в электричках. Чёрта с два он мог забыть этих инвалидов, что пели «Московских окон негасимый свет», а когда в вагоне публика была попроще, то «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной». Теперь было понятно, почему они держали гармонь именно так и отчего становились в грязном проходе между скамьями гармоничнее любой статуи у Дома Культуры в Салтыковке. Он прикрыл глаза и завёл:
— Раскинулось море широко-оо…
Ухнуло что-то в органных трубах, а хомяки встали на задние лапы.
— И волны бушуют вдали-и-и … — продолжил Гамулин.
Завыли кошки — тонко и жалобно. Органные трубы издали печальный канализационный звук и вдруг с треском покосились.
Гамулин обращался к безвестному товарищу, с которым был в странствии, с которым вдали от дома, посреди чужой земли и воды делил краюху хлеба.
Он выдыхал то, что было раньше настойкой тминной, настойкой черешневой и липовой, а также водкой укропной и водкой, настоянной на белом хрене. Голова прояснялась, и боль в затылке прошла.
А Гамулин играл и играл — корчился перед ним карлик, дрожал музыкальный Пластификатор, и лилась песня.
Он вел её дальше — и уж хватался кочегар за сердце, подгибались его ноги и прижималась чумазая щека к доскам палубы.
Ослепительный свет озарял кочегара, нестерпимый свет возник и в зале — это лопнула какая-то колба внутри зловещего инструмента и вольтова дуга на секунду сделала всё неразличимым.
Но Гамулин не видел этого — он давно закрыл глаза, и песня вела его за собой. Угрюмые морские братья, осторожно ступая, поднимались из машинного отделения с последним подарком, ржавым тяжёлым железом в руках. Корабельный священник жался к переборке… Жизнь кончалась — она была сложна и трудна, но кончалась просто. Всё соединялось — жар печи, плеск волн и негасимый свет.
Наконец Гамулин завершил песню — устало, будто зодчий, окончивший строительство своего собора.
В комнате давно было тихо. Хомяки и коты разбежались, чирикала птица под высоким сводчатым потолком. Потрескивало что-то в разрушенном агрегате. Ремни ослабли, и Гамулин легко выпутался из них — никого вокруг не было.
Там, где лежал карлик, осталась неаппетитная лужа, как после старого пьяницы. Цыгана и след простыл.
Гамулин брёл по пыльным комнатам, волоча за собой гармонь, как автомат — будто советский солдат по подвалам Рейхсканцелярии.
Группа приехала на следующий день, и начались съёмки. Товарищи Гамулина привезли новую плёнку и голоногих актрис. Но и новый запас часто шёл в брак: сыпалась основа, превращаясь в пыль и труху. Это происходило постоянно — явно кто-то нагрел на контракте руки. Тогда звали Гамулина с его гармонью. Странное дело — несколько дней подряд после того, как он рвал душу протяжными песнями, неполадок с камерами и плёнкой не было.
Но и тогда съёмки всё равно не шли — все, начиная с режиссёра и заканчивая последним осветителем, пили черешневую и вишнёвую вкупе с укропной и тминной прямо на съёмочной площадке. Актёры пили и плакали, размазывая слёзы по гриму. Как было не пить, когда напрасно старушка ждёт сына домой и пропадает где-то вдали след от корабельных винтов.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
27 августа 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-08-31)

Тут, оказывается, у нас возник интерес к литературному минувшему. Ну, как интерес? Публике литература обычно интересна в том смысле, что какой-нибудь писатель бьёт жену велосипедным насосом. Да и то — вот писатель Ерофеев написал мемуар про то, как издавался журнал «Метрополь», а заодно про Аксёнова и Трифонова.
Я даже ввязался в обсуждения этого мемуара, а потом и решил, что надо бы это всё в отдельно сформулировать, чтобы желающие плясали на костях, а я буду хлопать в ладоши, а Виктор Ерофеев будет смотреть на меня с небес и радоваться. Стоп. Он не умер ещё.
Значит просто будет ездить вокруг меня на трамвае и смеяться.
Надо сказать, что будь я на месте Ерофеева, я вообще бы мстил всему миру. У меня тоже есть донецкий однофамилец Фёдор Березин, так ко мне регулярно приходят какие-то рассерженные украинцы и говорят: мало того, что вы убиваете наших товарищей, так ещё и пишете всякое говно. Мы и читать не будем — ясно, что говно, а на руках ваших — кровь. Помните об этом!
А уж Ерофеев-Нетот и вовсе должен плакать каждый вечер.
Потому что всю жизнь слышит: «Ерофеев? — Не тот!».
Но дело вот в чём — этот ерофеевский текст есть перепев первой фразы из книжицы в романе Ильфа и Петрова: «Все крупные современные состояния в Америке нажиты самым бесчестным путем».
Нутолько это о литературных репутациях. Ну да, они созданы странными путями.
И мне удивительна ажитация вокруг этого текста.
Ишь! Странными путями! А когда они другими были?
Репутация автора — это вообще гиря на ноге текста, такая, как на карикатурах про заключённых.
Но на это у меня несколько объяснений: наша отвратительная читающая аудитория давно ничего не читает, а если и читает, то не пытается обдумать. Оттого, собственно, и мыслит не о текстах, а о лейблах.
И вот, сама себе назначает скандал — «Кто посмел обидеть нашего королька» и всё такое.
Это до чрезвычайности похоже на известное объяснение общественного кипения, которое начинается с «нашествия или землетрясения, когда спасающиеся уносят с собой всё, что успевают схватить, причём непременно кто-нибудь тащит с собой большой, в раме, портрет давно забытого родственника». Вот таким портретом (скажу я) является для русской интеллигенции и образ Аксёнова (да хоть бы и Окуджавы, да неважно ещё кого — их там много. С Довлатовым ровно та же поебень), который «стихийно, но случайно унесён в настоящее, вместе с другими, более нужными вещами».
«И вот кто-то вдруг взял и отнял портрет».
Аксёнов как бы унесён из «прекрасного советского далёка», и вот вдруг нам рассказали, что его образ в жизни не был так сверкающе-поэтичен.
Эка невидаль!
При этом совершенно неважно, хорош или плох несчастный Виктор Ерофеев (а он несчастен тем, что навечно, чтобы ни написал, обречён на приставку «Нетот»), неважно, хороши или дурны прочие его тексты, (они мне кажутся дурными, но по совершенно иной причине, которая сейчас в стороне).
Если внимательно анализировать эволюцию Аксёнова как писателя, можно придти к куда более жёстким выводам — но для этого нужно внимательно читать текст, понимать, как стиль «Коллег» перетекает к «Острову Крыму», как потом валятся в общий котёл «Редкие земли» и «Московская сага», как это всё, в общем, устроено и что из этого вышло в смысле форм, средств и идей.
Текст ерофеевский, разумеется, тревожный и пристрастный — а когда воспоминатели писали беспристрастно? Они (и текст, и автор) многим не нравятся, но в бурлении народных говн я наблюдаю не рефлексию по поводу текста, а психотерапевтическое выговаривание.
«Кто посмел обидеть нашего королька?!» — то есть, «Кто покушается на нашу картину мира?» ну, я, кажется, уже это говорил.
Самое интересное тут — формула «Как смел имярек так говорить об имярек»? Она довольно глупая — потому что либо нужно ловить человека на вранье (это понимаю), либо согласиться, что нам дороже вынесенный пламени перемен портрет.
Только нужно честно в этом признаться — как раз против позиции «Имярек — наш, от него сияние исходит. Я бы ему ноги мыл и воду эту пил» — я ничего не имею. Это как раз позиция честная.
А вот когда человек испытывает смутное беспокойство, но разбираться ему с ним, своим беспокойством, не с руки, и он нервно рвёт ворот рубахи так, что пуговицы летят, вот этого я не люблю.
Польза от чтения возникает только в тот момент, когда понимаешь, отчего это именно, по-твоему, нехорошо. Ну, вот как, к примеру, устроено ерофеевское суждение, что именно в нас (в вас, в них) задевает.
Я же пока наблюдаю «ужас-ужас-ужас, он недостоин».
А как спросишь: «Па-а-ачиму?», так слышишь в ответ: «Когда нужно объяснять, не нужно объяснять» и «Приличные люди об этом не говорят», ну и прочее «Я дерусь, потому что дерусь».
Последняя позиция, спору нет, прекрасная, но я часто наблюдаю, что как только человеку, занимающему её, говорят: «Ну хорошо, иди домой, ты неинтересный», тот сразу начинает про моральные принципы, множественные обоснования и даже Господа Бога приплетёт.
В общем, срамота одна выйдет
Чума на оба ваши дома, это я как мизантроп говорю.
Самый интересный аргумент, что я видел в спорах по поводу воспоминаний Ерофеева: «личность писателя не настолько вызывает интерес, чтобы слушать его измышления о N.» — то есть, понятно, что есть такое облако людей со схожими интересами, что думают, что писатель N. - личность, и интересно читать его внероманные вещи, а вот писатель NN. — ни хуя не личность, и да хуй бы с ним и его мнениями.
Но это всё относительно (я научился писать «относительно» вместо слова «хуйня»).
Просто общество традиционно думает, что Некрасов или Тургенев, к примеру, личность ого-го, и можно читать о том, что они думают о прочих людях, а потом является трикстер, который говорит: «Да они — гондоны, не знали что ли?» Ну и приводит пару таких примеров, что глаза на лоб лезут, а пожилые люди начинают быстро-быстро креститься.
Так и со всеми моральными авторитетами.
Я больше скажу, посмотри на всех (включая нас с вами, дорогой читатель) глазами их ближних-дальних, так мы выйдем и похлеще хуями и пёздами.
И разговор идёт так: мне говорят: «Да он хвастается»!
Я им: «Ну и что?»
А комментаторы такие: «Да ему не пристало»!
А я: «Всем не пристало, но все хвастаются»!
Комментаторы тут вынимают из трусов Пушкина и говорят: «Врёт подлец, не так как вы Аксёнов гадок, а иначе!»
И я интересуюсь, кто чем гадок, но нет мне ответа, потому что Ерофеев-Нетот тут не при чём, а при чём тут именно психотерапевтическое выговаривание, в котором никакой комментатор признаться не может.
Чаще всего это такой эмоциональный пересказ: «Я, читая Ерофеева, раздражён тем, что его слова не противоречили моей картине мира, но интересно дополняли её в части подробностей жизни Аксёнова и Трифонова, а он, кажется, уверен, что правильно жил, а русскому писателю фу так думать и рассказывать так тоже фу» — и проч., и проч.
Я ни с кем не спорю и готов заранее сдаться.
Я откукарекал, а там не рассветай.
Моё ведь дело маленькое — рассказать, что всё устроено сложнее, чем думают.
К примеру, что это не статья, а мемуар, и живёт по другим законам, нежели чем статья, что подробности там и впрямь наличествуют, что всяк имеет право говорить о писателе — и ты, дорогой читатель, и я, и другие, и Ерофеев — и никакого нравственного ценза или ценза успешности тут нет.
Вот и всё.
Извините, если кого обидел.
31 августа 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-09-03)
Мой любимый рассказ у писателя Сахарнова — это
рассказ про морского петуха — триглу.
Если кому лень читать, то там рассказано вот о чём: появилась в море новая рыба и ласкиря (это тоже рыба) послали посмотрет на неё. Он вернулся и говорит, что спина бурая, брюхо желтое, плавники как крылья, синие с золотом, а опустится на дно, выпустит из-под головы шесть кривых шипов, и пойдёт на них, как на ходулях. Идет, шипами песок щупает. Найдет червя — и в рот…
Другие рыбы не поверили, посылали ласкиря раз за разом, и, наконец, он говорит, что на хвосте у неё чёрное пятнышко. Ну, тут ему поверили — раз чёрное пятнышко разглядел.
А потом оказалось, что всё так — и на ногах по дну ходит, и рычит рыба, а пятнышка нет.
"Обрадовались рыбы, крабы. Схватили ласкиря и учинили ему трепку. Не ври! Не ври!..
И зачем он сгоряча это пятнышко выдумал?..
Много ли нужно добавить к правде, чтобы получилась ложь?
Немного — одно пятнышко".
Если кто-то решил, что я о политике, то это не так.
Вот я много раз был собеседником расстающихся супругов, да и просто расстающихся.
И каждый из них рассказывал вполне убедительную историю.
И тут вдруг появлялась удивительная деталь, такая, которую не забудешь никогда.
Но. позвольте, я ведь и там был, и не помню этого.
Но не проверишь ведь.
Мы всё время находимся в облаках мифологических сознаний. Всяк оправдывает своё право на мифологическое сознание. При этом становясь зеркальным отражением своего оппонента — раз ему можно, так и мне. Раз он скрыл что-то, то нам можно что-то придумать, додумать.
Вставить деталь.
Усилить, так сказать, позицию.
Всегда есть серая зона, где мы не знаем что-то точно — она везде есть, в делах давно минувших дней и в ужасе современности.
И в рассказах о былых любовниках.
Вообще везде.
И вот, всегда есть искушение добавить краски — и фольклорная детать всегда срабатывает.
Человеческое сознание оправдывает любое допущение, которое высказано в нужном направлении.
Про это есть такая смешная заметка математика Колмогорова о логике (там упоминается термин "женская логика", но я бы хотел слово "женская" исключить — за это покойному Колмогорову и его ученикам до сих пор пеняют феминистки).
История эта легко гуглится, впрочем,
вот она.
Выглядит это как: Пусть [Р => Q] и [Q приятно]; тогда Р.
Ну, типа, если нам комфортно новое сообщение, то оно истинно.
Вот такая беда с этими архитектурными деталями.
Не надо было Мефистофеля трогать, я так скажу, а теперь он сошёл с фасада, разлетелся как андерсеновское зеркало на осколки и расселился в этих деталях.
Извините, если кого обидел.
03 сентября 2015
(обратно)
День города (Первая суббота сентября) (2015-09-04)

По вагону каталась бутылка — только поезд набирал ход, она ласкалась им в ноги, а начинал тормозить — покатится в другой конец. День города укатился под лавки, блестел битым пивным стеклом, шелестел фантиками.
Мальчики ехали домой и говорили о важном — где лежит пулемёт и как обойти ловушку на шестом этаже. Каждого дома ждал чёрный экран и стопки дисков. Они шли по жизни парно, меряясь прозвищами — Большой Минин был на самом деле маленьким, самым маленьким в классе, а Маленький Ляпунов — огромным и рослым, ходил в армейских ботинках сорок пятого размера. Витёк Минин любил симуляторы, а Саша Ляпунов — военные стратегии, но в тринадцать лет общих правил не бывает. Мир внутри плоского экрана или лучевой трубки интереснее того, что вокруг.
Они ехали в вагоне метро вместе с двумя пьяными, бомжом, старушкой и приблудной собакой.
Женский голос наверху сообщил об осторожности, и двери закрылись.
Следующая — «Маяковская», и бутылка снова покатилась к ним.
— А что там, в «Тайфуне»? Это про лодку? — спросил Минин.
— Это про войну. Там немцы наступают — я за Гудериана играл. Тут самое главное — как в спорте — последние несколько выстрелов.
По вагону пошёл человек в длинном грязном плаще. Он печально дудел на короткой дудочке — тоскливо и отрывисто.
Старушка засунула ему в карман беззвучно упавшую мелочь.
— Там самое важное время рассчитать, это как «Тетрис»… Да не смотри ты на него, у нас денег всё равно нет. — Витёк потянул Сашу за рукав. Пойдём смотреть новый выход.
Они вышли в стальные арки между родонитовых колонн — вслед за нищим музыкантом.
Станция была тускла и пустынна. Посередине мраморного пространства стоял обыкновенный канцелярский стол. Музыкант подвёл их к столу, за которым листал страницы большой амбарной книги человек в синей фуражке.
— Это кино, кино… — Витёк обернулся к Саше, но никакого кино не было. Он повторил ещё раз про вход, но их только записали в странную книгу, и музыкант повёл мальчиков к эскалатору.
Чем выше одни поднимались по эскалатору, тем холоднее становилось. Наверху холодный воздух, ворвавшиеся через распахнутые двери, облил их как ледяной душ.
Площадь Маяковского странно изменилась — памятника не было, исчез путепровод и дома напротив метро.
Площадь казалась нарисованной. Стояла рядом с филармонией старинная пушка на колёсах с деревянными спицами. Вокруг была разлита удивительная тишина, как в новогоднее утро. Снег неслышно падал на мокрый асфальт, и жуть стояла у горла как рвота.
Мальчики жались друг к другу, боясь признаться в собственном страхе. Два солдата подсадили их в кузов старинного грузовика, и он поехал в сторону Белорусского вокзала.
Москва лежала перед ними — темна и пуста. Осенняя ночь стояла в городе чёрной водой торфяного болота. На окраине, у Сокола, они вошли в подъезд — гулкий и вымерший.
Музыкант-дудочник вёл их за собой — скрипнула дверь квартиры, и на лестницу выпал отрезанный косяком сектор жёлтого света. Высокий подросток молча повёл Ляпунова и Минина вглубь квартиры. Такие же, как они, дети, испуганные и непонимающие, выглядывали из-за дверей бесконечного коридора.
Сон накрывал Минина с Ляпуновым, и они заснули ещё на ходу — от страха больше, чем от усталости, с закрытыми глазами бросая куртки в угол и падая на один топчан.
Когда Большой Минин открыл глаза, то увидел грязную лепнину чужого потолка. Мамы не было, не было дома и вечно горящего светодиода под плоским экраном на столе. Был липкий ужас и невозможность вернуться. В грязном рассветном свете неслышно прошла мимо Минина высокая фигура — это вчерашний музыкант встал на скрипучий стул рядом с огромными, от пола до потолка, часами. Тихо скрипнув, открылось стеклянное окошечко — дудочник открыл дверцу часов.
Он начал вращать стрелки, медленно и аккуратно — через прикрытые веки Большой Минин видел, как в такт каждому обороту моргает свет за окном, и слышал, как при каждом обороте с календаря падал новый лист. Листки плыли над Мининым, как облака.
Минин зажмурился на мгновение, а когда открыл глаза, то никого рядом не было. Только лежал рядом листок календаря с длинноносым человеком на обороте — и социалист Сен-Симон отворачивался от Минина, глядел куда-то за окно, на свой день рождения.
Пришёл бледный Ляпунов, он уронил на топчан грузное тело и принялся рассказывать. Это было не кино, это был морок — никакого их мира не было в этом городе. На улицах ветер гонял бумаги с печатями, потерявшими на время силу. Неизвестные люди с испуганными лицами грабили магазин на углу. Ляпунов взял две банки сгущёнки, потому что взрослые прогнали его, и вернулся обратно.
Квартира оказалась набита детьми — одних приводили, других уводили, и пока не было этому объяснений.
Ляпунов, книжками брезговавший, предпочитал кино — теперь он строил соответствующие предположения. В комнате шелестело что-то о секретных экспериментах, секретных файлах.
— Мы мировую историю должны изменить. Это Вселенная нами руководит! Гоме… Гомо… Гомеостаз!.. — но все эти слова были неуместны в холодной пыльной комнате, где только часы жили обычной жизнью, отмеряя время чужого октября.
Ляпунов был похож на хоббита, нервничающего перед битвой с силами зла. Где Гендальф, а где — Саурон, было для него понятно изначально, но вдруг он хлопнул по топчану:
— Слушай, мы ведь выстрелить не сумеем! Тут ведь на всю Красную Армию ни одного автомата Калашникова. Ты вот винтовку мосинскую в руках держал? Ну, зачем мы им, зачем, а?
Что-то запищало в куртке Минина.
Он бросился глядеть — оттого, что консервный электронный звук казался вестником из родного прошлого — или теперь будущего? Это пищал, засыпая навек, мобильный телефон — всю ночь он искал несуществующую сеть.
Минин отключил телефон и поставил его на полку в изголовье топчана, стараясь забыть о нём.
Именно в этот момент он понял, что возврата не будет.
Минин с Ляпуновым понемногу изучали квартиру — в одних комнатах их встречали испуганные детские глаза. В других было пусто — а в дальней, тёмной комнате Минин обнаружил странные баллоны, дымившиеся белым паром, как дымились дьюары с жидким азотом на работе его отца.
Он тут же захлопнул дверь, вспомнив историю Синей Бороды.
На стене коридора, прикрытый осевшей и заклиненной дверью, они обнаружили телефон. Чёрный эбонитовый корпус казался жуком, пришпиленным к зелёной поверхности стены.
Минин снял трубку — в его ухо ударил длинный гудок. Можно было позвонить, но только кому? Бабушке должно было быть столько же лет, сколько ему сейчас — и она (он знал) в городе. Он набрал родной номер, но ничего не вышло — тут он вспомнил, что цифры тут как-то должны сочетаться с буквами. Но вот какая буква должна идти спереди… Он набрал какой-то номер наугад, но на том конце провода никто не ответил. Минин попробовал с другой буквой, но тут в конце коридора появился Дудочник и погрозил ему пальцем.
Минин и Ляпунов испуганно бросились в свою комнату.
Через несколько дней молчаливого и затравленного ожидания, пришли и за ними. Старшим стал тот мальчик, что открывал им дверь — он назвался Зелимханом. Зелимхан вывалил перед Мининым и Ляпуновым груду вещей, нашёл в ней пятый, лишний валенок — забрал его и велел одеваться.
Так они и вышли на улицу в курточках с чужого плеча — набралась целая машина, и Дудочник, прежде чем сесть за руль, долго шуровал ручкой под капотом.
Их везли недолго и выгрузили где-то за Химками. Там на обочине лежал труп немца — без ремня и оружия, но в сапогах. Рядом задумчиво курил старик, отгоняя детей от тела.
Зелимхан собрал мальчиков и повёл их на запад — заходящее солнце било им в глаза.
Первый раз они переночевали в разоренном магазине. Мальчики спали вповалку, грея друг друга телами, и Минин слышал, как ночью плачет то один, то другой. Он и сам плакал, но неслышно — только слеза катилась по щеке, оставляя на холодной коже жгучий след.
Зелимхан разрешил звать себя Зелей. Только у Зели и было оружие — «наган» с облезлой ручкой.
И через несколько дней к нему, закутанному в женскую шаль, подъехал обсыпанный снегом немец на мотоцикле. Немец подозвал Зелю, а его товарищ в коляске раскрыл разговорник.
Зеля подошёл и в упор выстрелил в лицо первому, а потом и второму, бестолку рвавшему пистолет из кобуры.
Из-за сугробов вылезли остальные мальчики, и через минуту мотоцикл исчез с дороги, и снова — только позёмка жила на ней, вихрясь в рытвинах. Тяжёлый пулемёт, пыхтя, нёс Маленький Ляпунов — как самый рослый, а другие трофеи раздали по желанию. Солдатка, у которой они ночевали в этот раз, валяясь в ногах, упросила их уйти с утра.
Так они кочевали по дорогам, меняя жильё. Минину стало казаться, что никакой другой жизни у него и вовсе не было — кроме этой, с мокрым валенками, простой заботой о еде и лёгкостью чужой смерти.
В начале ноября Минин убил первого немца.
Зеля предложил устроить засаду на рокадной дороге километрах в десяти от деревни. Полдня они ходили вдоль дороги, и Зеля выбирал место, жевал губами, хмурился.
Потом пришли остальные.
— Давай не будем знать, откуда он это умеет? — сказал Ляпунов.
И Минин с ним согласился — действительно, это знать ни к чему.
Они лежали на свежем снегу, прикрыв позицию хоть белой, но очень рваной простынёй, взятой с неизвестной дачи. Мальчики притаились за деревьями по обе стороны дороги. Зеля выстрелил первым, сразу убив шофёра одной, а со второго раза Минин застрелил шофёра идущей следом машины.
Вторая машина оказалась пустой, а раненых немцев из первой Зеля зарезал сам.
Минин слышал, как он бормочет что-то непонятное, то по-русски, то на неизвестном языке.
— Э-э, декала хулда вейн хейшн, смэшно, да. Ца а цависан, да. Это мой город, уроды, это — мой… — услышал краем уха Минин и, помотав головой, отошёл.
Они, завели вторую машину и подожгли другую. Началась метель, и следа от колёс не было видно.
Мальчики вернулись домой и всю ночь давились сладким немецким печеньем и шоколадом.
Зелимхана убили на следующий день.
Немцы проезжали мимо деревни, где прятались мальчики. Что-то не понравилось чужим разведчикам, что-то испугало: то ли движение, то ли блик на окне — и они, развернувшись,
шарахнули по домам из пулемёта. Зеля умирал мучительно, и мальчики, столпившись вокруг, со страхом видели, как он сучит ногами — быстро-быстро.
— Это мой город! Я их маму… — выдохнул Зеля, но не выдержал образ и заплакал. Он плакал и плакал, тонко пищал как котёнок, и всё это было так непохоже на ловкого и жестокого Зелю.
Он тянул нескончаемую песню «нана-нана-нана», но никто уже не понимал, что это значит на его языке.
Как-то они нашли позицию зенитной батареи — там не было никого.
Стволы целились не в небо, а торчали параллельно земле.
Ляпунов попробовал зарядить пушку, но оказалось, что в деревянных ящиках рядом снаряды другого калибра.
И группа снова поменяла место.
Минин всё время чувствовал дыхание своего города — город жил рядом, и мальчики, увязая по пояс в снегу, ходили, будто щенки вокруг тёплого бока своей матери. С одной стороны было тепло Москвы, а с другой — враг. Они же двигались посередине, ощетинившись, как те самые щенки.
Минин уже редко думал о прошлом. Если бы он вспоминал о нём часто, то он бы умер, наверное, сразу.
Но иногда ему казалось, что причиной всего было не случайное желание посмотреть новый выход со станции метро, а то, что лежало в его основе. Минин любил Москву и мог часами бродить по её переулкам.
Надо было ходить по этому каменному миру с какой-нибудь правильной девочкой, но девочку для прогулок он не успел завести. Тонкий звук этой струны, московского краеведения-краелюбия, ещё звучал в нём. Оттого, в этих снежных полях, он чувствовал себя частью площади Маяковского, осколком родонитовой колонны, кусочком смальты с панно, изображающем вечно летящие самолёты, под беззвучным полётом которых сейчас читает свой праздничный доклад Сталин. Самолёт был важнее Сталина, вернее, Сталин тоже был частью этого города и был вроде самолёта.
А Минин был главнее Сталина — потому что знал, что будет с этим человеком во френче, и знал, что сроки его смерены.
Поутру мальчики, будто мене и текел, вкупе с упарсин — вычерчивали жёлтым по снегу свои неразличимые письмена. Часовой механизм истории проворачивался, и Минину казалось, что он исполняет роль анкерного регулятора — важной детали.
Теперь его пугало только то, что он может оказаться деталью неглавной, и всё будет зря.
Через несколько дней после смерти Зели они наткнулись на очередную деревню. Рядом с избами, поперёк дороги, стоял залепленный снегом немецкий бронетранспортёр. Мальчики обошли вокруг и нашли замёрзшего часового.
Минин с трудом вынул из его рук винтовку, а из вымороженной машины взял канистру с соляркой. Солярка стала похожа на желе, и мальчики просто намазали её на стены. Потом они припёрли дверь бревном и стали смотреть на огонь.
На них, из узкой щели погреба с ужасом смотрели две старухи. Но мальчики не думали, что кто-то, кроме врага, может быть рядом, они вообще ни о чём не задумывались — и в этом была их сила. Однажды они убили немецкого заблудившегося офицера — когда его, оставшегося после налёта, вытащили из машины, он был похож на жука в муравейнике — только сапоги взмахивали в воздухе. Когда мальчики расползлись в стороны, отряхиваясь, то офицер и вовсе не походил на человека.
Через пару недель они, обманувшись, завязали бой с танковой разведкой — и танкисты, не разбираясь, кучно обстреляли отряд из пушек. Часть убили сразу, а несколько расползлись по снегу ранеными зверьками — и по следу сразу было видно, кто куда дополз.
Их осталось четверо — Ляпунова ранило в руку, но он не подавал виду, что ему больно. Зато к вечеру они нашли новую пустую деревню.
Это была не деревня, а дачный посёлок. За крепкими заборами стояли богатые дома — два младших мальчика, близнецы без имён, растопили печь стульями, а обессиленный Ляпунов сразу заснул.
Минин разглядывал старые, но в этом мире почти свежие журналы — за август и сентябрь. Там на иллюстрациях плыли дирижабли, и Ленин махал рукой со здания Дворца Советов. Он казался себе похожим на сумасшедшего инженера Гарина, что на заброшенном острове вместе со своей подругой листает альбомы с фантастическими проектами несуществующих городов.
Положив под голову стопку утопий, он заснул. Он спал, а за щекой у него плавился в слюне сухарь, найденный близнецами на кухне.
Минин проснулся от того, что раненый дёргал его за руку.
— Давай поговорим, а? — Ляпунов задыхался. — Я умру, и мне страшно. Ты можешь понять, что с нами произошло, а? Мы ведь умрём и сразу воскреснем? Это ведь такая игра?
— Я не знаю, Саня, — ответил Минин, слушая потрескивание остывающей печи.
— Мы должны умереть, — печально сказал Ляпунов. — Мы все умрём, это ясно и ежу. Это город затыкает нами дыру во времени. Мы с тобой как эритроциты.
— Что?
— Эритроциты. Это… Нет, неважно. Знаешь, что такое саморегуляция в городе — ну там прокладывают дорожку какую-нибудь пафосную в парке, а потом оказывается, что так ходить неудобно, и вот протоптали совсем другую тропинку. А через эту дорожку проросла трава, асфальт потрескался, фонари расколотили, и всё — нет ни пафоса, ни дорожки.
Это её не кто-то уничтожил, а город целиком — так со многими вещами бывает, большой город всё переваривает, как организм. Он и в ширину растёт — только иногда растёт не только вширь, но и во времени.
— Ну, ладно. Если ты такой умный — отчего именно нас сюда закинули?
— Я и сам не знаю. Может, нас просто не так жалко, мы маленькие, у нас самих детей нет. А, может, мы все в игры играли про войну. Самое обидное знаешь что? Самое обидное, если это городу всё равно — вот ты думаешь о том, сколько эритроцитов… То есть, ладно — как у тебя организм с болезнью борется? Ты об этом думаешь? А тут город берёт у будущего — а что ему взять, кроме нас?
Они замолчали, слушая, как ухает и постанывает что-то в печной трубе.
— Я утром уйду, ты ребят не буди — лучше я в снег лягу, говорят, когда замерзаешь, не больно. Плохо быть маленьким кровяным тельцем. Или тельцом?
— Каким тельцом?
— Ты меня не слушай, это всё из книжек…
Тогда Минин схватил руку Ляпунова — мокрую и жаркую, и они так и заснули — рука в руке.
Минин проснулся поздно. Ляпунова уже не было, а два оставшихся мальчика, чумазых и печальных, что-то варили на печи. Они поняли всё без объяснений.
Они снова вышли на охоту, но в этот раз немецкий патруль оказался умнее, он расстрелял их, не дав приблизиться. Оба близнеца повалились в снег, одинаково держа руки за пазухой, где грелись пистолеты.
Минину пуля попала в бок, но прошла мимо тела, и он спокойно ждал, когда уедет немецкая разведка, и только когда прошло полчаса, когда тарахтение мотоциклов давно не слышалось, уполз прочь, не приближаясь к убитым.
Вернувшись на чужую дачу, он нашёл табуретку и, встав, примерился, к старым ходикам на стене.
Он попробовал провернуть стрелки вперёд, но они не поддавались, вот обратно они шли с охотой — а при движении в будущее только гнулись.
Он выпил кипятку с вареньем, что нашли, да не доели близнецы, и попробовал ещё раз. Стрелки встали намертво, и он понял, что и его время кончилось.
Ляпунов был прав — город зачерпнул их пригоршней, и уже не выяснишь, из-за какой игры отобрали его, Минина. Может, мы просто слишком сильно любили этот город, подумал он — но причём тут близнецы?
Но он одёрнул себя — много ли он знал о близнецах, ведь сейчас он не помнил даже их имён.
Минин услышал далёкий рокот мотора и, подхватив винтовку, выбрался из дома.
Там, на холме неподалёку появился кургузый, будто игрушечный танк. Минин прицелился и стал ждать, когда голова танкиста покажется над башней. Беззвучно отвалилась крышка, и через мгновение Минин выстрелил. Пуля ударила в броню и высекла длинную искру. Танк фыркнул мотором и начал сползать обратно, на другую сторону холма. Трещали разряды в радиотелефонах, доклад ушёл командирам, обрастая другими сведениями, часто придуманными и противоречащими друг другу — так радиоволны сливались, шифровались и расшифровывались, чтобы печальный немец далеко-далеко от Москвы открыл под лампой дневник и записал на новой странице «Противник достиг пика своей способности держать оборону. У него больше нет подкреплений».
В этот момент его противник встал и пошёл обратно, волоча винтовку по снегу — но через минуту с танка разведки выстрелили в сторону деревни — наугад, без цели. Шар разрыва встал за спиной мальчика, и крохотный осколок, величиной с копейку, попал Минину в спину. Он упал на живот и ещё успел перевернуться на спину, сползая с дороги в канаву.
Холод схватил его за ноги — не тот зимний холод, к которому он привык, а особый и незнакомый. Сначала он схватил его за ступни, погладил их, поднялся выше, и вот Минин вовсе перестал чувствовать ноги.
И тут ему стало ужасно одиноко, потому что он знал, что мама не придёт — они все звали маму, те, кто успевал. Теперь, нужно было крепко терпеть, чтобы не заплакать.
Мороз усиливался, и ночь смотрела на него из-за стремительно летящих зимних облаков. Город жил где-то рядом, там, откуда должно было вылезти солнце, но повернуться к восходу уже не было никаких сил. Мир завис на краю, и чаши невидимых весов, где-то там, в вышине, на чёрном пространстве без звёзд, колебались, ходил вверх-вниз маятник, колебалась стрелка, чтобы потом показать, чья взяла.
Минин ждал, как они встанут, как ждал результата контрольной — всё уже сделано, и переписать начисто уже не дадут.
Город был рядом, и Минину было лучше многих, умиравших в ту ночь — он знал, чем кончится дело, он знал ответ в конце задачника.
Минин прожил ещё несколько долгих часов, пока не услышал нарастающий шум. Это с востока, в темноте, шло слоновье боевое стадо.
Танки шли, поводя хоботами и перемаргиваясь фарами. Минин ещё успел почуять запах гари и двигателей, и лучше запаха не было на земле. Вдыхая в последний раз этот морозный воздух, становясь частью снега и льда близ Москвы, он почувствовал, как окончательно сливается со своим городом.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
04 сентября 2015
(обратно)
Бифуркация (День нефтяника. Первое воскресенье сентября) (2015-09-06)

Они закурили.
Несмотря на едкий дым сигарет, Фролов с интересом принюхивался к запахам внутри беседки. Тут пахло сырым деревом и ржавеющим металлом. Много лет этот навес использовался как склад неработающего оборудования. Кроме них сюда забредал разве что институтский художник, в перерывах между плакатами и лозунгами, подбиравший здесь, вдали от людей, бесконечные аккорды на разбитой гитаре. Обычно он сидел как раз на этих ящиках. Если хорошо покопаться в этих уходящих уже под землю гробах, можно было обнаружить могучие изделия фирмы «Телефункен», скончавшиеся уже на чужой для них земле.
Он оперся на перила и стал рассматривать надписи на ящиках.
— Ошибки быть не может? — спросил Бажанов.
— Ну вот глупости ты, Сережа, говоришь! Глупости! Сам же знаешь всё. Ну какие в вероятностных теориях могут быть гарантии? — ответил Фролов не оборачиваясь. — Может быть ошибка, ещё как может. У нас группа динамического прогнозирования, а не аптека.
Да только, как ни крути, либо мы вмешиваемся в ход событий, либо плачем потом об упущенных возможностях.
По мокрой дорожке, попадая в лужи, оставшиеся после дождя, к ним кто-то приближался.
Фролову не нужно было и думать — тяжелое дыхание директора он узнавал сразу, даже через закрытую дверь. А тут, во дворе, он услышал его, ещё когда директор вышел на крыльцо. Впрочем, они звали его просто — Папа.
— Ну что, группа в сборе. — Вопросительный знак в конце потерялся.
— Почти вся, — машинально поправил Фролов.
— Знаю. Я отпустил Гринблата, — продожил Папа. — Справимся без него. Кто доложит?
Взялся Бажанов. Фролов чувствовал в товарище эту страсть — Бажанову всё хотелось покомандовать. «Недовоевал он, что ли, — подумал Фролов лениво. — У меня вот вовсе нет этого желания».
Они ждали разговора с Папой, потому что три дня назад написали обтекаемый отчет.
Он был похож на днище британского чайного клипера, такой он был обтекаемый, но внутри него было много тревожных предсказаний. Много более тревожных, чем те, что они сформулировали в октябре шестьдесят второго.
Мир тогда стоял на краю, и всё, что содержалось в двенадцати страницах машинописи, сбылось по писаному. Фролов тогда не тешил себя надеждой, что к ним прислушались, принимая решения, но верным знаком было то, что их сразу же засекретили. У них и так-то была первая форма, но Фролов отметил про себя, что даже уборщице, что пыхтела в лаборатории, подняли степень секретности с третьей на вторую.
Но он заметил, что больше они не занимались политическими прогнозами.
После этого им ставили только экономические задачи — этим они и занимались шесть дней в неделю. Впрочем, и это, кажется, было ненадолго: одной из рекомендаций был переход на пятидневную рабочую неделю.
Гринблат как-то, хохоча, сказал, что это его посильный вклад в национальный вопрос — к пятидесятилетию Советской власти евреи перестанут работать по субботам.
Несколько раз Папа проговорился, что их материалы читает сам Главный Инженер. Он не стал уточнять — гадайте, дескать, сами. Но они догадывались, что существовали в общем русле перемен этого десятилетия.
Их держали из суеверия, как держали средневековые герцоги астрологов — иногда принимая в расчет их слова, иногда забывая о них. Да и сейчас Фролов мог назвать пару академиков, что тормозили свои казенные «Чайки», если дорогу перебегала черная кошка.
Они знали, что весь этот нелегкий век страна меняла структуры управления — вот задача группы и была оптимизировать эти структуры. Только что отшумела история совнархозов.
Некоторые бумаги приходили к ним на бланках уже исчезнувшего Мосгорсовнархоза — то есть Московского городского Совета народного хозяйства. Недавно произошла, как говорили, «реорганизация», а на самом деле — роспуск этих советов. Структуры исчезли точно так же, как и появились — волевым актом руководства. Придуманные лысым крикливым вождем, они ненадолго пережили его отставку.
Гринблат даже печалился по этому поводу. Он соглашался, что структуры эти были нежизнеспособны, но он построил столько моделей их поведения, что напоминал директора цирка химер, который сохранил в клетках не виданных никем уродцев. С разгона он попытался анализировать и недавнее прошлое — в котором были «Министерство вооружений» и «Военно-морское министерство», но тут его одернули. Сокращение количества министерств в начале пятидесятых годов было одним из пунктов обвинения могущественного наркома, а потом и министра в пенсне. Но вот он сгорел в печи неизвестного никому крематория (и пенсне, наверное, вместе с ним) — а штат снова раздулся.
Потом пришли иные времена, и стало понятно, что вся страна перетряхивается, как огромный ковер с тысячами вышитых рисунков. Расправляются и снова ложатся складки — государственная машина зашевелилась, сдвинулась с места.
Говорили, что этот новый курс ведет тайная группа, действия которой вовсе не были тайной. Но минул год знаменитого съезда, пятилетний план трещал по швам, вождь снова сделал доклад о переменах, и вот Гринблат уже начал плодить свои модели.
За ним подтянулась и вся группа — дело было в том, что разваливалась устойчивая пирамида власти. Нарушилась вертикаль принятия решения: от ЦК и Совмина, через министерства — на заводы.
В графических моделях Гринблата появилась географическая составляющая — совнархозы были именно географическим понятием. Совнархозы были при этом коллегиальным органами, и развитием промышленности он руководил комплексно — ему подчинялись все промышленные и строительные предприятия, хозяйственные учреждения, транспорт, финансы и проч. Группа извела тысячи перфокарт, и жизнь доказывала, что химера может обернуться жизнеспособным организмом — уменьшились затраты на транспортировку сырья и продукции, полезли вверх показатели кооперации предприятий.
Да только что-то забурлило в глубинных слоях. Бажанов, ездивший в командировки по стране (он чрезвычайно любил эти командировки, оттого Папа даже прозвал его «туристом»), говорил, что налицо ситуация, когда хозяйственники оказывались относи¬тельно самостоятельными по отношению к обкомам.
А потом высшая партийная власть соединилась с высшей государственной властью. Даже не выходя из лаборатории, группа Бажанова почувствовала, как холодный липкий испуг заливает колесики и винтики партийного аппарата. Из их защитника вождь мог превратиться в человека, отобравшего у них власть.
Даже смотрящие из органов были вне себя — что-то нависло над ними, так что они начинали жаловаться при чужих. Как-то на пьянке их куратор сказал, что их хотят «распогонить, разлампасить».
Ну и судя по чуть изменившейся тональности данных, приходивших издалека, коллеги поняли, что совнархозам не жить.
И они стали заниматься «хозрасчетом».
Это слово Гринблат называл дурацким и бессмысленным, как и слово «самофинансирование».
Но их заметили — заметил и сам Главный Инженер, про которого говорил Папа.
Наверху понравилась идея маленьким, точечным изменением сильно изменить ближайшее будущее. Заменить директора цементного завода и получить в отдаленной области резкий прирост строительства.
Найти узкое место в транспортном снабжении, и строительством железнодорожного моста обеспечить перевыполнение плана целой областью.
Но суть того, чем занимались группа, была, если говорить официальным языком, не в генерации своих идей, а в поддержке чужих.
Там, наверху, в аппарате Главного Инженера решили дать больше хозяйственной самостоятельности предприятиям. Предполагалось, что государство, разрешающее хозяйственникам оставлять в своем распоряжении часть заработанных денег, получит в ответ повышение производительности труда, рост качества и увеличение выпуска продукции, особенно той, которая необходима для повышения жизненного уровня населения.
При этом государство отказывалось от свободных цен.
Папа заклинал своих подопечных от упоминания Тито, Дубчека и Кадара.
Примеры югославских преобразований, реформы в Венгрии и чехословацкий «социализм с человеческим лицом» показали, что одна реформа по цепочке влечет за собой следующую, и так — до бесконечности. Только это, конечно, не бесконечность — здесь жизнь далека от математики.
Это просто возникновение другой общественно-политической формации.
Однажды в начале ноября, как раз накануне праздников, несколько отделов сошлись за праздничным столом после собрания. Тогда они получили Государственную премию, разумеется, по закрытому списку.
Водка лилась рекой, шампанское пили только секретарши.
Под конец вечера Фролов понял, что он по-настоящему напился.
И не он один — Гринблат навалился на него, задышал тяжко в ухо:
— А тебе не кажется, Саша, что мы прошли экстремум? Мы прошли высшую точку, и высшей точкой был Гагарин. Ничего выше Гагарина у нас не было, какой-то дурной каламбур… Не слушай ты меня, вернее, слушай, хоть я и пьяный, я тебе говорю правду: ничего выше Гагарина у нас не было и не будет, весь мир под нас стелился, Гагарину любая принцесса дала б, но функции неумолимы, и кривая начинает ползти вниз. Нам любой ценой нужно не дать системе заснуть. Любой ценой, понимаешь, любой. Там, внизу, будет мрак и тлен, там новый сорок первый год будет, нас голыми руками можно брать будет, коммунизм…
Тут он икнул, и что-то забулькало, заклекотало в горле, будто Гринблат полоскал его при простуде.
Он уронил голову на грудь и так и не очнулся до дома, пока Фролов вез его по стылой ноябрьской Москве на такси.
В ту ночь Фролов поверил в идею, что давно ходила между ними тремя, но не была до конца проговорена.
Малое воздействие в точке ветвления вызывало удивительные перемены модели будущего.
Потом они много раз говорили уже на трезвую голову.
Фролов проверял выкладки, Бажанов сводил вместе их бессвязный бред и вдруг выдавал отточенные формулировки, годившиеся для академической статьи, если бы, конечно, всё это можно было печатать.
У них на большой доске разноцветными магнитиками были изображены блоки системы.
Так это и называлось: «Наглядная схема взаимодействия сложных систем». Гринблат клялся, что с лампочками было бы более красиво, но на лампочки не было фондов.
Фонды были на работу Больших электронно-счетных машин, связанных в одну сеть. Институт позволил лаборатории отбирать свое время по утрам, в рассветные часы. Обычные ученые традиционно не спали по ночам, но к утру сворачивали деятельность. Более дисциплинированные работали днем, а вот задачи Лаборатории, или группы Бажанова, считались на рассвете.
— Мы всё можем. Мы Берлин брали, — выдохнул Гринблат.
— Что ты кипишишься? — вяло сказал Бажанов. — Ты его, что ли, брал?
Это был удар ниже пояса. Гринблат всю жизнь страдал от того, что не попал на войну. Его не взяли по зрению, да и сердце у него было не в порядке. И всё равно — теперь он чувствовал себя человеком 1924 года рождения, увильнувшим от войны. Он был единственным из мальчиков своего школьного выпуска, оставшимся в живых — оттого он никогда не ходил на встречи одноклассников. Не сказать, что за ним стелился шлейф вины, но эту вину он вырабатывал сам, вырабатывал с такой силой, что, казалось, над головой у него серый нимб еврейской виноватости.
Они поругались, но мгновенно помирились снова.
Их помирила работа, весь мир был на ладони, и всё было достижимо, как в тот майский день, когда Фролов и Бажанов, ещё не зная о существовании друг друга, палили в небо из своих пистолетов.
Аспирант Бажанов делал это под Берлином, а недоучившися студент Фролов — в Будапеште.
И точно так же, как орали в тот апрельский день, когда они, не старые ещё, крепкие сороколетние мужчины, орали в толпе, встречавшей первого космонавта.
Методику они взяли старую.
Несколько лет назад они начали моделировать заводские связи — и по их рекомендациям страна сэкономила миллионы рублей. Связи между поставщиками стали короче, производство стремительно наращивало скорость.
Самое главное было — найти точку приложения сил.
В простом раскладе это был человек, который находился не на своем месте, будто фигура, которую нужно чуть подвинуть — и шахматная партия пойдет совершенно иначе.
Потом, вот уже три года они занимались целыми отраслями — в частности, радиоэлектроникой.
Фролов понимал, что они вовсе не демиурги, просто благодаря им кто-то там, наверху, мог положить на стол перед высшим руководством простой и ясный бумажный аргумент.
Их вовсе не было в сложном раскладе большой игры, они не были даже запятой в том тексте, но на них ссылались как на старинную примету, над которой посмеиваются, но всё равно притормаживают, будто перед черной кошкой.
Наука давно стала мистикой, и особенно сейчас — когда человек полетел в космос.
И эти люди наверху, что командовали армиями ещё в Гражданскую, а потом сидели рядом с вождем в его кабинете, который Фролов представлял себе по фильмам, использовали этот стремительно увеличивающийся в размерах текст в своей загадочной игре.
Фролов не строил иллюзий.
Он был одним из тех, кем командовали эти люди двадцать лет назад. Он покорно брел в намокшей шинели, когда в сорок втором его гнали к Волге. Ему тогда повезло, его, недоучившегося студента, выдернули из окопов, чтобы переучить на артиллериста.
Математика спасла его — он попал в дивизион дальнобойных пушек. Там погибали реже.
Но в тот страшный год он поверил в силу математического расчета — враг тогда побеждал именно математикой — не арифметической численной мощью, а интегральным счислением, координацией элементов, ритмом снабжения, великой математикой войны.
А в сорок втором он был одним из тех, кто платил лихую цену за промахи в управлении, что потом казались пренебрежением математикой сложных систем.
Когда в сорок четвертом он участвовал в большом наступлении, он вдруг почувствовал, что математика уже на их стороне — всё было рассчитано иначе — тщательно, и мать писала ему, что немцы идут по молчащей Москве, что высыпала на улицы. Они идут, шаркая разбитыми сапогами, а она плачет, стоя на балконе.
Итак, методика была старая, а вот математика — куда совершеннее. Гринблат говорил, что наша математика совершеннее, потому что она не надеется на всесилие электронно-счетных машин.
И вот они дописали выводы нескольких месяцев работы. Нет, по условиям игры они расплывчато докладывали результаты напрямую Папе, и он уже догадался, что выводы будут нерядовыми.
Перед тем, как отдать отчет, они поругались снова.
Гринблат снял очки и сказал:
— У нас есть шанс преобразовать страну.
Фролов видел, что эта фраза далась ему с трудом.
— У нас есть шанс преобразить мир. Это шанс на коммунизм.
Бажанов раздраженно махнул рукой:
— Шанс! Это объективное развитие. Половину времени я трачу на совещаниях на то, чтобы отмазать нас от обвинений в субъективизме. Роль личности в истории, Плеханов и всё такое.
Гринблат, не слушая, продолжал:
— У нас два пути — либо жить путем приписок, потому что у нас есть неожиданное богатство. Нам подвалило наследство — оно состоит из древних лесов. Мы можем проматывать его год за годом, спиваясь, как капиталисты и помещики.
Фролов хотел напомнить ему, что отечественные капиталисты были из старообрядцев-трезвенников, но не стал — по сути-то Гринблат был прав.
— И есть второй путь — путь интенсивного развития. Система должна состоять из малых самоорганизующихся единиц. Вирусы сильнее мамонта.
Мы можем затормозить один сегмент, и за это время восстановить мелкие блоки развития. Через десять лет мы будем продавать мертвый лес юрского периода, точно так же, как раньше продавали необработанный лес за границу.
Гринблат знал, о чем говорил — его отец семнадцать лет подряд валил лес на Севере. И национальное богатство за эти семнадцать лет сделало из инженера Гринблата, что на спор передвигал полутонный трансформатор, из весельчака и балагура — тень.
Тень отца, вернувшегося с Севера, жила за шкафом, и Гринблат слышал, как он приподнимается с кровати, когда среди ночи во двор заезжает такси.
— Можно пойти рациональным путем. Нам верят, и наверху готовы. Не мы начали реформы, но реформы идут. Мы знаем, что они идут — мы же сами обрабатываем информацию.
Мы не декабристы, а часть этих реформ, их просто не нужно останавливать — а если мы получим это наследство…
Наследство нужно просто отложить.
— Ты много на себя берешь, — зло сказал Бажанов. — Нефть нужна промышленности. Без промышленности не будет коммунизма.
— У нас не будет промышленности, если мы будем жить нефтью. Смотри, какая у нас электроника — через три года мы полетим на Луну. У нас уже есть счетно-решающие машины — такие, что можно поставить на борт, в них будущее. 256 килобит, представляешь? Да никто не представляет, что такое память 256 килобит!
Успокоившись, они нарисовали схему на доске — Гринблат после этого был обсыпан мелом, и стал похож на мельника.
Рисовать на бумаге им давно запретили — из соображений всё той же секретности.
Линии сходились к одним прямоугольникам, исходили из других, и всё вело к одному человеку. Вернее, к группе людей, которыми он руководил.
Не будет его, уверенного и волевого, и всё развалится.
Развитие пойдет иным путем — медленным и постепенным.
Не месторождение, а целая нефтяная страна будет развиваться с запозданием на десять лет. И за эти десять лет страна переменится — весь этот хозрасчет, все реформы успеют совершить необратимый цикл.
А если нет — несколько десятилетий можно будет легко латать любые дыры в экономике.
Фролов с Гринблатом оценили рост объемов по нефти до трехсот миллионов тонн, а газа чуть не пол триллиона кубометров. Нефть и газ легко конвертировались в доллары, доллары превращались в оборудование и продовольствие, и не было в этой цепочке места совершенствованию производства — зачем оно, когда недостающее можно докупить за границей, не изменяя текущего уклада жизни.
И весь этот конус будущего сходился в настоящем только на одном человеке — на хамоватом нефтянике, почти их ровеснике.
Ему прочили большой пост в Западной Сибири. Он был, конечно, не один, с командой таких же, как он, похожих на казаков Ермака, лихих хозяйственников. В прошлые времена они пустились бы в Сибирь за мягким золотом, как сейчас пустились бы за черным. Но тогда они не побрезговали решать свои вопросы сталью сабель и голосом пищалей. Теперь они были стреножены новыми временами.
Но у них были покровители, а с этим надо считаться в любые времена.
И это будет смертью экономики.
Бажанов исчез на неделю.
Пару раз он забегал в Институт — в непривычном черном костюме с галстуком, и было впечатление, что он каждый день ходит на какие-то похороны.
— Они не могут затормозить назначение. Видишь ли, у них в Совмине образовалась целая фракция, драка бульдогов под ковром.
— Знаю, так говорил Черчилль.
— Может, и Черчилль. Но Папа говорит, что не будет этого назначения, наше дело действительно затормозится. Там просто есть конкурент — тихий хозяйственник, не рисковый. С ним всё будет проще, тише и спокойнее.
А этот пробивает не только финансирование — он делает из этого политическое направление.
— Ну не кидать же в него бомбу, как в царского сановника.
— Бомбу… Я бы кинул в него бомбу, — Бажанов усмехнулся невесело. — Но я не докину, у меня ведь рука после Сталинграда плохо гнется.
Наконец, ещё через несколько дней, он собрал их и сказал:
— Надо убрать этого человека.
Бажанов сказал это просто, точно так же, как сказал когда-то о том, что надо завалить защиту человека, метившего на место начальника Института. Тогда они и сделали это — ювелирно и точно.
Защита провалилась с треском, все и так знали, что диссертация написана другими людьми, но Фролов нагнал в зал веселых остроумцев с допуском к секретной теме, что закидали диссертанта неприятными вопросами, а Гринблат обнаружил подтасовки в расчетах. Но самое главное, Бажанов обеспечил этим людям попадание на сам спектакль.
Ретивого карьериста через месяц тихо убрали из их конторы, и Папа стал директором, а они — его великовозрастными сыновьями.
— Дело решено. Его уберут.
— Как?
— Физически. Это решено на самом верху. Не надо больше ничего спрашивать.
— Он наш, советский человек, — сказал Гринблат.
— Ты же сам этого хотел.
— Тебе что важнее — будущее страны или он? На фронте…
Фролов положил Бажанову руку на плечо:
— Не надо.
Да и сам Бажанов не хотел продолжать.
Фролов думал, что они будут долго обсуждать эту жертву, но, как ни странно, все отнеслись к этой идее спокойно. Он даже испугался — что это? Откуда в нем эта жестокость? Ладно, Бажанов, в нем до сих пор жил недовоевавший командир батареи, ладно он, Фролов, тоже посылавший людей на смерть — и они зачастую были посимпатичнее этого золотозубого нефтяника. Фролов однажды накрыл огнем своих корректировщиков — никакого «вызываю огонь на себя» там не было. Всё было буднично и просто, этого требовала логика боя, да, может, они и были к этому моменту мертвы… Но откуда такое спокойствие в Гринблате? Впрочем, тому наверняка хочется победы, недополученной на войне. Он будет казниться потом, но это — потом.
Они приехали на электричке — ни дать, ни взять, двое работяг с каким-то измерительным инструментом.
У Бажанова в руках была гигантская бело-красная линейка, размеченная штрихами.
А у его напарника на плече длинный брезентовый мешок.
Их было двое — Бажанов и приданный ему снайпер. Или, может, Бажанов был придан снайперу — им оказался невысокий парень с плоским монгольским лицом — глядя на это лицо вовсе не было понятно, сколько ему лет. Может, тридцать, а может, и все пятьдесят.
Когда они подошли к опушке леса, снайпер стал выбирать позицию.
Дорога тут была видна как на ладони — она изгибалась, делая крутой поворот, и уходила в лес, как раз к дачам министерства.
Снайпер расчехлил винтовку, и Бажанов подивился её необычной форме. На фронте он видел снайперов с простыми трёхлинейками, снабженными оптическими прицелами, а тут было что-то специальное.
— Новая разработка? — с уважением спросил Бажанов, но монгол ничего не ответил.
До дороги было метров восемьсот, и Бажанов даже обиделся за новую снайперскую винтовку — на войне он видел, что снайперы тогда били за полтора километра, но не ему тут было решать. Монгол вытащил большой бинокль и дал Бажанову.
— Я работаю по вашей команде — как опознаете машину.
Вечер догорал, как костер.
Они пропустили грузовик с песком, который, видно, прикупил один из сноровистых дачников — явно в обход строгих порядков. Оттого шофер гнал на дачи в неурочное время. Потом дорога надолго опустела.
Бажанова тянуло завязать разговор, да только понятно было, что никакого разговора не будет.
Грузовик проехал обратно.
Наконец из-за поворота показалась белая «Волга», её Бажанов узнал бы из тысячи, да много ли тут «Волг» с таким бело-серебристым отливом.
Белые цифры номера, который он выучил наизусть, были четко видны в сильную оптику. И мужчина за рулем был тоже узнаваем — точь-в-точь как на унылом фото из личного дела.
— Начали, — выдохнул он.
Хлопнул выстрел.
Машину повело по дороге, она вильнула и соскочила с дороги прямо под откос, там она несколько раз перевернулась. Белое тело «Волги» билось на камнях, как пойманная рыба на берегу. Монгол был действительно ювелиром — он пробил колесо, и всё выглядело как заурядная авария.
— Будем проверять?
Монгол ответил всё так же, без выражения:
— Не надо проверять. Всё нормально.
Папа не пришёл к ним в лабораторию, а вызвал их в беседку.
Погода была отвратительной.
Фролов сразу понял, что случилась беда, и они услышат то, что не должны услышать уши стен — ни в их комнате, ни в кабинете самого Папы.
Лицо начальника было белым.
Они никогда не видели его таким.
Оказалось, что жена нефтяника взяла его машину и поехала на дачу с любовником — таким же, как её муж, крепким и обветренным человеком. То же, только в профиль, как говорится — зачем с таким изменять, спрашивается.
Теперь любовники лежали рядом в районном морге, и их обгоревшие головы скалились в облупленный потолок — её белыми, а его — золотыми зубами.
— Что с нами будет? — спросил печальный Гринблат.
— Да что с вами будет? Ничего с вами не будет. Только дело вы загубили. Нефтяник ваш после похорон выезжает в Западную Сибирь. Всего себя отдам работе и всё такое. Дело, понимаете…
— Но расчетное…
— Да плевать там хотели на ваши расчеты, и что не вы совершили ошибку. Этих-то, кто вспомнит, дело житейское. Тут нужно было изящнее, вас за тонкость ценили.
Папа хотел сказать «нас», но гордость ему не позволила. Фролов понял, что Папа сделал какую-то большую ставку, и ставка эта была бита.
— Там, — он сделал жест наверх, — не любят позора. Глупостей смешных там не любят.
Ничего с вами не будет, но мы выбрали кредит доверия.
В том, что вы не болтливы, я уверен, я-то вас давно знаю. Да только теперь никто к вам не прислушается.
Видно было, что Папа снова хотел сказать «к нам», но эти слова ему были поперек горла.
— И что теперь? Разгонят нас?
— Да зачем вас разгонять, играйтесь в свои кубики. Эх, чижика съели!
Папа посмотрел на стену, на которой замерли магнитики, да что там — замерло экономическое развитие страны.
— Я теперь не смогу им… Я уже нечего не могу им сказать про ваши дурацкие идеи. И про нефть.
Фролов слушал всё это, чувствуя, как его понемногу отпускает.
Он смотрел на стену с некоторым облегчением — пусть всё будет, как будет.
Страна получит нефть и газ, у нас через двадцать лет будет нефть и коммунизм.
Мы его купим. Или получим как-нибудь ещё — неважно, каким способом.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
06 сентября 2015
(обратно)
Победитель дракона (День танкиста. Второе воскресенье сентября)
(2015-09-13)
Der aber ritt schön weit von der Stadt,
und es war ein Himmel voll Lerchen über ihm.
Rainer Maria Rilke. Der Drachentöter

Староста, не веря своим глазам, смотрел на горизонт — там приближался тонкий в начале, дальше размазанный вширь, треугольник поднявшейся пыли.
А так всё хорошо складывалось, всё, казалось, предусмотрено и рассчитано — никакого соревнования. Но правила нерушимы, и нужно было трижды позвать всех, кто хотел биться с Драконом. Один раз надо было крикнуть вверх, в небо. Один раз прошептать приглашение на бой воде. И, наконец, произнести его, глядя в степь — туда, откуда приближался Победитель Драконов.
А у старосты был давно продуманный верный план — и этот план сидел сейчас на скамье, глядя себе под ноги. План сплёвывал семечки, и ему было шестнадцать лет.
Староста давно хотел выдать дочь за сына мельника. И мельников сын должен был завтра идти биться с Драконом.
Того, кто пришёл вчера, он не считал за конкурента — второй был нищим, человеком воздуха. Воздух гулял по его карманам и звенел в его голове. Он добрался сюда на чихающем бензином дребезжащем драндулете о двух колёсах, к которому был привязан воздушный змей. Всего имущества, что увидел у него староста, была зелёная труба с пороховой ракетой внутри да очки на раскосых китайских глазах.
А дочь старосты была предназначена мельнику уже тогда, когда завопила в первый раз от шлепка повивальной бабки, уже тогда, когда произнесла первое слово, когда задумчиво глядела на вращающееся колесо и бездумно слушала журчание реки.
Теперь всё рушилось — но староста ещё не хотел верить. Была ещё одна примета, и вот он услышал хриплый металлический звук — сначала тонкий, как писк комара, но нарастающий с каждой минутой.
I got on the phone and called the girls, said
Meet me down at Curly Pearls, for a…
И сердце его упало, а рот наполнился кислой слюной.
«Ney, Nah Neh Nah» — жестью гремел динамик, и староста в раздражении дёрнул себя за бороду.
Механическое чудовище, пыля по гладкой как стол равнине, приближалось. Деревня высыпала на край оврага, глядя как, поводя башней, танк поднимается на бугор. Сначала он исчез на секунду, а потом выпрыгнул и в облаке пыли двинулся вдоль деревенского забора.
Боевой слон остановился на площади — рядом с бронированным трактором мельника. Трактор был похож на ежа — из каждой дырки в броне торчал ствол. Но рядом с пришельцем он казался детской игрушкой. Однако как раз пришелец был весело раскрашен, пятнист разным цветом — от ржавого до грязно-белого, украшен оранжевой бахромой по бортам, и всё ещё хрипел на нём репродуктор-колокольчик:
In my high-heeled shoes and fancy fads
I ran down the stairs hailed me a cab, going
Ney, Nah Neh Nah
When I pushed the door, I saw Eleanor
And Mary-Lou swinging on the floor, going
Ney, Nah Neh Nah
Sue came in, in a silk sarong
She walzed across as they played that song,
Going…
Но тут что-то щёлкнуло, и музыка кончилась.
Сухая земля на секунду замерла в воздухе, будто думая, осесть ли на лица крестьян, решила наконец, и вот облако пыли начало редеть. Из башни вылез Командир — высокий и длинный парень, в выцветшем до белизны комбинезоне, сладко потянулся и спрыгнул вниз.
Староста ждал его, не двигаясь.
— Когда? — только и спросил танкист.
— Завтра, после рассвета, как в правилах сказано — ударим в рельсу и начнём…
— Ну и хорошо. — И, к удивлению старосты, высокий, не дослушав, вернулся к машине, стукнул в броню железякой:
— Ганс, Мотя, вылезайте.
Из машины выползли, будто нехотя, щурясь на солнце как кроты, ещё двое.
Экипаж пошёл на базар мимо селян, что тупо смотрели на эти чудеса. Последним шёл горбоносый радист в шлеме с наушниками. Он вдруг обернулся и показал замешкавшейся селянке козу двумя пальцами.
Селянка отшатнулась, подавшись назад, наступила на спящую в пыли собаку, разом поднялся лай, крики — но танкисты уже шли к торговым рядам, горбоносый раскрывал мешок, показывал издали разные диковины — батарейки да ножики, блестящую кастрюлю с крышкой и странное — большой шар, весь разрисованный непонятными кляксами, покрытый загадочными письменами и ровными линиями.
Они вернулись, нагруженные и повеселевшие, отогнали танк к ржавой, но действующей заправке — по давнему правилу бесплатной для них.
— Что удивительно, — бормотал Мотя, — это то, что у меня глобус купили. Два месяца с собой глобус возил, а только сегодня купили. Красота!
Мехвод сосредоточенно грыз морковку — это был угрюмый немец, знавший толк в ожидании.
— Глобус — это хорошо. А вот масло у них дрянь. Так всегда перед выходом — масло дрянь и солярки недолив.
— Это потому что они привыкли к правилам — раз в год придут халявщики. А Дракон придёт — не придёт, то никому не известно. Про Драконов никому никогда не известно.
— Мы не халяффщики, — сказал немец упрямо. — Мы исполняем праффило. А по праффилам нас должны заправить и дать оружие.
Механик кривил душой — они с радистом знали, что в правилах ничего не говорилось про качество оружия и топлива. Дадут тазик для варенья и столовый нож — и возразить нечего. Правила есть правила.
А разоряться крестьянам нечего — победитель тот, кто первым достигнет границы, убедится, что Дракона нет, и вернётся в деревню с радостной вестью.
Из домика торговца горючим вышел Командир:
— Всё, переговорили — теперь поедем — я вам кое-что покажу.
Танк харкнул сиреневым выхлопом и медленно поехал по улицам. На него хмуро смотрели мужики — дети, против обычного, не бежали за машиной.
Командир ткнул пальцем в склон.
— Что там, видите?
— Ничего не вижу, — отозвался честный механик.
— Стоп, приехали. Туши свет — сейчас увидишь.
Перед ними были руины странного здания, гигантские колёса, через которые проросла трава. Жестяной непонятный кузов, подломленная мачта, висевшая на тросе.
— Это канатная дорога, — сказал Командир дрогнувшим голосом. — Я тут родился — налево дома наши были. А теперь что-то нет ничего… Я,
конечно, знал, что ничего не осталось… Но уж, не так чтобы совсем ничего…
Экипаж принялся обустраиваться. Ганс вытащил самодельный мангал, а Мотя нашёл в развалинах почти целый стол и стал приделывать к нему недостающую ножку. Командир курил и глядел на склон вверх, туда, куда уходили рваные тросы.
Староста в этот момент лихорадочно соображал, что делать — за столом у него сидел озабоченный мельник. Плескался в кружках самогон, табачный чад лежал на полу белым одеялом, покрывая сапоги, копошился под низким потолком. Солярки старосте уже было не жалко — он представлял то, как его дочь подсаживают на гусеницу, она карабкается на стальную круглую башню, и чернявый танкист, задерживая руку на девичьем заду, толкает её вверх. Он даже помотал головой, отгоняя видение.
— Сосед, — вдруг сказал мельник — а пошли им свою дочку поздно вечером. С припасом.
— Ты думай, что говоришь — у нас ведь слажено всё, — с тревогой глянул на него староста.
— Слажено — не разладится. Девка всё равно в цене, одним разом больше, другим меньше — а мы в рельс стукнем тихо — на рассвете стукнем, пока остальные спят. Мой сынок и двинется пораньше, и вернётся первым. А дочку твою он всё равно возьмёт. Хорошая ведь, дочка, крепкая.
Это был выход — и староста понял это сразу, но для виду ещё долго охал, сомневался и говорил невнятное, запивая каждое слово самогоном, будто чередуя питьё и закуску.
Дочь старосты долго наблюдала за танкистами из-за кустов — пока не вскрикнула от неожиданности. Кто-то схватил её в охапку и вытащил на открытое место. За спиной пахло машинным маслом, металлом и потом — чужие руки держали крепко, а их хозяин захохотал у неё над ухом.
Она сказала, что принесла обед, чтобы всё было по правилам.
— По правилам, у нас всё по правилам, — шептала она.
Руки разжались, и она чуть не упала. Человек, пахнувший машиной, исчез в кустах и снова вернулся с корзиной, что она выронила.
Танкисты, не обращая на неё внимания, склонились над корзиной и присвистнули.
Еды было вдосталь — и это было необычно. Необычным были и две бутыли, лежавшие на самом дне.
Дочь старосты усадили за стол, но она жевала, не чувствуя вкуса — только думала, возьмут ли они её все сразу, или по очереди. Командир ей нравился, и она решила, что лучше по очереди, и Командир будет первым.
Она хлебнула самогона, и тут же почувствовала его странный вкус. Дремота начала наваливаться на неё, она заваливалась на плечо механика и вскоре начала падать в чёрный колодец забытья.
Тогда механик аккуратно положил её на деревянную скамью.
— Я сразу понял, — сказал Мотя, — что дело нечисто. Да только зачем?
— Я догадываюсь — зачем, — мрачно сказал Командир. — Но дело не в этом — у меня нехорошие предчувствия. Дракон появился. Я чувствую Дракона, а это чутьё меня никогда не обманывало. Так что завтра будет очень трудный день. Все спим тихо и без фокусов.
Мотя с сожалением хлопнул бесчувственное тело девушки по какой-то округлости (сам не понял, по какой) и ушёл спать в танк, где уже ворочался мехвод. Командир расстелил спальник на земле и принялся смотреть в зорёвое небо.
Предчувствия его не обманывали, и времени до рассвета оставалось немного. Нужно было спать, но он не мог закрыть глаза. Это были звёзды его детства, и много лет назад он лежал так же, только дрожа от холода в своей мальчишечьей курточке, и смотрел в такое же небо, усыпанное жемчугом. Здесь, чуть совсем недалеко, был сделан его танк, и танк был немногим моложе его. Теперь они вернулись в то место, где оба родились, и где не было никаких следов прежней жизни.
Экипаж храпел, девушка спала беззвучно — он подумал, не пойти ли к ней. Но в этот же момент Командир услышал, как девушка мычит, просыпаясь. Пауза… Треснула ветка, другая — но уже тише, дальше — девушка, запинаясь, бежала прочь.
И он, перевернувшись на бок, сразу заснул.
Во сне он летел, будто вернувшись в детство, над городом — над зеленью парков, над садами и узкими улицами, заросшими каштанами, над рекой с полуобнажившимся дном. Он искал свой дом и не мог найти, но всё равно сон был сладким, как бывает сладок леденец в детстве, и светел, как летнее утро.
Он проснулся от того, что мехвод тряс его за плечо.
— Кажется, пора.
— Не торопись Ганс, — ответил он. — Не торопись. Тут вот какая штука, сегодня не надо быть первым, нужно быть вторым, а лучше — третьим. Третьим быть лучше всего. А староста уже подал знак, я чувствую, что подал — всё давно началось.
Они молча доели снедь, оставшуюся с вечера, мехвод выбулькал самогон в бак, а хозяйственный Мотя прибрал бутыли.
Так они и двинулись — в розовых лучах рассвета, мимо тихих домов, пустынной площади и дома старосты. Староста злорадно смотрел на них, сплющив нос об оконное стекло. Дочь жалась к стене, не рассказав ничего, но старосте хватило того, что платье её не порвано, а на теле нет синяков.
Староста смотрел в окно и смеялся над тем, что Победитель Драконов едет в другую сторону, а значит, длинным путём.
И танк, действительно, урча, лез в гору, поднимался по кривой, петляющей по склону и, наконец, оказался на самой вершине. Командир велел ждать, а сам стал глядеть в холодные глазки стационарного бинокля. Раз за разом он обшаривал оптикой горизонт — и вот, наконец, увидел то, что искал.
На горизонте поднимался тонкой струйкой дымок.
«Упокой Бог душу сына мельника», подумал он, и забыл и о мельнике, и о его сыне навсегда.
— Всё! Работаем! — крикнул он и не узнал своего голоса. Командир никогда не мог понять, как звучит его голос в этот момент, но именно теперь, как ему показалось, голос дрогнул.
— Штурман! Курс на дым, триста десять, десять! Держать курс, пошли.
Заревел двигатель, и они пошли вниз, набирая ход.
Но на равнине, миновав обгорелый остов трактора, они увидели ещё несколько воронок, в одной из которых лежал искорёженный мотоцикл.
Мотя восхитился:
— От ить, косоглазый — всех обставил. Жалко его…
Но косоглазый обнаружился живым и невредимым, и Мотя выдернул его из окопа-недомерка прямо на ходу, как морковку из грядки.
— Звать-то тебя как?
— Меня зовут Ляо. Я умею чинить электрические цепи, слаботочную ап…
— Молчи, парень, — прервал его Командир. — Сиди сзади, ничего не трогай, в телевизор гляди.
Ляо немного обиделся, но не подал виду. Он воевал с Драконами всю свою жизнь, и всю жизнь перед боем раскрывал потрёпанный томик Книги Перемен — сегодня был день перемен именно для него, и переменам нужно было подчиняться безропотно.
Он только сказал Командиру, что видел, как Дракон ушёл на север, но он, Ляо, знает, что Дракон всегда возвращается к месту победы после того, как сделает круг.
Его снова похлопали по плечу, и Ляо уже стоило труда не обидеться.
Внутри танка звучала песня, и Ляо вслушивался в неизвестные слова.
— А про что ваша песня-то, — спросил он у штурмана-радиста.
Мотя в первый раз замялся и ответил невнятно, оглянувшись на широкую спину Командира.
— Ну, знаешь… Это хорошая довоенная песня. Народная. Там девчонки пляшут, суженых зовут. Хорошая песня — казачья ещё.
It was already half past three
But the night was young and so were we,
dancing
Ney, Nah Neh Nah
Oh Lord, did we have a ball
Still singing, walking down that hall, that
Ney, Nah Neh Nah
О, лорд! — это Ляо понял. Это значило что-то про Бога. Раньше он воевал вместе с ирландским батальоном, пока ирландцы не прорвались на север, через минные поля. Ирландцы говорили похоже, часто восклицали «Лорд!», хотя может это и были настоящие казаки.
Но песня быстро кончилась.
Старый радар работал плохо, и прошло ещё много времени, пока они выделили из облака помех Дракона. Главнее было то, что Дракон заметил их.
Теперь всё стало простым, всё встало на свои места, как снаряды в автомате заряжания.
Дракон, завершая круг, шёл прямо на них. Его видели все — в перископах и телевизорах.
Ляо заворожённо смотрел, как Дракон, в сиянии ослепительного круга пропеллера над тушей и боевой подвеской под ней, прерывает разворот и выходит точно по их курсу. Маленький китаец не боялся ничего — он знал, что Перемена свершилась, и больше никто сегодня не умрёт.
Он, Ляо, не должен сегодня умереть, а значит, все те, кто подобрал его, будут жить. Ведь Дракон убьёт всех, если победит. Всех или никого. Так говорит книга, а книге Ляо верил.
— Ганс, готовься! На счёт два… — Командир начинал какой-то давно отработанный манёвр.
— Два! — и танк резко остановился. Ляо в последний момент уцепился за скобу, его бросило вперёд, но привязной ремень не дал ему разбить лицо.
Прямо перед танком встал столб огня и дыма. Дракон плюнул первый раз.
Мелькнуло наверху его жестяное брюхо и радужный гигантский круг над ним, но Командир уже орал:
— Мотя! Давай, давай, давай!
Танк вздрогнул от отдачи, с шорохом что-то слетело с башни, потом мгновенно повернулась сама башня, прижав Ляо к броне, и ухнула уже пушка.
— Ещё! Ещё вдогон!
Снова ухнуло. Ляо посмотрел в телевизор, но на экране был только дым. Танк стронулся с места и медленно начал выходить из облака дыма и пыли.
— Мотя, видишь засветку, видишь засветку, не спи, Мотя…
Ляо перестал понимать, что происходит. Ревел мотор, они мчались по степи, и время от времени клёкот Дракона наполнял воздух над ними. Ляо был спокоен и беспокоился только о том, как бы не разбить себе нос.
Вдруг танк тряхнуло, и над ухом у Ляо закричали тревожно. Было понятно, что что-то идёт не так, и вот Дракон снова вышел им навстречу, снова приближалась его туша, но экран перед Ляо был серым, полным мигающих точек и дрожащих линий.
— Мотя, я буду сам наводить, с пульта навожу…
Ляо увидел, как плывёт по ленте снаряд с прозрачной головкой, как переворачивается, исчезает в жерле, как вдруг воцаряется внутри тишина. Он слышит, как пощёлкивает какой-то прибор над головой.
И через секунду бронированный слон присел на задние лапы, дёрнув хоботом. Снаряд, вылетев из ствола, раскрыл крылышки, закрутил стеклянной головой — всего этого не слышит Ляо, только видит, как вдруг появился Дракон в телевизоре и прыгнул на Ляо.
Прыгнул и тут же снова пропал, превратившись в жар и грохот.
Даже под бронёй Ляо втянул голову в плечи. А танкисты заревели, как кабаны, кричат, разворачиваться нужно. Только не видно ничего, и вот Командир откидывает люк и лезет наверх.
Сзади лежит туша Дракона, пробегают по ней язычки пламени, а лопасти-крылья — тонкие, длинные — лежат куда дальше.
Командир внимательно посмотрел на ворочающегося врага, врага в последних судорогах, но для верности крикнул вниз:
— Ганс, Ганс, надо переехать ему хвост. Сдавай назад, я буду командовать. Левая стоп, правая полный, разворот, малый, ещё тише — вперёд.
Тяжело переваливается раненый боевой слон, и вот уже хрустит у него под ногами тонкая Драконья кожа, хоть и железная, да кто поборет слона на земле.
Это в воздухе Дракон силён, а тут он вышел весь, понемногу растворяется в огненном озере своей крови.
Командир почувствовал, как набухает внутри него счастье — здесь был его дом, и здесь он убил Дракона, круги замкнулись, образовывая важную геометрическую фигуру.
Если бы эти горизонтальные чёрточки и круги, что представил себе Командир, показать Ляо, то всё спокойствие слетело бы с китайца.
Но в этот момент что-то лопнуло в чёрной, объятой пламенем туше и вылетел оттуда тонкий острый осколок. Этот осколок влетел Командиру точно в горло, и он почувствовал, как воздух его родины проникает в него сразу с двух сторон, мешаясь с кровью. Он ещё успел сжать воротник рукой прежде, чем начал сползать вниз.
Танк тронулся с места и уполз подальше от места сражения — в овраги.
В деревне уже стоял шум. Старый священник лупил в рельс и приплясывал между ударами, как юноша, визжали свиньи под ножами, щебетали девушки, а мужики тормошили тех, кто видел, как умирал Дракон.
Только мельник выл, катаясь по полу, как собака, которой отрубили лапу.
Дочери старосты мать вплетала в волосы ленты, с тем же усердием, с каким хорошая хозяйка вставляет в рот жареному поросёнку метёлку укропа. Девушка сидела смирно, но вдруг поняла, что никто к ней не придёт. Она пыталась представить, как механическое чудовище остановится у ворот и на пороге появится Он — и не могла.
Она чувствовала, что теперь должна принадлежать ему как вещь, но одновременно понимала, что оказалась бесполезной — как ножны без меча. Но всё равно, она не прерывала свою мать, что хлопотала и суетилась над её телом, как над блюдом.
Экипаж отправился в путь только к вечеру.
Мёртвого Командира привязали тросом к моторному отсеку. Он лежал на спине и смотрел остановившимися глазами в небо. Ляо протянул руку, чтобы закрыть эти страшные глаза, но наводчик перехватил его за запястье:
— Не надо. Это его небо — пусть досмотрит.
Ляо ничего не ответил и полез внутрь. Мотя спустил ноги в люк, крикнул что-то вниз и перекинул тумблер на проигрывателе.
Танк двинулся прочь от деревни к ровной линии между степью и исчезающей солнечной долькой.
Командир, изредка качая головой, плыл под родным небом, в котором не было ни облачка, только полыхало красным в одном краю и накатывало фиолетовым с другого края.
Боевой слон пылил степью, держа на закат, и только угасала песня вдали:
It was already half past three
But the night was young and so were we,
dancing
Ney, Nah Neh Nah
Oh Lord, did we have a ball
Still singing, walking down that hall, that
Ney, Nah Neh Nah…
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
13 сентября 2015
(обратно)
Балкер «Валентина Серова» (День работников санитарно-эпидемиологической службы. 15 сентября) (2015-09-16)

Зерновоз «Валентина Серова» был под ними.
Он шёл, переваливаясь на волнах, но ровным курсом, и могло показаться, что судно совершает обычный рейс.
— А кто это — Серова? — спросил Вольфганг.
— Actress, — не вдаваясь в подробности, ответил Ванюков. — Soviet.
— Толстая? — переспросил коллега. Его русский язык часто приводил Ванюкова в замешательство.
— В смысле?
— Ну, это… Актрисы прошлого всегда либо толстые, либо худые. Теперь — только худые. А вот раньше всё по-другому. Раньше была Марика Рёк… И Мерлин Монро была толстая.
— А, ну в этом смысле… Нет, худая, кажется.
Ванюков снова посмотрел вниз, переговариваться сквозь шум в вертолёте ему нее хотелось.
Раньше в «Валентине Серовой» помещалось пятьдесят тысяч тонн зерна. В общем, она была довольно упитана, хотя большая часть груза давным-давно ушла по назначению.
Беда в том, что на ней не было экипажа.
Экипаж сняли с неё семь лет назад, но сухогруз не ушёл на дно, как собирался, а растворился в океане. Год назад его засекли снова, но начался шторм, буксировщик обрубил трос. Про блуждающий зерновоз писали журналисты. Это всегда поэтично — одинокий корабль с женским именем. Летучий Голландец, Мария Целеста, Королева океана, Звезда морей.
Корабль с тайной — это всегда интересно читателям.
Ржавый коричневый борт, русские буквы, запах скисшего много лет назад груза — это скучно. Кому нужны унылые подробности?
Ну и санация — в этом и вовсе никакой романтики.
Тут была главная проблема — никто не знал, что за плесень там развелась. Никто не знал даже, осталось ли там зерно. Кто его там клевал, кто ел. Всё это были материи унылые, с которыми нужно было поступать по инструкции, то есть, по многочисленным инструкциям.
Оттого в службе у Ванюкова никакой романтики не было.
Он был сотрудником Международной санитарной службы и смотрел на зерновоз «Валентина Серова» не из любопытства, а необходимости. За деньги он на него смотрел.
Если новый летучий голландец выкинется на французские скалы, то Служба должна гарантировать спокойствие местных жителей. Впрочем, три месяца назад, когда немецкое судно с фруктами село на мель в Азии, местные жители стремительно очистили трюмы, не боясь никаких инфекций. Коллеги Ванюкова залили пустые трюмы активной пеной и улетели. Но в этом и заключена разница между азиатскими странами и Европой.
В этот момент пилот сказал, что надо уходить: слишком сильный ветер. Они, мол, слишком, рискуют, лучше послать дрон.
Это Ванюкову понравилось — приятнее смотреть в экран, чем в иллюминатор вертолёта.
И они ушли над волнами к базовому кораблю Международной службы.
Действительно, на следующий день они увидели на палубе тени, мелькнувшие между надстройками. Увидел Вольфганг — он вообще отличался острым зрением и реакцией, он в своё время был чемпионом Берлина по теннису.
Ванюков так его и представлял: «А это — чемпион Берлина по теннису», и Вольфганг не мог понять, отчего после этих слов русские смеются, а остальные — нет.
Тени на палубе были стремительно пробегавшими крысами.
Это Ванюков понял, как дважды два. И, как трижды три, он понял, что крыс очень много. Они жировали на тоннах зерна, они плодились и размножались, они делили территорию. Потом они съели остатки зерна и начали есть друг друга. Крысиные матери нежно вылизывают своих крысят, но, не моргнув глазками, съедят самых слабых. О самцах и говорить не приходится.
А эти крысы совершенствовались все семь лет.
Теперь можно было бить тревогу.
Попросить французов вывести миноносец на позицию и утопить зерновоз на подходе.
Иначе «Серова» сядет на скалы и крысы рванутся к берегу — расширять ареал обитания. Ванюков понимал, что это могут быть совсем иные крысы, не те даже, с которыми борются в больших городах. Это будут крысы, что прожили семь лет на корабле, что скитался в открытом море. Они доедали остатки зерна в карманах грузовых трюмов, а потом ели друг друга.
Им было привычно убивать.
Они легко достигнут берега вплавь, чтобы там потягаться с мягкотелой фауной.
Однажды Ванюков видел, как крысы обитавшие на брошенном корабле, вылетели прямо из пенного облака. Корабль залили санационной пеной, но крыс она не уморила. Они лишь бросились прочь, и на пути у них встали овчарки эпидемиологической охраны. Ванюков тогда был молод, и его испуг — простителен. Однако сам начальник кордонного отряда пил весь вечер вместе с подчинёнными, чтобы отогнать прочь видение порванных в лоскуты собак.
Поэтому сюда придёт миноносец.
Или, если умники из финансового отдела сделают другие расчёты, и окажется, что истребитель дешевле, чем миноносец, то сюда санитарную зачистку проведут с воздуха.
Скорее всего, прилетит с восточной стороны «Мираж» и будет убивать бедную «Серову» своей ракетой.
Такого Ванюков не видел, но Вольфганг рассказывал, как, во время эпидемии гриппа звено дежурных самолётов уничтожило непокорный пароход. Пароход прорвал карантин, и, не разбираясь с причинами, с личностями и численностью пассажиров, его утопили.
Минуты за три.
Правда, тогда было военное положение, с приказами и правилами никто и не спорил — трагические случайности, вернее трагические необходимости всегда могут произойти. Ванюков не винил никого — наверное, он бы и сам нажал на гашетку. «Мы всегда считаем идеальным решение, когда выбрали меньшее зло», — подумал он. — «Никаких других выборов, кроме меньшего зла и не бывает».
Вольфганг сочинил тревожный отчёт, и центр Службы ответил немедленно.
Вместо истребителя к ним летел новый специалист по балкерам. То есть, по насыпным судам. Специалист экстраординарный, предупредил оператор службы.
И его надо было готовить к высадке на бродячий зерновоз.
Когда вертолёт сел на баке корабля Международной службы, Ванюков понял, что оператор не шутил.
К ним прилетел монгол.
Настоящий монгол, как говорили в детстве Ванюкова, «Монгол Шуудан». Что это такое, Ванюков не знал, но подозревал, что что-то неприличное. Оператор назвал настоящую фамилию, но запомнить её было невозможно.
Монгол был в островерхой шапочке и европейском костюме. Всего багажа у него был футляр чёрной кожи длиной в локоть.
Вольфганг недоумённо повернулся к Ванюкову и тихо спросил: «Он точно специалист по грузовым перевозкам?»
Тот пожал плечами, а про себя подумал: «Отчего бы монголу не быть специалистом по фрахту и морским путям. В мире всё перемешано, половина моих одноклассников живёт в Лондоне и Париже и получает там деньги за консультации о Трубе. Они ни разу не макнули палец в нефть, но все из неё сделаны. Они жрут и пьют эту нефть, пока я болтаюсь в море, охраняя их спокойствие, и спокойствие их друзей.
И так же, как они — в Москву, этот монгол наверняка прилетает в свой Улан-Батор и толпа родственников, которых он кормит, выстраивается вдоль дороги. Впрочем, я никогда не был в Улан-Баторе, и не поймёшь, по-прежнему ли он так называется.
Куда в прежние времена дошли монголы? До Будапешта? До Вены? Нас-то точно подмяли под себя».
Человеку в островерхой шапочке было велено оказывать всяческое содействие, «gehorchen» — пробормотал Вольфганг. Повиноваться, да, это было точнее.
Интуитивно пришельцу повиновались все — и даже живность на корабле Международной службы.
Ванюкову показалось, что он слышит тонкий писк, будто крысы вылезли из трюма поглядеть на монгола.
Но какие крысы могут быть на корабле самой Международной санитарной службы. Никаких крыс там не может быть по определению. У них и тараканов не было.
Монгол отчего-то не стал смотреть всё то, что наснимал дрон, и сразу ушёл в отведённую ему каюту.
Ночью Ванюкову почудилось, что Монгол Шуудан слушает музыку — какая-то унылая мелодия стелилась по коридору. Ванюков затаил дыхание — нет, показалось.
Утром волнение утихло, и Монгол Шуудан со степенностью Папы Римского погрузился в вертолёт.
Через пятнадцать минут он даже не спрыгнул, а сошёл на палубу ржавого зерновоза.
А ещё через полчаса «Валентина Серова», приняв вправо, начала набирать ход.
— Э, а как мы будем его снимать-то? — всполошился Вольфганг.
Вертолётчик разводил руками. Он рассказал, что, только коснувшись палубы зерновоза, монгол достал из своего футляра дудку и, под её переливчатый свист, скрылся в надстройке.
Ванюков и Вольфганг стояли друг напротив друга, готовясь ссориться. Кому-то надо было брать на себя ответственность за это безумие, а хотя они дружили давно, в такие моменты всегда ругались.
Но тут прибежал радист и позвал Ванюкова для разговора с базой.
Оказалось, что специалист по русским зерновым перевозкам обнаружился в состоянии безумия во Владивостоке. Никуда он не вылетал, никаких глупых головных уборов не носил, и по описанию вовсе не был похож на гостя в островерхой шапочке.
Там, наверху, в гигантской серой башне Международной санитарной службы, решали, что с этим делать.
Вернее, решали, как рассказывать миру о произошедшем — и, подумав, решили не рассказывать.
Ванюков смотрел в стык серого неба и серого моря и представлял себе, как корабль, ведомый этим крысиным Чингисханом, уходит прочь.
Тысячи крыс на поперечинах в трюме слушают своего вождя, будто сидя в опере.
А он рассказывает им об их предках, что шли из монгольской степи на запад, сея смертоносную чуму, и наполняли страну за страной. Он говорит им об их силе и гордости, о том, что особь — ничто, а народ — всё.
Он освежает их память.
Настоящему повелителю крыс никогда не были нужны ни деньги, ни глупые немецкие дети, он уводил крыс из города ради самих крыс.
«А так-то что», — подумал Ванюков, ворочаясь и разглядывая трещины в переборке — «Так-то у нас всё хорошо. Отчёт выйдет прекрасный, а лишних людей нам и вовсе не велели упоминать».
«Валентина Серова» уходила от французского берега прочь, под рваным одеялом облачности её потеряли даже лупоглазые спутники.
Её будто и не было, и на этом можно было успокоиться.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
16 сентября 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-09-18)
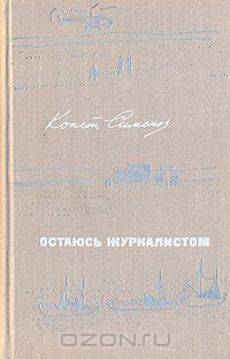
Есть такая забытая ныне книга Симонова "Остаюсь журналистом".
Это очень интересный феномен советских журналистов, которые собирали в книгу свои очерки и статьи.
Традиция эта, в общем, довольно давняя, и сейчас популярная персона распоряжается не только своими текстами, но и сценариями своих телепередач по безотходному принципу.
Но если сейчас это диктуется законами рынка, то в прежние времена этими сборниками управляли свои, особенныек законы.
Что тут интересного?
А то, что Симонов в эти годы (вернее, в части тех лет, когда писались эти очерки, находился в опале.
Автор не просто всенародно любимых стихов, а всенародно помнимых стихов, лауреат шести Сталинских премий, главный редактор "Нового мира" и "Литературной газеты" оказался жителем Ташкента.
Он, хоть и был специальным корреспондентом газеты "Правда" — должность очень сильная, но это всё-таки изменения радикальные.
В книгу, впрочем, вошли путевые очерки, написанные в 1958–1967 годах.
То есть, и те, что он написал, уже вернувшись в Москву.
Там есть истории про поездки на Север, Дальний Восток и, конечно, по Средней Азии. Но тут современный читатель делает неприятное открытие.
В большинстве этих журналистских материалов ничего интересного нет.
Это типовые газетные очерки, которые только и могли появиться в довольно скучной, хоть и влиятельной газете "Правда". То есть, да — одна статья в этом официальном органе ЦК КПСС, могла решить не только судьбу человека, но и целого учреждения или части территории страны. Но вот при этом (если не читать специальные указания между строк), оставалась газетой именно скучной.
Одни названия чего стоят — рядом с тем текстом, про который я хочу говорить — статья "Штрихи эпопеи".
Нужно сделать оговорку — у главных советских газет было разное назначение. "Правда" была, как я сказал, главным официальным органом, чем-то вроде списка приказов — и он в идеальной стране не должен вызывать развлекательного читательского, интереса, так тут и подавно.
То есть, это сборник отшлифованных несколькими слоями партийной цензуры текстов.
Да, можно было читать между строк или гадать по перемещению портретов о изменениях в Политбюро, но в остальном это вроде как требовать от приказа по полку литературных достоинств (в истории такие приказы бывали, но это, скорее, исключения).
б) как я уже говорил — очень жёсткая система согласований. И в газете, и в соответствующих отделах ЦК, и на местах, где собкор "Правды" был представителем Вот, кажется, главный редактор местной газеты должен был быть членом бюро обкома По-моему, и собкор "Правды" (это хорошо бы проверить). У Симонова было вообще особое положение, не знаю, входил ли он в республиканскую номенклатуру.
В результате — какая уж тут занимательность?
Наконец — происходило своего рода распределение ролей: "Правда" — партийная жизнь, "Известия" — жизнь общественная, "Комсомольская правда" — молодёжная с примесью путешествий Василия Пескова, ну и отдельно — "Труд", в котором кроме жизни профсоюзов как-то выбил себе монополию на НЛО, говорящие руины и проч.
Это, кстати, великая загадка, почему именно орган профсоюзов был самой жёлтой газетой.
Так что в "Правде" не только не были нужны писатели, они этому послевоенному стилю были противопоказаны (Эту ситуацию как раз хорошо сравнить с той, когда Ортенберг накануне войны, а вернее во время начавшейся необъявленной войны с Японией на Халхин-голе позвал в свою газету "Красная звезда" именно писателей и поэтов.
Не только писатели, но хорошо пишущие журналисты типа Аграновского и Дороша там были не нужны.
Итак, что очерки Симонова в этой книге вообще невозможно читать.
То есть, и так-то он не был в своей прозе похож на Бабеля и Олешу, но тут уж вообще язык лишён всякой индивидуальности.
Можно читать как раз только материалы, сделанные им для западных газет.
А они там есть, — к примеру, один текст, очень интересный — "Письмо господину Уиксу". Это не просто письмо, а очерк жизни в Ташкете, написанный Симоновым о его жизни в Ташкете — том Ташкенте, ещё до землетрясения.
Симонов пишет письмо-очерк главному редактору журнала "Атлантик Моксли" Уиксу и помечает его 2-м февраля 1960 года.
"Итак, дорогой господин редактор, я пишу Вам из Ташкента. На улице… — сейчас пойду посмотрю на термометр… — 2° ниже нуля. Вчера шел снег и дождь, сегодня идет только снег. А, впрочем, в прошлое воскресенье я ходил по городу в одном костюме, потому что было 18° тепла по Цельсию (пишу «по Цельсию», потому что с детства помню, что есть еще какой-то коварный Фаренгейт, из-за которого, читая книги о путешествиях, я долго считал, что есть мужественные люди, выдерживающие на своей шкуре все, что угодно — от точки кипения до абсолютного нуля). Зима в Ташкенте переменчивая, температура скачет как ей вздумается, в конце концов, редкий день обходится без солнца, которое и зимой бьет с неба, как палка; в общем, мне нравится здешняя короткая зима. Нравится она и моим двум дочерям: плохо ли выйдя утром в шубе и варежках, не оставлять надежды в середине дня, если погода разгуляется, бегать по улице в одном свитере!
Дом, в котором я живу, выстроен недавно — два года назад; я и мой сосед — первые жильцы в нем, — и стоит он довольно любопытно. Из моего кабинета на втором этаже в окно виден асфальт широкой улицы с трамваями, автобусами и потоком машин. Напротив, через улицу, — здание громадной новой типографии, которая, впрочем, уже задыхается от избытка работы. В Ташкенте несколько издательств, выходит очень много книг и на русском и на узбекском языке, и, когда ко всему этому летом прибавляются миллионы экземпляров учебников, прочие рукописи выстраиваются в издательствах в затылок друг другу.
Однако, если я скажу только про широкую улицу с автобусами и с типографией напротив, это будет неполная картина того, что я вижу. Дело в том, что я живу в так называемом «старом городе». В былое время Ташкент делился на старую, азиатскую, часть и новую — русскую. Сейчас эта старая «азиатская» часть города представляет собой интересное зрелище. Самые большие магистрали прорублены на много километров как раз через нее; причем, по некоторым из них с одной стороны тянутся современные дома, а с другой — прямо на асфальт, как морской прилив, выплескиваются глинобитные стены и заборы старых азиатских домиков и домишек.
Наша улица, которая потому, что на ней стоит типография, называется Полиграфической, тоже прорублена всего несколько лет назад; её противоположная сторона, в общем, уже вся застроена новыми домами. А на нашей стороне дело еще далеко не закончено. Дом, где я живу, стоит в глубине; в глубине стоит и другой новый дом, немного правее нашего. Предполагается, что здесь вдоль улицы протянется бульвар, будут тротуары. Но это только предполагается, а пока — не тут-то было! Между этими двумя новыми домами, прямо к трамвайной линии выходит большой глинобитный забор и стена старого, тоже глинобитного, дома. За забором несколько громадных абрикосовых деревьев, и хозяин всего этого — старик, родившийся на В этой улице и не особенно склонный уезжать отсюда в связи с реконструкцией города. Из-за его вылезающего к трамвайной линии двора на протяжении 200 метров нет ни бульвара, ни тротуаров. Прямая линия никак не получается, и у планировщиков, градостроителей, очевидно, душа болит по этому поводу. Но старик, поскольку его хотят переселить, по закону, имеет К право выбрать другой земельный участок по своему вкусу, получить ссуду, построить там дом и лишь потом переехать. И мой сосед справа не спешит; сначала он пересмотрел с десяток разных участков, и все ему не понравились. На это ушло года два. Теперь наконец он выбрал участок и, говорят, начал строиться. Иногда, проходя мимо его дома, я встречаюсь с ним. Судя по его виду, он по-прежнему не торопится…
А из левого окна моего кабинета виден старый город, со всей той путаницей, которую внесло в него время. Глинобитные домишки и встроенные между ними новенькие кирпичные коттеджи; улицы, залитые асфальтом, но извивающиеся при этом, как змея, которая сама забыла, где у нее голова и где хвост; их покрытие рассчитано на десятитонные грузовики, а ширина — на двух с трудом разъезжающихся ишаков. (Кстати, недавно принято очередное постановление об окончательном выселении этих животных из пределов Ташкента, но среди пожилых ишаков есть такие, что на своем веку читали уже не одно подобное постановление и, боюсь, что они выезжают теперь из города с надеждой возвратиться при первом удобном случае).
Во дворах домов стоят похожие на древние метательные снаряды круглые глиняные печи для печения узбекских лепешек — «тандыры», а в других дворах (а иногда и в тех же самых) стоят красные баллоны для газовых кухонь. Сейчас здесь по домам пока еще развозят заводской газ. Природный газ из Бухары обещают дотянуть до Ташкента весной. Осенью я видел в Самарканде, как там торжественно зажигали газовый факел по соседству с могилой Тамерлана. Сейчас, зимой, газ тянут как раз через так называемые «Ворота Тамерлана» — узкое ущелье между Самаркандом и Ташкентом, где, по преданию, некогда висели железные ворота, закрывавшие вход в самаркандские владения Тамерлана. Будущим летом или осенью красные баллоны, очевидно, исчезнут из дворов старого города…
Кстати, в кишлаках Ферганской долины сейчас можно наблюдать любопытное зрелище. Временные газораспределительные линии идут вдоль улиц по глиняным дувалам — деревенским заборам. Трубки с газом — с краниками на конце — подведены во дворах прямо к старинным «тандырам», где пекут лепешки. Обычно женщины пекут лепешки на традиционном топливе пустыни — саксауле, но даже старухи говорят — а им надо верить, — что на газе лепешки получаются ничуть не хуже.
А что же все-таки самое заметное в старом городе, если возвратиться к нему? Самое заметное — зелень. Каждый глиняный двор старого города напоминает горшок, набитый зеленью так, что она лезет во все стороны за его стенки. В каждом дворе — виноград, абрикосы, персики — ровно столько зелени, сколько только может влезть. Сейчас зима, и это не так очевидно; над заснеженными крышами торчит только густой лес голых веток.
Но в марте все это будет розовым от цветения, в апреле — зеленым, а в июле будет казаться, что все эти глиняные заборы вот-вот лопнут от напора зелени.
Наша семья, между прочим, не выдержала. Кругом зелень — а мы что же? И на маленьком, огороженном кирпичным забором пустыре позади нашего дома, когда остававшийся после строительства мусор был вывезен, земля была перекопана и посажены деревья: две груши, две черешни, три персика, два абрикоса, два сиреневых куста, двадцать кустов роз — это из многолетних; ну и разные быстро прущие вверх здесь, на юге, однолетние цветы и растения, включая касторку, подсолнечник и кукурузу. В общем, к июню прошлого года дворик у нас был уже зеленый. А на одном дереве было даже 15 штук абрикосов (впрочем, жена говорит, что я, как всегда, преувеличиваю). Кроме того, у нас во дворе, как и во многих дворах старого города, есть маленький бассейн, или, как говорят здесь, «хауз». Здесь любят воду и понимают в ней толк, умеют в жару всегда найти такое место над водой или около воды, чтобы было хоть чуть-чуть попрохладнее, чем во всех других местах. Именно там и пьют чай, там и готовят плов. Причем, если это опытные люди, то непременно ухитрятся так усесться, чтобы хоть с какой-то стороны продувало. На этот счет есть даже специальное узбекское выражение: «найти ветерок».
Вот и мы вырыли у себя во дворе такой хауз, выложили его кирпичом, обмазали цементом. Но так как моя младшая дочь — человек крайне недисциплинированный, то хауз пришлось сделать неглубоким. Когда мы его делали, то я сначала посадил ее на землю и смерил сантиметром — сколько будет от земли до её подбородка, так, чтобы она не могла захлебнуться даже сидя. По этой мерке мы и вырыли хауз. Но с тех пор дочь здорово выросла, и теперь мы, пожалуй, сможем углубить хауз еще сантиметров на десять.
Кстати, то, что я пишу, имеет отношение к Вашему вопросу, мой дорогой редактор. Помимо всего прочего, мне нравится здесь жить потому, что, хотя я, в общем, довольно много сижу за письменным столом и много езжу, у меня остается здесь время и для того, чтобы заниматься такими вещами, как этот хауз и абрикосы.
Вещи, конечно, несерьезные, но, когда человек утрачивает способность выкраивать на них время, это довольно серьезно портит его жизнь".
Вот никто, кроме меня не видит в этом тексте интонации стилизованного Хемингуэя?
Меж тем, в конце там вообще говорится: "Это было в первые полгода моей жизни здесь, в начале июня 1958 года. Мы ехали на двух вездеходах через южные Каракумы, вдоль трассы тогда еще не законченной первой очереди Южно-Каракумского канала.
Наши машины качало по песчаным горбам так, словно мы ехали на двугорбом верблюде и нас каждую секунду перекидывало с одного горба на другой.
Из песка торчал только саксаул и высокие белые, как свечки, бескровные ядовитые грибы.
Было так жарко, что даже ящерицы не вылезали на солнце. И вот наконец где-то часам к шести мы добрались до воды. Мы все время ехали ей навстречу; впереди воду уже пустили в канал, но она сперва пошла, а потом отступила километров на сорок.
И там, где несколько дней назад текла вода, среди песчаных холмов остались маленькие стоячие озера, при пятидесятиградусной жаре высыхавшие с катастрофической скоростью — на полметра в сутки.
В эти маленькие озера из Аму-Дарьи успела зайти рыба, и мы, выбравшись из своих вездеходов, стали ловить её и наловили за час — хотите верьте, хотите нет — два мешка. Засунув их в багажники машин, мы поехали дальше и вскоре на месте ночлега, разбив лагерь на большом песчаном горбе, сварили на костре несколько ведер ухи. Уже темнело, жара вдруг схлынула, и мы с наслаждением пили горячую уху из стеклянных банок из-под консервированного компота, а вынутая из ухи рыба, дожидаясь своей очереди, дымясь, лежала на листе фанеры — у нас не нашлось ничего другого, на что бы положить её.
В тот вечер мы, наверно, были одними из первых людей, евших рыбу в самом центре Каракумов. Небо было полно звезд, над пустыней стояла абсолютная тишина, а ночной холод был таким резким, что в него трудно было поверить после жары, измучившей нас за день.
А утром, когда сначала порозовел песок и только потом начало розоветь небо, вокруг холма, на котором мы спали, не столько вокруг нас, сколько вокруг нашей недоеденной рыбы, все было опоясано жадными и нерешительными лисьими следами…"
________________________
Симонов К. Остаюсь журналистом. — М.: Правда, 1968. С. 125–129.
Там же, 143–144.
Мне скажут, что журнала "Атлантик Моксли" не бывает, что это The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly) — так я этим маловерам специально картинку показываю. У них не бывает, а у нас бывает.
Извините, если кого обидел.
18 сентября 2015
(обратно)
Русский лес (День работника леса. Третье воскресенье сентября) (2015-09-19)

В пятницу я получил новую форму. Мама подглядывала в щёлочку двери, как я по-мальчишески кривляюсь перед зеркалом, примеряя зелёную фуражку с дубовыми листьями на околыше.
А в понедельник я уже ехал на место своего нового назначения. Колёса весело стучали, солнце всё катилось и катилось в вагонном окне, никак не в силах коснуться горизонта. Поезд забирался всё севернее и севернее, в таёжный край, как жучок-древоточец лезет ближе к центру ствола. Лесной институт стал прошлым, а зелёная форма — настоящим и будущим.
Перед тем как пойти спать, я пел на тормозной площадке (вагон оказался последним) гимн Лесной службы — ты сам по себе — никто. Ты всего лишь лист в могучей кроне. Но все вместе мы — корни и сучья, вместе мы составляем дерево… Гимн был неофициальным, но отцы-командиры обычно закрывали глаза на его хоровое исполнение. Предчувствие будущего счастья переполняло меня — я ещё не знал, что это за счастье, но уже верил в него. Ведь такую войну пережили… А теперь перед нами только сияние возвышенной жизни.
Меня встретили на станции, и резвый «виллис», кутаясь в облако пыли, повёз меня сквозь тайгу к лесхозу. У меня дважды проверили документы, мы пересекли две контрольно-следовые полосы, и наконец я ступил на землю Лесного хозяйства с пятизначным номером.
По этому номеру, просто на почтовый ящик, п/я 49058, будут теперь идти письма от матери и сестры. Больше не напишет никто.
Бросив чемодан, я пошёл представляться к директору. Меня уже ждали, и вот я ступил на ковровую дорожку в огромном светлом кабинете.
Всё тут было как во всяком кабинете — стол с зелёным сукном для совещаний, бюст товарища Сталина в углу, красное знамя на стене. Но было и несколько странных предметов: я посмотрел на гигантскую деревянную скульптуру — это была носовая корабельная фигура, изображавшая человека в костюме, с саженцем в руке.
— Министр Леонов, — перехватил мой взгляд директор. — Собираются построить лесовоз его имени, а пока вот передали нам на ответственное хранение.
Леонов был великий человек — у нас в актовом зале института даже висел транспарант с его словами: «Весь живой зелёный инвентарь есть громадный озонатор, гигиенический фильтр-уловитель из воздуха — газов, копоти и прочих примесей, вредных для общественного здоровья; следовательно, это и есть дополнительный источник сил и задора». На первом курсе мы учили это, как мантру.
Ещё в кабинете у директора стоял бонсаи. Впрочем, это было одно название — в маленьком горшке на подоконнике росла простая русская берёза. Только очень маленькая.
— Знаете, зачем нужны малорослые деревья? — директор не ждал моего ответа. — Малорослые деревья нужны для того, чтобы насладиться и общим видом дерева, и его мелкими деталями. Вы ещё молодой человек, но скоро поймёте, что в созерцание большого дерева невозможно включить одновременно и рассматривание отдельных листьев, и ствола и корней, уходящих в землю, и вид дерева целиком. Поэтому мы взяли в качестве трофея у немецких фашистов их ракеты, а у японских милитаристов — практику выращивания бонсаи, только, конечно, деревья у нас наши, родные.
В кабинет вошёл подтянутый офицер-лесник, и я понял, что это мой будущий наставник.
Савелий Суетин был красив, как человек с плаката, его лицо не портил
даже тонкий шрам от уха к подбородку. Китель украшали два ряда орденских планок — я сразу понял, что он воевал и что рядом со мной настоящий герой. Мы пожали друг другу руки, и Суетин повёл меня устраиваться на новом месте.
Меня поселили в новом, пахнущем сосновой смолой общежитии, и даже выделили отдельную комнату. Суетин сводил меня в музей, где лежали поднятые с глубины огромные окаменевшие деревья. Агатово светились их неровные обломанные стволы. На одной из фотографий я опознал нашего директора, стоящего рядом с гигантским мамонтовым деревом — он был в чужой военной форме, и я сразу понял, что это свидетельство тайной секретной командировки.
Над портретами лучших работников висел лозунг, составленный из кривоватых, но заботливо вырезанных фанерных букв: «Товарищ! Растекайся мыслию по древу! По мысленному древу — вперёд!» Справа значилось «Боян», но цифры идущей далее даты отвалились. Судя по шрифту, стенд висел ещё с довоенных времён.
Тут же, изображённое каким-то народным умельцем, висело Мировое древо, больше похожее на баобаб, который выращивал Маленький Принц. Ночью мне приснилось другое Мировое Древо, такое же маленькое, как бонсаи, то есть кустик-малорослик в кабинете директора.
Я изучил настенный план лесхоза. Там были запретные даже для меня зоны — например, яблоневый сад, на посещение которого требовался специальный допуск, а были и места общего отдыха — такие, как Берендеева роща. Был и Лес памяти Павших Героев, со статуей серебряного солдата в шинели и каске, куда мы потом приходили возлагать венки и жертвенные еловые лапы. На территории было много и других памятников — пионер со скворечником, пионерка с лейкой и молодая комсомолка с лопатой, которую она держала, как весло. Был и комсомолец верхом на лесном плуге, а также — Мичурин с секатором.
Больше всего мне понравился памятник дятлу, что стоял неподалёку от здания музея. Электрифицированного дятла можно было включить специальной кнопкой на столбе, и тогда он начинал стучать, как настоящий.
Наставник указал на него пальцем:
— Помни, если стучит дятел, то он стучит по тебе. Это ведь значит, что дерево заселено короедом-вредителем. А если увидал под ногами опилки или буровую муку, значит, потерял дерево. Одним боевым другом у тебя меньше. Если опала кора, то погиб твой друг, плачь о нём…
О чём — о чём, а о вредителях знал мой наставник всё.
Два дня на меня оформляли документы, а на третий Суетин повёл меня получать личное оружие и представил новым товарищам.
Коллектив был крепкий, давно сложившийся, и я понял, что я понравился этим суровым борцам за чистоту русского леса.
Зарядили дожди. Я всегда любил эту погоду — эти дожди скоро кончатся, а за ними настанет пора сухой и прохладной осени, времени спокойствия и рассудительности.
А пока потекли быстрые, наполненные трудной, но приятной работой дни. Я ездил на дальние кордоны, маркировал деревья для санитарных порубок и составлял планы подкормки лесного народа — от белок до огромных добродушных лосей. Но я понимал, что не для этого меня специально отбирали, проверяли и, наконец, назначили мне это место службы.
Но я стал маленьким винтиком, листиком, веточкой, частью огромного организма и не должен был спрашивать лишнего. Я солдат эволюции, маленькая деталь биоценоза, и в этом я находил своё предназначение.
И вот, хорошенько приглядевшись ко мне, старшие товарищи решили, что я годен для настоящего дела.
Как-то утром на разводе Суетин забрал меня с собой, и мы поехали к зданию лесной шахты. Я давно понял, что этот день настанет — и вот он пришёл. Пока клеть опускалась вниз, я глядел на Суетина с восторгом.
Это мой день свидания с Мировым Древом — именно ради него и был организован сколь знаменитый, столь и секретный лесхоз. Великие сельскохозяйственные академики, лишённые фамилий, годами пестовали Мировое Древо — и сотни неизвестных стране лесников подкармливали почву, рыхлили землю, снабжали Древо удобрениями, холили и лелеяли этот святой для всякого гражданина символ нашей мощи. Через шахту, знал я, они имели доступ к каждому корешку Мирового Древа, заботливо поили их водой, вентилировали и удаляли вредителей.
Но свидания с корнями Мирового Древа в первый день, как и в последующие, не вышло.
Пару месяцев я работал на рыхлении и подводе кислорода, но настал и тот день, когда Суетин повёл меня на нижний горизонт. Мы шли по широкому тоннелю, облицованному кафелем, и вдруг резко повернули. От неожиданности я схватился за стену и понял, что под рукой не кафель, а тёплая, похожая на кожу поверхность. Суетин с улыбкой смотрел на меня, а я смотрел на Корень, что образовывал одну из стен тоннеля. Гладкий и приятный на ощупь, он уходил в бесконечность параллельно цепочке электрических ламп на потолке. Невозможно было даже оценить его толщину — корень не выгибался внутрь, а просто был неровен, бугрист и похож на бок гигантской картофелины. Савелий благоговейно погладил этот бок, и я тоже — за компанию.
Вечером, после смены, Суетин пришёл ко мне с большой растрёпанной книгой. Он эффектно хлопнул по корешку, и книга раскрылась на нужном месте: «А рядом лес густой, где древний ствол
был с головы до ног окутан хмурым хмелем…».
— Это товарищ Хлебников, — пояснил Савелий. — Он был лесником всего два года, в самых тяжёлых местах — на юге, у Каспия. Не выдержал, ушёл в бега, а потом погиб. Хмеля нужно в меру, вот что я тебе скажу, потому что в нашем деле важна трезвость и точность. Мы ничто — но Дерево… Дерево — всё. Мы, работники службы леса, похожи на жучков, что ухаживают за корнями. Есть жуки полезные, а есть… Но мы будем их давить, пока не додавим всех.
Я представил, как Суетин, угрюмо сопя, давит их — и Елового Лубоеда, и Сибирского Шелкопряда вкупе с Шелкопрядом непарным, и даже Чёрного Усача, — и мне стало не по себе.
Действительно, больше всего неприятностей нам доставляли жучки-древоточцы. Я сам не видел ни одного жучка, но Суетин утверждал, что спецотдел обнаруживает минимум полдюжины за месяц. Говорили, что американские самолёты-суперкрепости, пройдя на огромной высоте над Северным полюсом, открыли свои бомболюки над Лесхозом и специально сбросили тонны древоточцев над нами. Впрочем, я никогда не специализировался на древоточцах — разве как-то стоял в оцеплении, когда ловили Ясеневого Пильщика.
Я работал с техникой на глубоких горизонтах и даже не каждый день видел корни Древа.
Как-то у нас произошёл обвал — осели тяжёлые грунты, и отрезанным лесникам пришлось выбираться через вентиляционные штреки.
Мы с Суетиным блуждали до ночи и вылезли из шахты прямо в саду у запретной зоны. Сад был яблочный, небольшой и очень уютный, но Суетин отчего-то ужасно испугался. Мы выбрались за оградку, и Суетин настоял, чтобы я говорил, что мы вылезли из восьмого штрека, а с отчётами он как-нибудь сам разберётся.
Из дома писали ободряющие письма, сестра говорила, что все мои однокашники завидуют, а соседка по коммуналке так вообще сдохла от зависти, узнав, что я перевёл половину своего денежного аттестата матери. Я догадывался, что таких денег женщина не видела сроду. Но иногда странный жучок неуставного интереса заползал в мою душу — мне просто было интересно, каково оно, само Мировое Древо, которому я посвятил свою жизнь.
Старый профессор Грацианский и вовсе сказал нам как-то после лекций, в курилке, где он дымил на равных вместе с нами, что мы вообще не можем угадать, как выглядит Древо. Я часто думал о случайно обронённых словах профессора. Мысль, что Мировое Древо растёт как хочет, я встречал и у классиков — тут не было никаких открытий.
В десятках учебников мы, курсанты, видели размытые фотографии корней Древа, но я понимал, что корни корнями — но дерево может оказаться совсем обычным. От размера ничего не зависит.
Ну, будет это просто большое дерево, хотя я знал, что больше ста тридцати метров в высоту дерево вырасти не может — соки не дойдут по капиллярам до кроны. Но и в сто метров высотой дерева на горизонте не обнаруживалось.
Да, это мог быть бонса… то есть, малорослик, стоящий в специальной сторожке, но только малорослик могучий, раскинувший свои корни на сотни километров, как диковинную грибницу. Но именно для того была придумана присяга студентов Лесного института, чтобы они понимали: есть такие вопросы, на которые не отвечают. Потому что, собственно, их никто не задаёт.
Неважно, как выглядит Мировое Древо. Важно только то, что ты маленький солдат его армии, боец, помогающий Древу бороться с вредителями, случайными отклонениями погоды и опасным движением грунтовых вод. «Ты знаешь только свой участок и счастлив выполнить любую работу», — повторял я снова и снова.
Настал День работников леса.
Мы расселись в кинозале, надев парадную форму. Звенели медали, и сияли золотом погоны.
Вышел директор и без бумажки, от сердца, сказал приветственное слово.
— Мы, товарищи, здесь как на войне. На войне за наше будущее, — он сделал паузу. — А грозен наш народ, красив и грозен, когда война становится у него единственным делом жизни. Лестно принадлежать к такой семье. Хорошо, если Родина обопрется о твое плечо, и оно не сломится от исполинской тяжести доверия, как тонкая берёзка…
Я чувствовал, что праздник сравнял директора и его армию — от лесничих до простых лесников.
После праздничного концерта самодеятельности (жёны лесников разыграли спектакль, и даже сам директор спел пару песен, аккомпанируя себе на баяне) началось застолье. Мы сильно пили, и, притворившись пьяным, я пошёл вздремнуть в кусты. Однако из этих кустов я достаточно быстро вылез с другой стороны и припустил в направлении яблоневого садика. Я давно догадался, что именно там растёт Симиренко-50, яблоня познания.
Сигнализации у калитки не было, и часовых рядом — тоже.
Не дав себе подумать о будущем и испугаться, я сорвал нужное яблоко — большое и круглое. Оно легло в ладонь, как пушечное ядро. Оглянувшись, я проверил, не следит ли кто, и откусил. Удивительная горечь наполнила рот.
Я побрёл домой на заплетающихся ногах, хотя стремительно трезвел. Вся моя жизнь представлялась мне теперь ошибкой, а окружающая действительность — адом.
Никто ничего не заметил — так мне показалось. И мой дурной вид списали на похмелье.
Но теперь несколько мыслей не оставляли меня — и все они были связаны с Мировым Древом. Каково оно? Куда растёт? Какова его форма?
С одной стороны, каждый из нас знал, как оно может выглядеть, но только избранные видели его. А, может, и они только догадывались?
Давным-давно, в институтской библиотеке, я читал старую книгу, где говорилось, что Мировое Древо растёт не вверх, а вниз. Я давно забыл и автора, и название книги, но слова о том, что дерево может расти не вверх, а вниз, мне запомнились навсегда. Как это могло быть, у меня не укладывалось в голове — но как-то могло.
Я разглядывал в музее лесхоза нанайские свадебные халаты и видел на них деревья плодородия. Эти деревья росли в облаках, в царстве женского духа, причём у каждого рода было своё дерево, на ветвях которого сидели души нерождённых людей, больше похожие на птичек. Деревья в облаках переплетались, птички порхали, чтобы потом обрасти настоящими перьями и спуститься голубями прямо к ждущим потомства матерям.
Но всё же воздушные деревья меня не занимали. Куда больше будоражили душу слова «Атхарва веды»: «С неба корень тянется вниз, с земли он тянется вверх» или: «Наверху корень, внизу ветви, это — вечная смоковница».
На одном из столов в институтской библиотеке были вырезаны слова старого русского заговора, которые я запомнил: «На море на Океяне, на острове, на Кургане стоит белая берёза, вниз ветвями, вверх кореньями». Теперь всё шло в дело, я попробовал и это, но пока это были только намёки.
С нами вместе учились два плосколицых парня с Крайнего Севера, где деревьев, как я думал, не было вообще. Но оказалось, что у них по разные стороны шаманского чума ставили два дерева — одно из них символизировало древо Нижнего мира и росло ветвями вверх, а другое, ветвями вниз — древо Верхнего мира.
Я принялся их расспрашивать, но плосколицые мало рассказывали об этой конструкции мира. Она не вписывалась в официальное представление о Мировом Древе, да и весь Нижний мир был перевёрнут и крив, зеркален относительно дома Верхнего, но удивительно похож на наше бытие. А кому понравится жить не то в Нижнем мире, не то в отражённом.
С тех пор я начал прикидывать трехмерную конструкцию и пытаться в уме построить карту Корней Древа.
Каждый день, путешествуя по шахте, я мог примерно угадать направление и расстояния перемещения. Корни Древа залегали очень глубоко, но это, повторяю, ничего не значило.
В институте я читал не только Докучаева с Морозовым и по памяти нарисовал как-то прутиком на песке стандартную двухкоординатную мандалу с вписанным квадратом, только для простоты расположил по краям ацтекские символы — красного бога востока, синего бога севера, зелёного бога юга и коричневого западного божества. Всё время выходило, как в «Гильгамеше», что надо выйти на четыре стороны, то есть непонятно куда.
Морочье русское заклинание помогло не больше: «На море на Океяне, на острове Буяне стоит дуб… под тем рунцом змея скоропея… И мы вам помолимся, на все на четыре стороны поклонимся»; «… стоит кипарис-дерево…; заезжай и залучай со всех четырёх сторон со востока и запада, и с лета и сивера: идите со всех четырёх сторон… как идёт солнце и месяц, и частые мелкие звёзды. У этого океана-моря стоит дерево-карколист; на этом дереве-карколисте висят: Козьма да Демьян, Лука да Павел».
Я как-то застал Суетина в печали (кажется, он получил какую-то дурную весть из дома). На столе в его комнате стояла бутылка водки и неровно вспоротая банка свиной тушёнки. Мы выпили, и он, разговорившись, случайно приблизил меня к разгадке:
— Ты не понимаешь, дело не только в том, что Древо держит корнями землю, не давая ей распасться. Дерево — это такой генетический код Земли — тут, гляди, если взять, например, «три» — три части дерева — корни, ствол и крона. Поэтому всегда в сказках три героя, три попытки, три брата едут за красавицей… Мировое Древо — это и Мировая Энциклопедия, и Мировая Счётная машина. Вот если взять четвёрку, то есть четыре стороны света, четыре времени года и четыре начала мира — то ты увидишь, что она неравноценна, на северной стороне Древа по другому располагаются годовые кольца (впрочем, сейчас это смотровое дупло заделали, но поверь мне на слово), на южной стороне можно попасть в страну мхов, «Семь» — это «три» плюс «четыре» — семь ветвей семисвечника. У каждой ветви двенадцать сучьев… Это и живой арифмометр, и живой Информаторий…
Тут его повело, голова свесилась на грудь, и он, как был, завалился на койку. Я снял с него китель, сапоги и тихо ушёл.
Благодаря невольной подсказке, с помощью счёта по три и по четыре, я усовершенствовал мандалу, которую каждый раз рисовал на песке в роще, а потом затирал ногой, чтобы не осталось следов. Стройная геометрия Мирового Древа и направление его роста становились мне понятнее. Но невероятный вывод, к которому я пришёл, нужно было проверить.
Несколько месяцев я ждал, чтобы на меня выпало дежурство на северном горизонте, где подземные ходы были самыми глубокими.
Они уходили настолько далеко от поверхности, что там приходилось пользоваться дыхательными аппаратами. Но когда появился этот шанс отправиться в самостоятельное путешествие, оказалось, что со мной контролёром навязался Суетин.
Мы спускались в шахту, балагуря, хотя на душе у меня скребли кошки. Суетин смотрел на меня строго, но позволил вести вагонетку. Она весело стучала колёсами на стыках, точь-в-точь как поезд, что привёз меня сюда три года назад.
Я повернул рычаг, и вагонетка ушла в сторону от маршрута. Казалось, что Суетин ничего не заметил, но когда мы отъехали достаточно далеко, железные пальцы вцепились в моё плечо. Я почувствовал, как он выдирает из кобуры табельный пистолет.
Завязалась скорая и неравная борьба, но, на моё счастье, вагонетка в этот момент перевернулась. Её тяжёлый край придавил Суетину ногу. Черный пистолет отлетел далеко, и Суетин не смог до него дотянуться.
Лицо моего наставника побелело. Суетин явно боялся за свою жизнь, и было видно, что он пытается просчитать варианты — запугивать меня или льстить, подманивать или обещать что-нибудь.
— Не уходи.
— Не могу остаться, товарищ Суетин. Жаль, конечно, что так обернулось, но радиомаяк у вас работает, а это значит, что через три часа придут за вами и спасут. А вот у меня времени в обрез.
Я кривил душой, зная, что никто по моему следу не пойдет.
— Опомнись, сынок. До беды недалеко, — он снял фуражку и утёр вспотевший лоб.
— Вы, товарищ Суетин, ещё бы про Особый отдел вспомнили.
— Что тут вспоминать. Я и есть — Особый отдел, я. Не понял, что ли? Я, я! Я целый год за тобой следил, на карандаш брал, дурака пьяного изображал, да вот не знал, что жизнь так обернётся. А пока нам надо сидеть, да ждать, как за нами придут. Слышишь? О матери подумай! Я на тебя рапорт подам! — сорвался он в крик.
Но мне уже было всё равно. Я оставил Суетину флягу с водой и пошел, согнувшись, по штреку. Воздух в тоннеле изменился, он перестал быть спёртым, казалось, его стало больше. И это подсказывало, что я близок к цели. Я сорвал дыхательный аппарат и бросил его под ноги.
Вскоре идти стало невозможно, и я пополз, извиваясь, как червяк, подсвечивая себе фонариком. Наконец я начал двигаться головой вниз, и вот я очутился перед земляной стеной. Сразу было видно, как она непрочна. Я остановился, чтобы передохнуть — осталось последнее усилие. Я шёл к этому мгновению так долго, что последние несколько минут можно было растянуть, как последнюю сигарету. Что там, в ином мире? Откуда мне знать.
Мосты сожжены. Если даже я свалюсь в пропасть между трёх китов, то не буду жалеть, что сделал этот свой главный поступок в жизни.
Древо растёт вниз, но это низ только для нас, а на самом деле его ствол поднимается вверх в другом, зеркальном мире.
И я ударил кулаком в тонкую земляную перемычку.
Странный белый свет залил лаз.
Я вздохнул, набрался храбрости и высунул голову наружу.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
19 сентября 2015
(обратно)
Пятницкая, 13 (День туриста. 27 сентября) (2015-09-29)

Раевский остановился перед дверями, и тут же его захлестнуло возмущение: почему никто не предупредил, что тут код? Он посмотрел вокруг в поисках кнопки звонка, камеры наблюдения и тотчас вспомнил, что телефон разрядился ещё днём, а жизнь не удалась гораздо раньше.
Никто не сказал ему код, а он сам не догадался спросить, когда договаривался с этой офисной дурочкой.
Раевский поехал выкупать Мальдивы для своей тёщи — именно так это называлось: «выкупить Мальдивы». И тёща будет его ждать вечером с этой смешной папочкой, паспортами и билетами.
Тёща была шумна и пузата, как тульский самовар.
В праздники она надевала трудовые медали, и сходство становилось разительным.
Но по своим делам тёще было ездить невозможно. Сегодня у неё были массаж и клуб, а плативший за всё Раевский должен был избыть свою епитимью до конца. Сам-то он поедет в это же время в другом направлении, в полном одиночестве, на которое имел право. Он поедет в Европу.
Места были ему давно знакомы — лет десять назад рядом, на Болотной площади в старых домах, дослуживала на скромной канцелярской должности его мать. Часто Раевский заходил за ней и однажды увидел, что в этом дворике несколько татар жарят баранину в огромном казане. Пахло югом, терпкими травами, и трещали под казаном дрова. Рядом был Кремль, часы на Спасской башне мерили время первичного накопления капитала, слышно было, как через Большой Каменный мост, сигналя и ревя сиренами, несутся лаковые автомобили, а тут последние татарские дворники справляли свой праздник.
В тот год было жаркое лето, лето дефолта, а теперь стоял чистый и промытый холодной водой март президентских выборов. И здесь, на шумной Пятницкой, всё давно переменилось.
Он сначала ткнулся в дом под верным номером, построенный когда-то Шехтелем, но там оказался меховой магазин, и Раевский, стоя перед витриной, некоторое время тупо сличал адрес на бумажке с вывеской. Нет, явно было не сюда, и он сделал несколько шагов в сторону, обошёл ларёк (пахнуло утробным сосисочным духом), перекинул ногу через ограждение палисадника и ступил на раскисшую землю. В углу, под тусклой лампочкой, он нашёл дверь без вывески, и тут тоска подступила к горлу.
На двери был кодовый замок — и более не было на ней ничего: даже ручки. Спутанный клок проводов вёл куда-то вверх, за узор чугунной решётки, ветер пел в жестяном козырьке, но звонка не было. Он стукнул в дверь, но ответил ему только вой пожарной сирены — откуда-то издалека.
Вечерело, рабочий день конторского люда заканчивался, офисная плесень перелезла через края своих стеклянных банок и двинулась по улицам. Вот сейчас уйдёт и туроператор Нина, а Раевский, единственный неподвижный персонаж Пятницкой улицы, стоял перед запертой дверью.
Он чертыхнулся — место было проклято своим номером, день был проклят пятницей, и только Раевский сунул руку в карман за телефоном, как сразу вспомнил, что электронный зверёк умер.
Внезапно дверь отворилась, и навстречу ему вышла женщина с ведром. В мыльной плоскости воды плавал мальдивский остров тряпки. Раевский придержал дверь и, ни слова не говоря, проник внутрь.
Он прошёл по чисто вымытому, но бедноватому коридору — сочетание линолеума и деревянных косяков — и уткнулся в стол вахтёра.
Сквозняк из открытой форточки перебирал ключи на гвоздиках. Журнал прихода и ухода мрачно приглашал расписаться.
Но вахтёра не было. Не было никого — только включился где-то автоответчик, забормотал извинительную речь и заткнулся.
Раевский сверился с бумажкой и отсчитал третью после вахты дверь по левой стороне. Дверь, впрочем, была новая, жёлтого полированного дерева. Она беззвучно распахнулась, и Раевский увидел классический вид типового канцелярского рая. И здесь было пусто — только хрюкнул вдруг факс в углу и наблевал на пол длинным бумажным листом.
Всё это Раевскому уже совсем не понравилось
— Нина! — громко сказал он. — Нина! Где вы? Я вам звонил…
Никто не ответил, только за следующей дверью раздался странный звук, похожий на скрип телеги.
— Скрип-скрип, — сказали за дверью, и Раевский ступил внутрь. Там было темно, а когда он нажал на клавишу выключателя, лампочка под потолком вспыхнула, ослепив его, и тут же погасла.
Однако фонарь за окном освещал помещение ярким медицинским светом.
Перед Раевским был пустой зал со сдвинутыми к стенам стульями.
К стене был прислонён невесть как сохранившийся портрет Ленина, сделанный в странной технике — инкрустированный тёмным деревом по жёлтому. За портретом стояло ещё несколько картин — повёрнутых изображением к стене.
— Скрип-скрип, — сказало что-то наверху. Раевский поднял глаза и увидел огромное чёрно-белое колесо из знаменитой телепередачи. Тут, правда, оно висело на стене. Чем-то чёрно-белый круг напоминал мишень для бросания дротиков. Раевский представил себе, как сотрудники приходят сюда в перерыв, чтобы метать дартс величиной с бейсбольную биту.
Где-то в коридоре хлопнула форточка, и секунду спустя, порыв ветра захолодил Раевскому затылок.
— Скрип-скрип, — и колесо провернулось, вперёд или назад — непонятно.
Было пыльно и скучно.
— Нина! — заорал Раевский в полумрак. — Это я! Я, Владимир Александрович! Я привёз вам деньги!
— Скрип-скрип.
«Скурлы-скурлы», — вспомнил вдруг отчего-то Раевский старую сказку. — «Скурлы-скурлы, где моя липовая нога… Нет, там, наоборот…медвежья нога… А потом они набросились на него и убили».
Он шагнул, зачем-то схватился за обод колеса и крутанул, как следует. Но никакого звона в тимуровском штабе не вышло, не натянулись бечёвки, не зазвенели консервные банки, не прибежала никакая команда — только раздался новый скрип-скрип. Только сорвался со стены какой-то портрет, да колесо, задев одну из картин краем, потащило её наверх. Рама её повернулась, показалась лицевая сторона, и Раевский увидел какое-то смутно знакомое лицо в очках. Пыль струилась в белом свете уличного фонаря.
Делать тут было нечего, и он пошёл к выходу, на ходу достав телефон и тут же, в бессилии, замахав им в воздухе.
Наконец он выбрался наружу и закурил.
Навстречу в сумерках шла женщина с ведром. Ведро, впрочем, было пустое — но на мысли о суеверном уже не хватило сил.
— Вам что надо-то? — хмуро спросила женщина.
— «Чунгачангу», — не менее злобно ответил Раевский, ещё больше возненавидев глупое название.
— Ну, адрес-то какой?
— Пятницкая, тринадцать.
— А! — подобрела женщина и в этот момент показалась красивой. — Так это строение два! Вам со двора зайти надо. Там они и сидят…
Раевский остался один. Улица была пуста, люди куда-то подевались, да и весь мир переменился, и вместо весеннего тепла ему в лицо ударил заряд метели. Что-то он сделал не так, что-то непоправимое со скрипом завертелось — и так, как прежде, больше уже не будет. Но что, что?
Каким-то недобрым ветром перемен повеяло на Раевского, будто в переполненном троллейбусе схватил его за рукав контролёр.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
29 сентября 2015
(обратно)
Сон мёртвого человека (День пожилых людей. 1 октября) (2015-10-01)

Они пошли по насыпи, неверно ступая по разъезжающемуся щебню. Озеро открылось им сразу, как открывается семейная новость.
— Туристы твои разбрелись, — сказал Раевский, оглядывая пустынный берег.
— Ничего, голод соберёт, — Зон был рад, что избавился на время от своих подопечных.
Впрочем, одна австралийская старуха всё же осталась у полуразрушенной фермы. Она фотографировала старинный плакат по технике безопасности — на нём несчастный человечек попал под трактор и вещал оттуда что-то, теперь уже стёртое временем. Наверное, «Не падайте под трактор! Не давите и не давимы будете».
«Так и возникает каргокульт, — подумал Раевский. — Эти снимки переместятся на оборотную сторону земного шара и будут восприниматься как религиозные фрески. Вот злой колёсный дух пожирает грешника, а вот другой горит адским пламенем, не потушив окурок на складе гээсэм».
Впрочем, когда они подошли, стало понятно, что старуха вовсе не старуха, ей не больше пятидесяти. Раевский видел много таких в инвестиционных компаниях, с которыми работал вот уже пять лет. Одинокие, но вполне обеспеченные женщины, пустившиеся в странствия за экзотикой. Теперь и у нас много таких. В принципе, мужчину можно купить, это не проблема.
Женщина из страны кенгуру при этом уже фотографировала тракториста, Тракторист был не из местных, высокий и красивый русский парень, налитый молодой силой, он потягивался на солнце, как кот. Парень подмигивал австралийке и охотно позировал. Он был похож на красивое животное, но только вот на какое…
Но Раевский отогнал эти мысли и стал дальше слушать Зона, а тот говорил как бы про себя:
— Вера причудлива, но взгляд чужака выхватывает из твоей жизни ещё более причудливые картины.
— Ты знаешь, я всё чаще думаю о старости.
— Ты говорил, что думаешь о смерти.
— Это, практически, одно и то же.
— Не все разделили бы это мнение.
— Это пусть. Вовремя умереть — большое искусство. Мучительное умирание, болезни, старческая паника, попискивание хитроумных аппаратов, продлевающих существование уже никому не нужного овоща на больничной койке. Или пуще того — безумие, муки близких. Это мы смотрим сейчас на пожилых туристов и думаем, что это старость. А старость — это живые мертвецы, продукт современной цивилизации. Человек, сдаётся мне, биологически хорош до сорока лет. Эволюция у нас кончилась, и мертвецы хватаются за жизнь.
— Тут наперёд ничего непонятно. Разные продукты бывают. И мертвецы. Вон, лама Ивонтилов, тоже почти мертвец, не дышит, не ест и не пьёт. А мне он вполне симпатичен. Сидит себе, думает о чём-то.
Лама Ивонтилов действительно был местной достопримечательностью. Много лет назад к нему в дацан приехал народный комиссар внутренних дел этой автономной республики. О чём комиссар говорил с ламой Ивонтиловым, было неизвестно, но покинул он дацан спешно, ругаясь и грозя кулаком в окна.
После этого разговора лама Ивонтилов собрал своих учеников.
Они расселись в зале дацана в неурочное ночное время, и ночные птицы смотрели, нахохлившись, на это собрание, как на помеху собственной охоте на мышей.
Лама Ивонтилов сказал ученикам, что мягкое время кончилось и началось время твёрдое. Остальные люди это заметят не сразу, но его ученики должны узнать об этом первыми. У них есть, как всегда, три пути. Для начала они могут стать обычными людьми, скрыв свои знания. Ещё они могут бежать через южную границу и уйти в странствия по свету, пока не пресечётся их жизнь, и они не превратятся в птиц, мышей или иную живность. Но они должны знать, что если останутся на месте, то их ждут несчастья, а, может, даже смерть. Ученики задумались, и на следующий день несколько из них ушли из монастыря. Другие остались, чтобы за оставшиеся годы приготовиться к смерти. Один же стал пастухом, и его следы потерялись навсегда.
Потом лама Ивонтилов перестал пить и есть, а затем перестал дышать. Его похоронили в сопках, засыпав тело кварцевым песком и солью со дна озера. Лама Ивонтилов пролежал в своей могиле довольно долго, пока его не вынули оставшиеся в живых ученики, что вернулись из тюрем постаревшими, с выбитыми зубами. Ученики изумились тому, что лама Ивонтилов совершенно не изменился. Он лежал, высунув нос из кучи соли и песка, и, кажется, его губы шевелились. Лама Ивонтилов бормотал какие-то молитвы, смысла которых никто не понимал. Ученики смутились и зарыли его снова.
Только когда власть переменилась, ламу Ивонтилова отнесли в дацан. С тех пор лама Ивонтилов сидел в своём закутке за стеклом и продолжал о чём-то думать.
Зон печально сказал:
— Я совершенно не представляю, рад ли он этому. Я понимаю, что при определённом просветлении становится наплевать на толпы туристов, что тут слоняются. Я, который год привозя иностранцев сюда, всё-таки чувствую неловкость. Хорошо ли ему? Хорош ли он сам? Хорошо ли это всё?
Или вот те же иностранцы. Им нравится, что у меня азиатская внешность, им нравится, что я им рассказываю. А ведь я настоящий музейный работник, я всю жизнь работал в музеях, я люблю описи фондов и музейные залы — особенно, когда мы их опечатывали на ночь, когда они пусты и гулки. Музеи люблю, а посетителей — нет. И иностранцев не люблю, и вообще туристов, с их религией prêt à porter…
В голосе Зона сквозила обида. Он мог часами говорить о «квадратном письме», что ввёл император Хубилай. Его занимало то, как и почему Пагби-лама создал письмо на основе букв тибетского алфавита, приспособив их к монгольскому языку. Он мог рассказать, как и зачем лама выбрал вертикальное расположение текста, в отличие от тибетского горизонтального. Он держал в руках сотни книг на пальмовых листьях и готов был рассуждать о ясном письме тод-бичиг и судьбе алфавита соёмбо.
Но туристам было не интересно про алфавит соёмбо. Им интересно, правда ли труба ганлин делается из берцовой человеческой кости, и, если да, то где тогда купить ганлин.
И Зон говорил, что да, правда. И пытался рассказывать о том, что были разные воззрения на то, из чего делать ганлин — из кости праведного монаха, кости девственницы или костей казнённых, про связанный с ганлином культ коня. Но про коня было не надо, не надо было и про разные воззрения. Надо было проще.
И он закончил проще:
— Тут, кстати, вся местность — музей. Геологический, в том числе.
В этот момент они подошли к гостинице и, поклонившись поклонившемуся монаху на входе, прошли в бар.
Раевский сидел за столиком, задумчиво разглядывая календарь. Такие календари были тут повсюду — в кухнях панельных пятиэтажек большого города неподалёку, в офисах международных компаний и в гостиницах. Дни в календаре были раскрашены согласно назначению: просто дни; дни для лечения и дни для праздников; дни для начала путешествия и дни для стрижки волос; дни для начала строительства и дни для обильной еды… Местные жители, как он заметил, очень трепетно относились к этому календарю. Парикмахерская в день, благоприятный для стрижки, ломилась от клиентов, а вот в день, негодный для этого занятия все три парикмахера задумчиво курили на крыльце с утра до самого вечера.
Было, правда, ещё небольшое количество дней, что в календаре были обозначены крестиком — это были «чёрные или противоположные дни», что попадались примерно раз в месяц.
Хозяйка заведения как-то сказала ему, что землетрясения и войны случаются как раз в такие дни.
Завтра был как раз именно противоположный день.
— Тут другая вера, — продолжал Зон. — Это же даже не буддизм. Это буддизм плюс Советская власть, плюс электрификация… Адская смесь. Я видел прошение о дожде — не в местном музее, а в канцелярии губернатора — нормальное прошение, за тремя подписями, два доктора наук и один профессор местного университета. Только прошение, понятное дело, не губернатору, а на небо. Так и так, за отчётный период молились так и так, вели себя хорошо, просим дождя, имеем основания.
Есть хорошая история, которую всякий раз рассказывают по-разному. Там речь идёт о нашем туристе, что поехал в Тибет, а тёща его попросила привести амулет «от Будды». Тот, конечно, всё забыл, а когда вспомнил, то, возвращаясь, просто подобрал камешек у подъезда. Он долго веселился, когда тёща говорила, что камень вылечил её ревматизм, и когда его действие нахваливали другие старухи. Они камлали вокруг него и камлали. А через два года камень стал светиться в темноте.
Кому лама Ивонтилов — святой, а кому — просто пожилой человек. Интересно, кстати, если бы он проснулся — как бы ему выписали пенсию и какие оформили документы. Я бы на его месте не просыпался: откроешь глаза, а вместо комиссаров в пыльных шлемах вокруг тебя стоят комиссары из Книги рекордов Гиннеса. Ты что-то купить хочешь?
— Не знаю, — рассеяно ответил Раевский. — А что ты посоветуешь?
— Купи колокольчик хонхо. Будешь звонить в него и распугивать злых духов во время совещаний. Их к нам везут из Китая, штампованные. Но если ты будешь вести себя правильно, к следующим выборам в совет директоров он будет светиться в темноте.
— Тогда я лучше куплю нож для ритуальных жертвоприношений, — улыбнулся Раевский. Назавтра у него был противоположный день, и он ожидал какого-нибудь землетрясения.
Землетрясения не было. Но весь следующий день пошёл насмарку, потому что в посёлке вырубили электричество, и Раевский не смог зарядить севший аккумулятор ноутбука и дописать отчёт. Вместо землетрясения были австралийские туристы, что веселились перед отъездом. Ухала своими утробными звуками дискотека, где австралийские старики и старухи вели свои данс макабры.
Раевский глядел на огоньки большого города, которые переменчиво мигали с той стороны озера — точь-в-точь как звёзды, и думал — что же всё-таки громче: музыка или дизель-генератор, благодаря которому она звучит?
Пройдя мимо него, австралийка залезла в трактор и теперь целовалась с трактористом. Раевский восхитился тому, каков отечественный асимметричный ответ на архетип европейского жиголо.
Жизнь была прекрасна, хотя он думал о том, что его карму ничего не исправит. Не сегодня, так завтра он подпишет и отошлёт отчёт. Сдвинется с места маленький камешек, который, подталкивая другие, вызовет лавину. Вслед за его отчётами напишут ещё сотни и тысячи бумаг, и через год-два на берег озера придут бульдозеры и экскаваторы, а лет через пять здесь будет стоять город. Сначала он будет небольшим, но потом разрастётся… Туристы будут до обеда посещать дацан и пялиться на медитирующего ламу. А после обеда они будут кататься по озеру, даря остатки обеда рыбам. И скоро он, Раевский, будет одним из немногих, кто помнит это место в первозданном виде.
Трактор зарычал, и интернациональная пара поехала кататься.
Лама Ивонтилов в это время думал. Процесс размышления был похож на движение лодки в медленном, но неостановимом течении реки. Но сегодня был особый день — кончался шестидесятилетний цикл и, значит, он проснётся и пойдёт в то место, которое европейцы зовут глупым словом «Шамбала». Он не знал точно, зачем это надо мирозданию, но это было очень интересно. Про это можно было много думать, а потом думать про то, что он там увидит.
Он проснулся, не затратив на это никаких усилий, и некоторое время привыкал к свету.
Впрочем, солнце заходило, и на дацан стремительно наваливалась тьма.
Издалека звучала дурная музыка, лишённая гармонии.
Он с трудом отодвинул стеклянную раму и слез на пол со своего насеста. Ноги гнулись плохо, и сначала он шёл, держась за стену дацана.
Мир был точно таким, каким он представлял его. Все изменения были им давно предугаданы и обдуманы. Даже большой город на противоположном берегу не стал для него неожиданностью. И даже звук работающего дизеля.
По берегу кругами ездил трактор, в кабине которого сидели двое — мужчина и женщина. Лама смотрел не на них, а на звёзды.
Звёзд лама Ивонтилов не видел очень давно и отметил, что они чуть сместились в сторону. Конфигурация созвездий изменилась, и, хоть он был готов к этому, всё равно удивился.
Надо было собираться в путь, и он встал, оправил халат и в последний раз взглянул на озеро.
В этот момент трактор подъехал к самой кромке берега, завис на мгновение и ухнул в воду.
Лама Ивонтилов посмотрел на всплеск с интересом. Так он в детстве смотрел на скачущие по воде плоские камешки, которые он и его друзья швыряли с берега.
Он подошёл ближе и увидел среди медленно расходящихся волн одну голову. Второй человек не показывался на поверхности. Да и тот, что сейчас жадно ловил ртом воздух, явно был не жилец — утопающий много пил, и лама чувствовал этот запах издалека, так же как чувствовал издалека запах снега на горных вершинах за горизонтом и запах трав у южной границы.
Лама Ивонтилов относился к смерти спокойно — он сам раньше часто рассказывал историю про молодую мать, у которой умер маленький сын. Она пришла к Будде, чтобы тот вернул мальчика к жизни. Тот согласился, но просил женщину принести горчичных семян из того дома, что ни разу не посещала смерть. Женщина вернулась без семян, но с пониманием того, что смерть непременный спутник жизни.
Лама Ивонтилов не боялся ни своей смерти, ни чужой. Когда он лежал под землёй, он узнавал из движения ветров и колебания почвы то, что учеников его расстреливают, но это было частью жестокости мира. Сейчас он смотрел, как умирают два человека, которым никогда не достичь просветления.
Но всё же задумался.
И, подумав ещё немного, он спустился к воде и скинул халат. Первой он вытащил женщину — она была без сознания, и тащить её было легко. Когда он принялся за мужчину, то тот очнулся на мгновение и сильно ударил его по голове. Лама Ивонтилов погрузился в воду и почувствовал, как смертный холод пробирает его до костей.
«Кажется, жизнь не так бесконечна, как я думал, — с интересом обнаружил он. — Я, кажется, могу умереть прямо сейчас». Он висел под водой, как большая сонная рыба, а рядом медленно опускалось вниз, к мёртвому трактору, тело мужчины. Но всё же лама Ивонтилов, выйдя из оцепенения, схватил утопающего за ремень и потянул к себе.
Когда лама Ивонтилов положил мужчину и женщину рядом на береговой песок, то сразу понял, что они выживут. Однако с этими несостоявшимися утопленниками случилось странное превращение — немолодая женщина теперь выглядела как девочка, и выражение, свойственное девочкам, теперь проявилось на её лице, как тонкий узор на очищенном от грязи блюде. Молодой мужчина, наоборот, теперь казался дряхлым стариком, из тех, что бессмысленно бродят по базарам, пугая детей.
Но ноги ламы Ивонтилова подкашивались, и он почувствовал, что протянет ещё немного — и, вздохнув, пошёл обратно к дацану. Халат не согревал мокрое тело, и ламу Ивонтилова била крупная дрожь. Он с трудом забрался на свой насест и из последних сил задвинул стеклянное окно.
Никуда он не уйдёт, и придётся превратиться во что-то иное прямо здесь. Это даже ещё забавнее. На окно села ночная птица — лама Ивонтилов посмотрел ей в глаза, и птица развела крыльями: «Да, время умирать, ты угадал. Ничего не поделаешь». Пришла мышь, она как-то приходила к нему в земляную нору — лет шестьдесят назад, и тоже пискнула: «Ты прав, никуда идти не надо».
Мысли путались, и ему показалось, что он засыпает.
Через день Зон и Раевский прощались. Оба должны были улетать, но в разные стороны. А пока они сидели на берегу, наблюдая, как за ограду дацана заходят монахи с носилками.
— Наш старик, кажется, завонял. Вчера он как-то осел на своей скамеечке и протёк. Кажется, он совсем мёртвый.
— А откуда столько воды?
— Мы все состоим из воды, даже когда не пьём.
— Как ободняет, так и завоняет, — задумчиво сказал Раевский.
— Откуда это?
— Это из Достоевского. Знаешь, там умирает старец, которого все считают святым. А потом он начинает пахнуть, как пахнут все мертвецы, и над ним смеются — какая же святость, когда воняет. А потом оказывается, что дело не в этом. В общем, вопрос веры. Но тут всё другое.
Они смотрели, как ламу Ивонтилова выносят из монастыря, и процессия медленно поднимается в гору. Она была уже довольно далеко, но звон колокольчика, распугивающего злых духов, был явственно слышен.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
01 октября 2015
(обратно)
Дневник (День учителя. 5 октября) (2015-10-04)

Дядюшка долго разминал папиросу, прежде чем начать рассказывать.
Я хорошо помнил его папиросы — они были толстые, кончались полупрозрачной бумагой и лежали в жестяной коробочке, заменявшей портсигар.
— Я, — сказал дядюшка, — попал в школу случайно, да
как-то сразу прижился. Там ведь совсем не важно, что преподавать. Важно, как это делать. Если твои подопечные учиться не хотят, то никто их не заставит. Я учил детей математике, а ещё мне астрономию дали.
Астрономию я любил, хотя втайне боялся — я на звёздном небе ночью нашёл бы только Большую Медведицу. Ну, или Пояс Ориона. И всё.
Это у меня беда такая, вроде дальтонизма. Ну не выделяю я из общей россыпи эти дурацкие фигуры.
Ещё я никак не мог запомнить знаки Зодиака. А ведь знаки Зодиака, это единственное, что интересует старшеклассниц. Но я рассказывал про кружащиеся в пространстве планеты, а также про советские космические станции, которые летят в чёрной ночи между этих планет. Я же говорю, неважно, про что ты рассказываешь, важно как. А проверяющим важно, чтобы у тебя журнал был в порядке, да планы уроков. Ну и чтобы дневники у учеников красиво выглядели — но, что касается дневников, то тут они, правы, конечно. Дневник это особая вещь, почти магическая. Любой дневник — магическая вещь, потому что в нём записано время, а уж школьный, в котором ещё записаны слёзы и радости — и вовсе мрачное чудо. В мои-то времена в нашем городке отцы ещё пороли детей за двойки и смотрели в дневник, точно так же, как смотрят в телевизор сейчас.
Пришёл из школы ученик и запер в ящик свой дневник… — вот что у нас было, и всё потому, что в дневнике были бездны. Там что только не писали. Дневники уничтожали и подчищали, как бухгалтерские книги — всё ж лучше даже временная тьма незнания, чем всё понявшие родители.
Так я и нёс свет знаний в тёмное царство, по правде, не очень веря в этот свет. Что толку манить честных людей дальними звёздами, когда их предел — речной техникум. Только мучить их и расстраивать. Эту скуку чувствовала наш завуч, и я немного боялся её.
А городок наш был небольшой да холмистый, домики скатывались к Волге, через которую тут был проложен стратегический мост. Мост бомбили немцы в войну, да так и не попали ни разу, зато пространство вокруг моста на нашем и том берегу было изрыто воронками. После войны эти немцы, уже пленные, построили там несколько улиц из крепких двухэтажных домов, а также нашу школу.
Над крыльцом, между окнами второго и третьего этажа, в белых гипсовых кругах на нас смотрели учёные и писатели — с одной стороны Ломоносов и Менделеев, а с другой стороны — Пушкин и Горький. Материал оказался некачественный, и они скоро стали неотличимы друг от друга. Настоящие местные гении — два слева и два справа. Жизнь текла мимо меня, как тяжёлая волжская вода. Из окон моего класса можно было видеть, как шлёпают по воде последние колёсные пароходы, которых потом сменили большие дизельные корабли.
Школьники сбегали с уроков, чтобы торговать на пристани вяленой рыбой.
Жизнь в нашем городке делилась на две — быструю и кипучую, когда корабль стоял у берега, по главной площади бродили столичные жители в солнечных очках, и жизнь сонную, когда никаких кораблей не было.
На том берегу жили язычники, как говорила наша школьная уборщица. На неё мало обращали внимания — она и сама напоминала даже не Бабу Ягу, а бесполого лешего. Да и мы, конечно, были ровно такими же язычниками: из шести церквей уцелело две, а в одной из них ремонтировали тракторы. Но всё равно — тут были русские, а там — язычники. Там начинались леса и болота, границы территорий были отмечены резными столбами. Жители городка, изредка отправляясь за грибами на ту сторону, старались не переходить этих незримых, но чётких границ. Жители городка старались не глядеть в глаза деревянным лицам на древних столбах, на лицах этих застыли давние смолистые слёзы. Впрочем, грибов и на нашей стороне хватало.
Я видел этих истуканов, когда сам заплутал в лесу, и выбрался оттуда только с рассветом. Деревянные пограничники вовсе не были злыми, скорее — равнодушными. Но это равнодушие как раз и было по-настоящему оскорбительным. Эти чужие боги были изъедены жучками, некоторые из них рухнули и теперь лежали, кто — плоским носом в бруснику, кто — открытыми глазами глядя в звёздное небо, которого я не знал.
Ночью я сидел у костра — и пока он тлел, всё было хорошо и покойно, а когда он вспыхивал, красные блики выхватывали лица истуканов из темноты, и становилось жутко.
Жители леса смешивались с нашими только по субботам, когда, купив талончик, они рассаживались всё на той же главной площади со своими бочками мёда, сушёной ягодой и ожерельями из грибов. Волжский ветер перебирал грибы на нитках, как флаги на кораблях. И наши, и язычники торговали рыбой, а туристы с весёлым ужасом совали пальцы сомам в янтарные пасти.
Пили крепко, и оттого тонули часто. Утопленников относило далеко, течение тут было прихотливо, и чаще всего их обнаруживали на отмели у большого города, что был уже в другой области. Или их не обнаруживали вовсе — они становились частью реки, частью её дна или отмелей, а так же частью тех больших рыб, что лежали в знойный полдень на базаре и ждали туристов с проходящих кораблей.
Такой был круговорот природы.
В девятом классе, последнем, когда учили астрономию, у меня была печальная девочка-отличница. Мне рассказали её историю — её родители утонули. Непонятно, как это вышло, отчего они оба оказались на лодке, отчего не выплыли той ночью, отец точно был непьющий — это значило, что пил он мало, не каждый день, в общем. Зачем он взял жену с собой? Ничего не было понятно в этой истории, а девочка росла, жила с бабушкой.
Бабушка тоже, казалось, продолжала расти — она вросла в деревянную лавку за печкой, жила там в углу, превратившись в диковинный нарост, в лесной гриб. Я зашёл как-то к ним, спросил, что нужно. В маленьком городе это обычное дело — учителя ходят по домам. Некоторые из наших так кормились, потому что учителя всегда сажали за стол, зарплата была невелика, а этот чужой хлеб сладок.
Девочка мне нравилась, и я от всего сердца желал ей уехать. Ни к чему было ей жить в этой кривой избушке между холмами. Вот перейдет её бабка в какое-то иное состояние, переход этот будет незаметен, а девочка получит свободу.
Поэтому я готовил её не к нашему техникуму, а к институту в областном центре. Девочка исправно решала задачи, и я в неё верил.
Она была единственной, кто не гадал на деревянных табличках, что привозили «язычники» с того берега, и не игрался со знаками Зодиака. Но тоска ела её, как большая рыба гложет добычу внутри реки.
Однажды я спросил её, что она хочет больше всего.
Девочка отвечала, что хочет поговорить с родителями.
«Нормальное желание», — подумал я, — «Свойственное всем желание. Я бы тоже поговорил, но пока мне рано с ними встречаться». Спустя несколько дней я рассказал это нашему завучу, рассказал мельком, как рассказывают о случайной встрече на улице.
Завуч у нас была немолодая женщина из тех самых «язычников». Местный партийный секретарь вывез её мать с того берега и женился на ней тихо, без веселья. Дочь родилась почти сразу, а когда она вернулась после пединститута в город, то стала бессменным завучем. Уж давно не было этого секретаря, и многое переменилось в городе, но женщина эта внешне не менялась, будто знахари вымазали её мёдом и набили, как куклу, сушёными ягодами. Лицо у неё было морщинистое, тоже высохшее, но живое и властное.
Она, что и говорить, была главнее директора.
Она задумалась и вдруг подняла руку, останавливая меня.
— Подождите. Надо подумать… Пусть придёт ко мне.
Я уважал завуча, она была властной, но справедливой по-своему. Часто она гасила ссоры и споры среди нас, учителей, одним своим словом. Школьники её тоже уважали, хоть и побаивались, как побаивались они деревянных идолов на том берегу. Я же работал первый год — случайный человек с дипломом авиационного института — и вызывал у неё законную настороженность.
Мы с девочкой пришли на следующий день после уроков.
Завуч посмотрела девочке в глаза, как смотрит рыбак в глаза ещё не пойманной рыбе, высунувшейся из воды.
— Ты хочешь с ними посоветоваться, так? Или даже ты хочешь их о чём-то попросить?
Девочка кивнула.
— Но это можно один раз.
Девочка кивнула снова.
Завуч поманила меня пальцем и велела закурить. Меня это несколько удивило. В присутствии завуча не курили. А тут она сама не попросила, а велела — и я безропотно достал свои папиросы. Тогда я любил «Казбек», которые перекладывал в железную коробку от «Герцеговины Флор», а кто курил «Герцеговину Флор», вы сами знаете. Дым окутал меня, но, странное дело, он держался только в нашем углу комнаты. От первой папиросы я прикурил вторую.
— Давай дневник, — строго сказала завуч, и девочка достала из портфеля аккуратно обёрнутый дневник.
Завуч раскрыла его и внизу страницы, как раз под моей пятёркой, написала каллиграфическим почерком: «Прошу явиться родителей в школу». Затем она расписалась, и в этот момент дым начал своё движение.
Прямо из него слепились две фигуры, одна побольше, а другая поменьше.
Тьма сгустилась по краям классной комнаты, а тут стоял дымный серый свет, и он был страшен.
Завуч сделала мне знак, что я больше не нужен, и я, пятясь, вышел в коридор, плотно закрыв с собой дверь.
День валился к закату.
Уборщица зашипела на меня, когда я прошёл по мытому, но я не повёл головой.
В понедельник девочка не пришла в школу.
— А у неё бабка померла, — бодро сообщил дежурный, обсыпанный мелом. Он, стоя на цыпочках, тёр доску сухой тряпкой.
Я велел тряпку намочить, и он, прежде чем выбежать для этого в туалет, крикнул:
— А она теперь вовсе не придёт, за ней из города приехали.
«Город», это значило «город с большой буквы», не наш городок, а областной центр.
Завуч встретила меня у расписания, и, посмотрев на меня с равнодушием лесных статуй, сказала:
— У вас есть педагогическая жилка. Мне кажется, мы сработаемся. Сперва я сомневалась, а теперь вижу — жилка определённо есть.
И, развернувшись, пошла к себе в кабинет.
А я ещё долго смотрел в её прямую, будто деревянную, спину и тугой пучок волос без седины. Такой, знаете, пучок, волосок к волоску в подбор.
Курю я только много, вот что…
И дядюшка задумчиво оглядел бумажный мундштук от папиросы.
Весь табак выгорел вместе с полупрозрачной бумагой, и в пальцах у него была только белая трубочка.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
04 октября 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-10-07)

Я тут написал рецензию для *** про последний роман Пелевина.
Надо признаться, что вокруг каждого романа Пелевина в сентябре вспыхивает дискуссия — читать или не читать.
При этом есть люди, которым неловко сказать, что читать они вообще ничего не хотят, но за то, что они бездуховно спят лишний час, им стыдно. И они начинают придумывать, почему читать Пелевина не надо.
Для них я хотел бы пересказать этот последний роман.
Я-то его прочитал до конца.
По мне, так роман очень хороший, но я решил тут пересказать его для людей, которые его читать не будут. Но невелик подвиг написать о том, что вот герой сделал то-то, а потом к нему явилась возлюбленная, а тут он обнаружил, что его главный враг совсем не то, что он думал.
Это скучно.
Куда интереснее написать такой спойлер, который в паре абзацев передаёт общую суть — что-то вроде — вот хруст французской булки, масона тщетная надежда, война вдали, война вблизи, по полю бегает невежда, дубина поднялася и на Сенатской площади отозвалася…
Ну, понятно.
Так вот, я открыл, что новый роман Пелевина (он очень хороший, да), можно пересказать с помощью великого рассказа Даниила Хармса «О Явлениях и существованиях № 2», написанного в 1934 году.
В нём только нужно произвести две замены — «бутылку со спиритуозом» на «Флюид», а «Николая Ивановича Серпухова» на императора Павла Петровича.
«Вот так называемый Флюид. А рядом вы видите императора Павла Петровича.
Вот поднимаются пары Флюида. Поглядите, как дышит носом император Павел Петрович. Видно, ему это очень приятно, и главным образом потому что Флюид.
Но обратите внимание на то, что за спиной императора Павла Петровича нет ничего. Не то чтобы там не стоял шкап или комод, или вообще что-нибудь такое, а совсем ничего нет, даже воздуха нет. Хотите верьте, хотите не верьте, но за спиной императора Павла Петровича нет даже безвоздушного пространства, или, как говорится, мирового эфира. Откровенно говоря, ничего нет.
Этого, конечно, и вообразить себе невозможно.
Но на это нам наплевать, нас интересует только Флюид и император Павел Петрович.
Вот император Павел Петрович берет Флюид и подносит его к своему носу. Император Павел Петрович нюхает и двигает ртом, как кролик.
Теперь пришло время сказать, что не только за спиной императора Павла Петровича, но впереди, так сказать перед грудью и вообще кругом, нет ничего. Полное отсутствие всякого существования, или, как острили когда-то: отсутствие всякого присутствия.
Однако давайте интересоваться только Флюидом и императором Павлом Петровичем.
Представьте себе, император Павел Петрович заглядывает во внутрь Флюида, потом подносит его к губам, запрокидывает и выпивает, представьте себе, весь Флюид.
Вот ловко! Император Павел Петрович выпил Флюид и похлопал глазами. Вот ловко! Как это он!
А мы теперь должны сказать вот что: собственно говоря, не только за спиной императора Павла Петровича, или спереди и вокруг только, а также и внутри императора Павла Петровича ничего не было, ничего не существовало.
Оно, конечно, могло быть так, как мы только что сказали, а сам император Павел Петрович мог при этом восхитительно существовать. Это, конечно, верно. Но, откровенно говоря, вся штука в том, что император Павел Петрович не существовал и не существует. Вот в чем штука-то.
Вы спросите: «А как же Флюид? Особенно, куда вот делся Флюид, если его выпил несуществующий император Павел Петрович? Где же Флюид? Только что был, а вдруг его и нет. Ведь император Павел Петрович не существует, говорите вы. Вот как же это так?"
Тут мы и сами теряемся в догадках.
А впрочем, что же это мы говорим? Ведь мы сказали, что как внутри, так и снаружи императора Павла Петровича ничего не существует. А раз ни внутри, ни снаружи ничего не существует, то значит, и Флюида не существует. Так ведь?
Но с другой стороны, обратите внимание на следующее: если мы говорим, что ничего не существует ни изнутри, ни снаружи, то является вопрос: изнутри и снаружи чего? Что-то, видно, все же существует? А может, и не существует. Тогда для чего же мы говорим изнутри и снаружи?
Нет, тут явно тупик. И мы сами не знаем, что сказать.
До свидания».
Извините, если кого обидел.
07 октября 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-10-07)

Написал Кашину про Пелевина —
вот здесь
А про метод чтения написал
вот тут.
В рецензии не про то, а про то, как обманывается читатель и критик и ещё про сатирическое начало в пелевинских романах.
Картинка, кстати, из экранизации "Подпоручика Киже" 1934 года. Там, чуть ли не первая роль Эраста Гарина.(На фото — Яншин, если что).
Шкловский по этому поводу пишет: "Я не буду следить за всем материалом, который использовал Тынянов в своей повести «Подпоручик Киже», и условно буду считать, что он взял все из книги «Павел I. Собрание анекдотов, отзывов, характеристик, указов и пр.», составленной Александром Гено и Томичем (Спб., 1901).
Вот как выглядит в этом материале основной анекдот:
«В одном из приказов по военному ведомству писарь, когда писал: «прапорщики-ж такие-то в подпоручики», перенес на другую строку слог ки-ж, написав при этом большое К. Второпях, пробегая этот приказ, государь слог этот, за которым следовали фамилии прапорщиков, принял также за фамилию одного из них и тут же написал: «Подпоручик Киж в поручики». На другой день он произвел Кижа в штабс-капитаны, а на третий — в капитаны. Никто не успел еще опомниться и разобрать в чем дело, как государь произвел Кижа в полковники и сделал отметку: «Вызвать сейчас ко мне». Тогда бросились искать по приказам, где этот Киж? Он оказался в Апшеронском полку на Дону, и фельдъегерь, сломя голову, поскакал за ним. Велико было изумление полкового командира, до которого еще не дошло обычным порядком производство Кижа-прапорщика и который даже не понимал, о ком идет речь, так как в его полку не было Кижа. Фельдъегерь тоже ничего не мог объяснить и, не отдыхая, поскакал обратно. Донесение полковника, что у него в полку никогда не было никакого Кижа, всполошило все высшее начальство. Стали искать по приказам и, когда нашли первое производство Кижа, тогда только поняли, в чем дело. Между тем, государь уже спрашивал, не приехал ли полковник Киж, желая сделать его генералом. Но ему доложили, что полковник Киж умер.
— Жаль, — сказал Павел, — был хороший офицер» (с. 174–175).
Оттуда же взят другой анекдот:
«Одного офицера драгунского полка по ошибке выключили из службы за смертью. Узнав об этой ошибке, офицер стал просить шефа своего полка выдать ему свидетельство, что он жив, а не мертв. Но шеф, по силе приказа, не смел утверждать, что тот жив, а не мертв. Офицер поставлен был в ужасное положение, лишенный всех прав, имени и не смевший называть себя живым. Тогда он подал прошение на высочайшее имя, на которое последовала такая резолюция:
«Исключенному поручику за смертью из службы, просившему принять его опять в службу, потому что жив, а не умер, отказывается по той же самой причине» (с. 250).
Есть также анекдот о том, как кто-то закричал караул, и о помиловании виновного.
Юрий Тынянов взял эти анекдоты, вероятно, не из пересказов, а из первой публикации в «Русской старине». Его работа состоит не в обтекании сюжетов отдельных анекдотов, но в контаминации и в переосмысливании.
Есть историческая фраза Павла на смерть Суворова:
— Sic transit gloria mundi.
У Тынянова эту фразу Павел говорит о Киже.
Милует Павел Киже. И все поступки обессмысливаются и переосмысливаются.
Сама история Киже рассказывается подробно. Киже материализуется и отношением к нему конвоиров, и слезами его жены, и даже ребенком, который идет за пустым гробом.
История Киже приобретает свое значение, окрашивая Павла. И самое лучшее в книге — та сухость, с которой она написана.
В книгу дано только необходимое.
Повесть качественно отличается от материала, из которого она составлена. Тут нет никакой суммы.
В русской литературе исторических романов — это пример, по всей вероятности, единственный.
Для того, чтобы представить себе величину этого творческого поступка, нужно сказать еще две вещи.
Повесть первоначально была написана как сценарий.
В сценарии еще не было линии Синюхаева.
Сейчас этот сценарий снова хотят ставить, и робкие режиссеры все время хотят кого-то подставить, ком-то заполнить пустое место Киже.
Они хотят, чтобы Киже был кем-то другим. В то время когда Киже — пропущенная строфа в написанной поэме. Строфа, однако, существующая по законам поэмы".
Извините, если кого обидел.
07 октября 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-10-21)
Написал заметку про нашего мальчи… то есть, тётеньку.
А я вот человек старой закалки: для меня вербатим — это не какие-то эксперименты с формой и новая документалистика, а дискеты.
Сперва были, конечно, пятидюймовые, их у меня сохранилась всего пара, а вот трёхдюймовых было довольно много.
Verbatim до сих пор производит дискеты по 1,44 Mb.…
В этом есть что-то от вечности.
Падут царства, реки изменят своё течение, писателей снова начнут кормить — но, ёпта, трёхдюймовые дискеты будут вечны.

Verbatim
В обсуждении Нобелевской премии по литературе 2015 года возникла некоторая пауза — те, кому это хотелось, до хрипоты накричались, и теперь они должны восстановить голос. Но 10 декабря, когда будут вручаться собственно сами премии, Светлана Алексиевич произнесёт Нобелевскую речь — и всё начнётся по новой.
Не сказать, что я ожидаю в этой речи каких-то удивительных новостей, но все опять начнут ругаться — так положено с этими премиями.
Большая часть этой ругани происходит от элементарного невежества и больше объясняет не то, как устроены книги нового лауреата, а то, как устроены мозги русского человека. Ну, хорошо — русскоговорящих людей на разных континентах.
Во-первых, это спор о русофобии, о том, что шведка гадит, и всё — заговор. (И наоборот — что это глоток свободы). На это нужно ответить, что подобные страхи — мания преследования, совмещённая с манией величия. Никто особенно никого не любит, это да, ну так это мир так устроен.
Ждать справедливости от литературных премий (и вообще от мироздания) — не очень умное занятие.
Упрекать шведов в чём-то вовсе бессмысленно — Анна Ахматова говорила, по поводу, правда, Государственной премии СССР: «Их премия, кому хотят, тому и дают». Что, дескать, вы волнуетесь?
Что есть негласные национальные квоты, они исчерпаны и теперь не дадут премию Евтушенко?
Да много кто её избежал, перестаньте.
Во-вторых, спорят о том, кому же дали премию — белорусской писательнице или русской. На это следует отвечать, что литература — не Олимпиада. Да и на спортивных Олимпиадах, превратившихся в соревнования фармакологов, отвратительно соревнование медалей. Оно, это соревнование, не даёт никакого представления ни о спортивном состоянии граждан государства, ни о здоровье самих спортсменов — ни о чём. Более того — оно противоречит индивидуальности спортсмена, то есть — писателя. Так и здесь — что гордости в том, что Генрик Сенкевич когда-то был подданным Российской империи?
В-третьих, это слова о том, что премию дали «не за литературу». Глупости — её дали историку Моммзену. Дали и политику Черчиллю — не только за многотомную историю Второй мировой войны, но и за ораторское искусство. И это совершенно заслуженно — несомненна поэтическая сила речей человека, что сказал в Палате Общин в июне сорокового года, когда Англия воевала с Гитлером один на один: «Мы пойдем до конца, мы будем биться во Франции, мы будем бороться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш Остров, какова бы ни была цена, мы будем драться на пляжах, мы будем драться на побережьях, мы будем драться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда не сдадимся, и даже, если так случится, во что я ни на мгновение не верю, что этот Остров или большая его часть будет порабощена и будет умирать с голода, тогда наша Империя за морем, вооружённая и под охраной Британского Флота, будет продолжать сражение, до тех пор, пока, в благословенное Богом время, Новый Мир, со всей его силой и мощью, не отправится на спасение и освобождение старого».
Но разговор о том, как устроена литература, как раз и есть самый интересный.
И у нас начался он не с «документальной прозы» Светланы Алексиевич, а с обсуждения огромной книги «Архипелаг ГУЛАГ» другого нобелевского лауреата — Александра Солженицына.
Беда в том, что стороны свой вывод, как правило, не аргументируют, а руководствуются революционным или контрреволюционным сознанием. Правильная фраза звучала бы как «Тексты Имярек (не) являются литературой потому что…» — причём, суждение о том, что литература — это всё, что написано буквами, заведомо непродуктивно.
Если всё — литература, то надо заканчивать разговор.
Точка общественного интереса сместилась от сопереживания жизням выдуманных персонажей к тексту, из которого понятно (или кажется, что понятно), как устроен мир.
И благодаря решению Нобелевского комитета, у нас есть возможность обсудить несколько важных вопросов жанра «verbatim», иначе говоря, документально-художественного жанра.
Для начала — «проблема автора».
Книги Алексиевич, как мы знаем, состоят из «микроинтервью» с разными людьми.
Относиться к ним как к интервью, или как к части художественного произведения, собственности автора книги? Вот, к примеру, появляется человек, который обращается в суд и говорит, что в книге использована рассказанная им история и требует части гонорара. В западной традиции, а жанр документалистики там освоен давно — книга обставлена множеством документов, с каждым интервьюируемым подписывают специальное соглашение (с фотомоделями происходит то же самое) — и проч, и проч.
Как будет решаться этот потенциальный юридический конфликт — пока непонятно.
Дополню это тем, что мне всегда очень интересен вопрос о юридических обстоятельствах в искусстве.
Искусство всегда идёт впереди, и тут же вступает в конфликт с закреплённой в законах практикой.
С разной степенью успешности этот вопрос решается — в своё время на нью-йоркской таможне задержали абстрактную скульптуру и начался процесс о том, что считать предметом искусства (вопрос о таможенной пошлине).
К вопросу о подлинности примыкает знаменитая история со снимком «Влюблённые» фотографа Дуано (1950).
В 1993 году произошёл суд (судились персонажи) и попутно выяснилось, что снимок постановочный.
То есть, то, что было сорок лет (правда, долгое время фотография пролежала под спудом) «подлинной жизнью» оказалось жизнью срежиссированной.
Дело не в том, что решения судебной системы особенно взвешены и окончательны, но именно в зале суда традиция обычно выясняет свои отношения с новацией.
Может, успешный автор в жанре «вербатим» в будущем будет похож на режиссёра, у которого на фильме работает команда юристов, регулирующих все отношения с актёрами — то есть, с персонажами).
Второй вопрос — соотношение авторского текста и документа.
Документ сам по себе не является «документом». В исторических работах объясняется, откуда он взялся, оценивается степень доверия к нему, возможности фальсификации и неточностей, и, наконец, он помещается в концепцию учёного.
В жанре художественной документалистики всё находится внутри художественного пространства. Автор может не только использовать сомнительное свидетельство, но и подобрать саму последовательность свидетельств и документов так, что они создают другую реальность, противоположную существующей. Свидетели истории в воспоминаниях руководствуются десятками мотивов — свойствами своей памяти, желанием переиграть свою жизнь, гордостью и стыдом — всё это превращает народные воспоминания в род белого шума, из которого можно выделить любые гармоники.
Но наш читатель интуитивно доверяет слову «документ», потому что документ — «правда», а в романе мало ли что напишут.
Показательна история с великим романом «Война и мир» — представление о войне с Наполеоном в народном сознании основывается именно на нём, меж тем, претензии к Толстому в антиисторизме стали высказываться сразу после публикации.
В 1928 году в журнале «Новый ЛЕФ» Шкловский опубликовал исследование «Матерьял и стиль в романе Льва Толстого “Война и мир”». Осип Брик писал об этой работе так: «Какая культурная значимость этой работы? Она заключается в том, что если ты хочешь читать войну и мир двенадцатого года, то читай документы, а не читай “Войну и мир” Толстого: а если хочешь получить эмоциональную зарядку от Наташи Ростовой, то читай “Войну и мир”».
Пока не заключён общественный договор об ожиданиях, ситуацию нельзя назваеть устоявшейся.
Договор этот, правда, пересматривается.
Вот он, второй вопрос — вопрос «подлинности». Ясно, что идеальной «подлинности» не бывает, но есть ли у читателя исследовательский аппарат, чтобы понять, из чего состоит текст перед ним.
Но потребитель хочет подлинности, будто пришёл в магазин фермерских продуктов. И перед ним невозможны отвлекающие манёвры: правда или вы всё же отфотошопили? И если да, то сколько?
Или он согласен на вымысел, но тогда не прощает неловкого стиля.
Может быть, в литературе будущего на задней стороне обложки (вернее, в уведомлении о скачке файла) будут будут писать список ингредиентов, будто на банках с консервами: «Е*** — усилители эмоций, Е** — вкрапления городских легенд, Е* — небольшая доля елейного масла».
И это только два вопроса из десятка, что можно обсудить.
За что большое спасибо Нобелевскому комитету.
Ну и лауреату нынешнего года, конечно.
Ну и как без доказательства моей дружбы с ежами, которые по ссылке
http://rara-rara.ru/menu-texts/Verbatim
Извините, если кого обидел.
21 октября 2015
(обратно)
Перегон (День автомобилиста. Последнее воскресенье октября) (2015-10-25)

Выехали рано, ещё до звезды, но едва рассвело, «японка» уткнулась в противоподкатный брус огромной фуры. Чужой дизельный выхлоп, сизый и сладкий, мешался с утренним туманом.
— А знаешь, я-то раньше бомбил у аэропорта. Страшное дело — челноки там с одной стороны, братва с другой. Я как-то ехал с порта и вижу — мытари наши обедают: поляна на капоте накрыта, водочка там, курочка. Но мы со свистом прошли, те и глазом не моргнули — с других соберут. А вот некоторые поездом ехали, так вместо мешков с песком закладывали китайскими пуховиками двери и стены. На рынке как-то из пуховика жакан вытрясли.
— И что?
— Ну, уценили пуховик, пришлось уценить — ведь с дыркой. Я сейчас как сон это вспоминаю, десять лет этих проклятых.
Володя уставился в грязный брус-швеллер грузовика прямо перед глазами. На нём едва читались буквы какой-то весёлой надписи, но всю её уже невозможно было понять.
— А потом я возил одного туза, — сказал Рудаков. — На «мерине» возил, на лаковом таком обмылке. Повёз как-то в аэропорт. Начальник отгрузился в самолёт и улетел в те страны, где, по слухам, гораздо лучше жить, а я, по старой памяти, решил поправить бюджет. Подсадил к себе какого-то дохлого мужчинку и гоню по широкому и почти что гладкому нашему шоссе к Соцгороду. Откуда ни возьмись, подрезает меня форсированная «девятка» и прижимает к обочине. Не желая портить дорогую машину, прижался и вижу — вылезли четверо, подошли. Протяжно так произносят:
— Значит, так: колёса от машинки — к нам в багажник.
Ну, я, обливаясь слезами, начинаю снимать колёса со своей машины, а пассажир мой, хрен недоделанный, сидит не шелохнувшись. Наконец, последнее колесо сняли и загрузили в чужой багажник. В этот момент невзрачный пассажир вылезает и произносит также нараспев:
— Значит, так, ребята: а вот теперь мне уже некогда… Колёса — обратно, а колёса с «девятки» — к нам в багажник.
При этих словах этот дохлый хрен вынул из складок тела такой агрегат, что непонятно даже, откуда там пули вылетают. Эти четверо только молча переглянулись и взялись за ключи. Я сижу — ни жив ни мёртв.
Доехали, я ментам смотрящим всё рассказал — мне-то зачем чужая резина, да ещё такая. Вместе вернулись — ну, тех архаровцев след простыл, какой-то инженер на другой «девятке» кукует. Раздели его добры молодцы. Отдали мы ему колёса да и поехали в разные стороны.
— А долго ты на «мерине» ездил-то?
— Да нет, Бог миловал. Как стрелять стали, я сразу и свалил. Видел на Речке кладбище? Там они и стоят, ребята, — пассажиры да водилы. Белым по чёрному, мрамор да гранит, в полный рост — в спортивных трениках, кроссовках, с ключами от таких же «меринов» на пальцах. Ну его, это дело. Как пулять начнут, не спросят, кто тут на окладе, а кто хозяин. Да и правильно сделал — хозяин-то мой там, во втором ряду.
— Упромыслили хозяина-то?
— Там дело тёмное. Говорят, его «Чёрный нивовод» с моста подпихнул. Есть у нас такая легенда. Но, понятно, нечего гонять, да и водиле он наливал — один пить не мог.
Но время шло, а фура впереди не двигалась. Раевский и Рудаков переглянулись, но делать было нечего: обгонять в тумане себе дороже. Не глуша мотор ещё минут десять, они переглянулись снова — опять без слов, но взгляды уже потяжелели, поугрюмели. Володя, согнувшись на заднем сиденье, натянул сапоги и, кряхтя, вылез наружу.
Шофёр большой фуры, на грязном боку которой расправил лапы огромный политически-ориентированный медведь, высунул из окошка седую растрёпанную голову. Голова смотрела на Раевского с высоты второго этажа. Так смотрит на внука, играющего во дворе, строгий дедушка на балконе.
— Не, не парься, братан, жди — там тебе хода нет.
— Что там? Авария?
— Ну, можно и так сказать. Сгуляй — увидишь, — ответили сверху, и туман скрыл голову.
Раевский пошёл вперёд. Он шёл и шёл, а машины всё не кончались, стояли одна за другой плотно и недвижно. Наконец, перед ним открылась котловина, в которую спускалась автомобильная змея. Там, на дне, плескалось озеро жидкой грязи. Через грязь медленно полз зелёный артиллерийский тягач, ведя за собой грузовик.
Из тумана потянуло кислым сигаретным дымом. Чтобы не спускаться вниз, Раевский спросил у куривших, почём услуга, и тут же снова переспросил в ужасе:
— Деревянными?
Ему не ответили, а только захохотали. Он подождал, чтобы оценить скорость переправы, и ужаснулся ещё больше, помножив её на число машин в заторе.
Раевский вернулся, и они с Рудаковым стали коротать время — до обеда пробка продвинулись метров на сто, потом дело и вовсе застопорилось. Рудакову идея перегона японской машины из Владивостока не нравилась, но и для него деньги были пуще неволи. Времени было полно, сами деньги пока и вовсе отсутствовали в этом уравнении — они были призрачной, нематериальной составляющей будущего.
После обеда обстановку отправился разведывать сосед из фуры.
Через полчаса он стукнул в окно:
— Эй, мужики, стоим. Тягач сломался.
Никто даже не выругался.
— Пробка — как на Тверской, — вздохнул Раевский.
— Ты на Тверской стоял? — заинтересованно спросил его напарник. — В Москве был?
— Не стоял, а знаю.
— Знаешь, не знаешь, — сказал Рудаков — а я вот в очереди на растаможку стоял. На польской границе — это дня три. Это тебе не Тверская — там в пробках сколько стоишь? Час. Ну — два. А не понравилось — выпрыгнул и пошёл по бабам.
— Не так, да ладно…
Володя с Раевским спали по очереди, а на следующий день, когда зелёный жук опять засновал по луже, старались опять дремать, время от времени перегоняя «японку» вперёд. К вечеру они отошли в сторону от трассы и стали расчищать место под костёр. Заполыхал огонь — и тогда водила из фуры с медведем принёс большой казан и воду. Подошёл сменщик, и заструился обычный разговор:
— Здесь Сибирь, да. Вот один мужик как-то по трассе ехал и поймал камень на лобовое. А кругом февраль, минус сорок.
— Сорок?
— Ну, почти сорок. Делать нечего — взял кусок фанеры, пробил в нём смотровую щель и привязал проволокой на место лобового. Так и погнал вперёд — как в танке. Как предки, значит, на Курской-то дуге. Или вот тоже был случай…
К ним на огонёк пришли ещё двое — высокий шофёр и его товарищ-коротышка. В руках лежал огромный кусок мороженого мяса — сразу было понятно, что они гнали куда-то рефрижератор.
— Эй, друг! Хлеб у вас есть? — крикнул кто-то от машин.
Ещё двое пришли и, ничего не спрашивая, выставили канистру с техническим вином.
Рудаков, прикурив от сучка, между тем продолжил:
— Вот когда только стали делать «Жигули», там вообще все детали были итальянские — и кузова тоже. Такие-то до сих пор ездят, там всё вечное — и подвеска, и движок. У мужика на моей прежней работе такая «копейка» была — она «Волгу» как два пальца… Таких теперь больше не делают — и всё потому, что тогда, в шестидесятые рабочих прямо из космических цехов снимали — и на Волжский автозавод.
Седой дальнобойщик вдруг вскинулся и угрюмо сказал:
— Работал я в Тольятти. В отделе комплектации — каждый день в восемь сверка, как на каторге… — и вдруг закричал страшно:
— Я замнач восьмого! В спецификации отсутствуют абразивные круги пятьсот-восемьсот, нехватка двести!..
Закричал он страшно, и похоже было, что узник концлагеря вспоминает команды на плацу, произнесённые когда-то на чужом языке. Его быстро хлопнули по плечу, но он ещё долго вздрагивал.
— Да ну, какие «Жигули» вечные? — перевел кто-то разговор в историческое русло. — Вот «Победа» — вечная, да. Там миллиметровая сталь была. Её годами просто масляной краской красили — вот и ездила. Тяжёлая машина, хорошая.
— Там олово было, кажется, — поправил кто-то.
— Может, цинк?
— Нет, олово — как на консервах. Зверь-машина, говорю. Отсюда до Казани со свистом докатится…
— А раньше, знаешь, машины проверяли как водку. Слыхал, что на водке дата изготовления на обороте этикетки была? — И хозяин державного медведя объяснил, что фильтры на водочных заводах меняли раз в неделю, и поэтому надо было брать вторничную водку. Что до машин, — закончил он, — машины после пятого и двадцатого — известно как собирали, после пятого и двадцатого брать нельзя…
Володя хлебал бессчётно крутой чай, и слушал. Вклиниться в этот ряд было невозможно — точь-в-точь как в затор перед котловиной.
— А я вам расскажу про наших крутых, — начал тот, что принёс техническое вино. — Дело было давно. Решили наши барчуки вырваться из рутины. Денег на ментов ещё не накопили, так что решили не пить, а покурить анаши, которой никто не пробовал. Анаша нашлась, дёрнули по первой, а не почувствовав ничего — по второй. Вскоре им действительно стало хорошо, но тут они разделились. Первый не помнит, как он добрался домой, а просто проснулся наутро от вопроса жены, как он, дескать, доехал. «На такси», — уверенно так отвечает. «А чья это машина под окном?»…
Выглядывает барчук в окно и видит свою машину у подъезда, отвечает жене, что хозяин вчерашних посиделок уже пригнал её по назначению. Однако глупая женщина, не слушая его, спускается вниз и, вернувшись, молча берёт его за руку и ведёт к автомобилю. Фары, типа, горят, играет внутри музыка, да и дверца не заперта. На сиденье же лежит пятидесятирублёвая бумажка. «Я же помню, — растерянно произносит барчук, — как сказал: «Спасибо, шеф» — и захлопнул дверцу».
— Пятьдесят? Это когда ж было? Я тыщи помню тогда были…
— Ну, в девяностом мог быть и полтинник, — отвечал рассказчик, и продолжил:
— Второй барчук вышел из дома, и понял, что ему хорошо, жизнь прекрасна, и путь домой лёгок и приятен. Слушая тихую музыку, ехал он по ночному городу, как вдруг увидел призывно машущий милицейский жезл. Нашарил права, денюжку, но чувствует, что хотя остановивший его капитан начинает говорить, не могу проникнуть в значение его слов. Предъявил права. Капитан улыбнулся, продолжая говорить. Барчук снова показал ему права, капитан снова отвёл его руку, и снова губами зашевелил… Права снова предъявляются, всё это длится, длится. Наконец, удовлетворенные разговором, они разошлись. Барчук поехал, музыку слушает, дыхание переводит и вдруг видит в зеркале, что у него на хвосте висит милицейская машина. Газует, понимаешь, со страху, но она не отрывается, снова увеличивает скорость и уже представляет, как будет задержан «в состоянии наркотического опьянения».
Машина сзади не отстаёт, и он решается — на полной скорости сворачивает в переулок, проносится по нему, продирается через мусорные баки, помойную кучу, прыгает днищем по какой-то лесенке. Сбавив скорость на неизвестной ему улице, посмотрел барчук в зеркальце… Пусто. Доехал до дому, нырк в постель.
Но утро начинается со звонка в дверь. На пороге возникает участковый.
— Ты вчера куда-нибудь ездил? — спрашивает он.
— Нет! — быстро говорит барчук.
— Ну, всё равно, сходи, на машину погляди.
Тот спустился, да и глядит, что к фаркопу тросом привязан бампер с ментовским номером. Толкнуть они его, значит, попросили»…
Шофера перекидывали истории, как горячие картофелины в руках, — и ни один не усомнился в рассказе другого. Не любо — не слушай, а врать не мешай. Хочешь — сам расскажи про нрав моторных масел или про специальные «Жигули», что делали для кремлёвской охраны — с особой коробкой на шесть скоростей. Рассказали о компакт-дисках, что отражали радары ГАИ, и про давным-давно застреленного гайца, который наставил измеритель скорости на кортеж Брежнева.
Раевский вдруг понял, что никто не говорит о скопившихся в очереди машинах, о потерянных в простое деньгах, не касается страшного и тоскливого — о резине идёт разговор, а о будущем — нет. Пришедший парень, быстро осмотрев сидящих — нет ли чеченцев, рассказал, как брал населённый пункт Самашки, но дёрнувшись, как на ухабе, разговор снова свернул на мирное: про железо, про масло и воду, про бензин и соляр, про то, как движутся колёсные механизмы через Россию на честном слове и одном гвозде. Гвоздь был, впрочем, тут лишний — для него было иное слово.
Раевский крепился, а потом и сам рассказал про трофейный «хорьх», что видел в Калининграде, где служил лет десять назад. И эта немецкая машина, что вовсе непонятно было, как выглядит, вдруг налилась в его рассказе металлической силой, сгустились из сибирского воздуха её гладкие бока и огромные фары. Он и сам поверил в её существование на улицах маленького городка.
— Зверь машина, — говорил он уверенно, вспоминая, чьи слова он только что повторил. — Зверь. С места сразу сто даёт — а там ведь дороги ещё немецкие, гладкие как стол. С разгона в Польшу можно улететь.
Выслушали и его, и в свой черёд какой-то якут рассказал о тяжёлых ракетных тягачах, похожих на гусеницу-сороконожку.
Темнело.
И вовсе незнакомый голос вспомнил другое:
— А знаешь историю про водилу, которого убила братва за то, что он их на «Ниве» обогнал? Ну там грохнули мужика — столкнули под откос в тачке, уже мёртвого. Да только потом ничего не нашли — видно, болото всё всосало. Менты повертелись да и закрыли дело. Жена отплакала, мать отрыдала. А потом на трассе странные дела стали твориться — пацаны, что его убили, вписались в бензовоз, что поперёк дороги крутануло. Их смотрящий в иномарке сгорел. Но вот как-то один водитель автобуса видит вдруг — его чёрная «Нива» обогнала, и остановился от греха подальше. А потом и видит — дорогу размыло, это он за полметра перед вымоиной стал.
«Детский сад», — подумал Раевский и пошёл прочь от костра — в лес. По толстым стволам сосен прыгали тени. Он осторожно ступал между сухих острых сучьев и поваленных деревьев и думал о времени: вот сколько
они здесь, а он уже привык. Перестал торопиться и нервничать.
Время — это такая странная вещь: то тянется, то скачет. Он вдруг понял, что раньше всё хотел чаще встречаться с друзьями, а тут недавно пришёл на день рождения и — обнаружил, что пауза длиной в год оказалась мгновенной.
А сейчас нет ничего — костёр с братьями по дороге, и нет ничего — ни дома, ни хозяина, ни семьи, ни детей нет — а только трасса, и мера жизни — не дни, а столбики по краю.
Он вышел к трассе и увидел чёрную фигуру рядом. Кто-то застегнул штаны и повернулся к нему.
— Что на холоде стоишь? — спросил Володя. — Пошли к нам.
— Мне к вам не надо, мне ехать пора, — ответил из темноты парень, перелезая через кювет.
— Куда ехать-то? С ума сошёл. Не знаешь, что ли: не проедешь.
— Я везде проеду. А ты не дёргайся, тебе топиться-то не надо. Только не пей много — от этого тоска будет.
Раевский посмотрел на этого человека и с удивлением отметил, как тот садится в чёрную «Ниву», как она медленно начинает движение к котловине. Очень Володю смутило, что «Нива» шла без огней.
Утром Рудаков исчез на полдня и вдруг появился у костра с видом заговорщика. Раевский подошёл, и напарник горячо забормотал ему в ухо:
— Значит, так: я договорился с трактористом. Нечего тут ловить. Выбирайся своей колеёй, типа того.
Они вывели «японку» через разваленный кювет на просёлок и покинули трассу. Тракторист ждал за первым поворотом — на краю абсолютно ровного поля. Только приглядевшись, Рудаков понял, что причина этой гладкости в том, что поле покрыто слоем жидкой земли. Ни волны, ни пузыря не было на этой плоскости, простиравшейся до горизонта.
Они накинули буксировочный трос, и трактор повёл за собой автомобиль, как бурлак ведёт лодку на бечеве. Временами машина подплывала, и Раевский чувствовал, что её начинает тянуть течением, но нет, это всё же ему казалось.
Вдруг тракторист вылез по колесу на крюк, наклонился и что-то сделал там. Трос ослаб, а тракторист снова забрался в кабину и дёрнул. «Японка» не двинулась с места, что-то журчало под днищем, а трактор стал удаляться. Сердце Володи затопило ужасом, как это поле грязью. Раевский понял, что они одни в этом бескрайнем грязевом море. И такое чувство тоски навалилось на него, что захотелось запеть какую-то протяжную русскую песню, из тех, что поют нищие на вокзалах.
…Но нет, это просто трактор выбрал слабину, «японка» снова дёрнулась, и они поплыли дальше, разводя в обе стороны тугую коричневую волну. Через полчаса связка добралась до твёрдого и ухабистого просёлка, а по нему — и до избы самого тракториста.
Они решили не разлучаться, и Рудаков тут же договорился о постое — уже с женой тракториста. Все крепко пили всю ночь, не пьянея, и таки под конец запели — протяжно и грустно.
Лучше всех пел тракторист, пел он морскую песню о кораблях в тихой гавани, о рыбаках в далёком краю и о том, что никто не придёт назад. Татуированный якорь на его предплечье болтался вправо и влево, будто команда не знала, стоит ли закончить путь именно за этим столом или двинуться дальше в ночь.
Раевский плакал от жалости к утонувшим рыбакам, несдюжившему кочегару и к самому себе. Он всё больше уверялся в том, что кроме дороги в его жизни ничего нет, и не будет. «Ничего-ничего», — будто болванчик у лобового стекла, кивали головы за столом, и Раевский проваливался в сонное забытьё.
Наутро они выехали, и первое, что увидел Раевский, вывернув на трассу — фуру с огромным медведем на боку, мелькнувшую впереди.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
25 октября 2015
(обратно)
Начальник контрабанды (День таможенника. 25 октября) (2015-10-27)
— Это машина времени. Это моя машина!
Лебедев лгал — машина была вовсе не его собственностью и даже не его изобретением. Он был приват-доцентом, мелкой сошкой, человеком, которому упало в руки чужое богатство. Один профессор бежал, другой был уведён из дома людьми в кожаных куртках. И вот он унаследовал двенадцать ящиков в рваном брезенте, которые лежали на причале, — там, где обрывались железнодорожные рельсы.
Лебедев замолчал, ожидая эффекта. Но никакого эффекта от его слов не было: контрабандист с повадками эмира смотрел в сторону. Ему явно было всё равно, что везти через море.
— Я должен вывезти это в большой мир — я должен, должен… Вы помогаете прогрессу… — и тут же, испугавшись, Лебедев, добавил — Конечно, это не отменяет уговорённой платы.
Человек во френче продолжал слушать его молча, разминая в пальцах дорогую английскую сигару.
Лебедев пытался объяснить, как важно то, на что согласился контрабандист в английском френче и чалме, смесь Запада и Востока, страшный сон Киплинга, порождение неустойчивых границ Юга Империи. Империи, что перестала существовать, рассыпавшись в снежную пыль на севере и разлетевшись тонким песком здесь, на юге.
Сказать, что граница здесь охранялась плохо — значило ничего не сказать. Граница вовсе не охранялась — за исключением всадников, что поделили тропы за кордон — как нищие делят прибыльные места на базаре. Всадники принадлежали разным кланам, но были неотличимы друг от друга — в английской и русской форме (со следами споротых погон), в рваных халатах и шинелях с чужого плеча.
Это тропы — через горы, от одного колодца в пустыне до другого, через море — стали пашнями и нивами, кормили множество людей.
Хлопковые фабрики встали, а нефтяные заводы стояли чёрными, оставшимися от пожаров остовами.
Сейчас через границу уходили немногие — основная масса беглецов уже схлынула, как морская волна, обнажая дно.
Приват-доцент Лебедев вёз свою машину до этого пустынного края месяц, скормив ненасытным железнодорожникам шесть мешков сахара.
За его спиной была большевистская Россия, перед ним — Персия и английские офицеры. Но на самом деле эти английские офицеры символизировали для Лебедева далёкий Кембридж и ровный стук мелка по доске.
Перед ним была Англия, а не Персия — но пока он стоял на земле Туркестана.
Лебедев устал, он знал, что за ним по следу идёт отряд чекиста Ибрагимбекова, и представлял, как Ибрагимбеков прикладывает коричневое ухо к земле и слышит каждый стук колеса по рельсам, каждый шаг приват-доцента по песку.
Железнодорожная ветка кончилась — перед Лебедевым был причал с одиноким корабликом, выбеленные здания бывшего порта и ящики, покрытые обрывками брезента. Брезент с них срезали по дороге мешочники, проникшие в вагон.
На ящиках было написано «Осторожно, заражено!» — и каждый новый грабитель отшатывался от них, прыгал вон, в мелькающую вокруг вагона степь. Те же, кто не умел читать, ломали ножи о стальные запоры из добротной крупповской стали. За неимением лучшего они рвали брезент, справедливо полагая, что на третьем году Революции в хозяйстве сгодится всё.
Теперь Лебедев затёр угрожающие надписи и, задыхаясь от жары, вёл нескончаемый разговор с местным контрабандистом.
Договор ткался из воздуха паутинной нитью, нить росла, утолщалась. Крепла. Казалось, уже всё было решено, но у Лебедева было неприятные предчувствия. Холодок неуверенности, особое ощущение льда на коже среди местного зноя. Что, если этот бородач с тонкими чертами лица откинет деревянную крышку кобуры, вытащит маузер и равнодушно выстрелит Лебедеву прямо между глаз? Кто ему помешает? Что остановит?
Поэтому Лебедев и вёл своё торопливый рассказ о том, как важен его прибор, но который, разумеется, ничто без самого Лебедева — так, жестяные шары и цилиндры, эбонит и медь. Электрохимическая машина — важная, но непригодная к продаже.
Лебедев был никуда не годным вруном, в гимназии и университете он стал лучшим только потому, что боялся списывать. Он не умел блефовать, и наука обернулась для него вереницами намертво заученных формул.
Наконец, он выдохся и замолчал.
Пауза длилась, время текло, как зной, что переливается через подоконник, струится по полу, наполняет комнату.
Лебедев тупо смотрел на «Извлеченiе изъ правилъ о пассажирскихъ вещахъ», что висело с прежних времён на голой стене таможни. В таможне давно не было таможенников, поэтому природа, не терпящая пустоты, сделала её здание местом торга контрабандистов.
«Пассажирскими вещами признаются вообще находящиеся при пассажирах вещи, бывшия в употреблении и необходимые для них в путешествии. Вещи сии как не составляющая предметов торговли, пропускаются беспошлинно…» — Лебедев отвык от ятей и еров, эти слова были для него как привет из прошлого мира — мира, где извозчик вёз его по Моховой, резиновые шины шуршали по брусчатке, звенела ложечка в стакане с чаем, Дуняша несла поднос по гостиной медленно, бесконечно медленно, и никак не могла донести…
Он глядел на примечание: «Находимые при досмотре проезжающих из-за границы бывшия в употреблении иностранныя игральныя и гадальныя карты не могут быть пропускаемы им ни в каком количестве, но должны быть от них отбираемы для представления в Управление по продаже игральных карт». Лебедев вспомнил незатейливую игру на даче в Мамонтовке, нахмуренный лоб профессора фон Раушенбаха — мизер втёмную.
Нет ничего — ни профессора, ни Мамонтовки, ни извозчика. И только опись беспошлинных вещей старого мира на стене — «Бывшие в употреблении платья, обувь, белье носильное и полотенца
в количестве, не превышающем обыкновенную потребность пассажира. Золотые, серебряные и другие металлические вещи для домашнего употребления, до трёх фунтов на каждое лицо, а также дорожные несессеры всякаго рода, по одному на лицо».
Нет ничего из этого списка, а есть хитрый азиат в английском отглаженном френче, он сам, измотанный нервной лихорадкой, да машина в двенадцати ящиках, с таким трудом вывезенная из Москвы.
Контрабандист раскусил его сразу.
Он не презирал Лебедева, он давно не удивлялся липкому страху, что исходил от этих людей. Лебедев вонял страхом, как старыми носками, и контрабандист понимал всё то, чего он боится.
За время, проведённое в этих местах, начальник контрабанды видел много таких людей — бегущих, волочащих за собой своё добро, мельчающее в дороге. Многих действительно убивали — не тех, кто уходил за кордон с собственной охраной, а таких жалких приват-доцентов, что бежали из среднеазиатских городов с запуганными жёнами, незадачливых чиновников с десятком золотых червонцев, вшитых в полы форменного сюртука.
Контрабандист уже решил, что переправит Лебедева живым, но не ради денег, а ради такой же тонкой, плетущейся из воздуха, как нынешняя беседа, дружбы с майором Снайдерсом на том берегу.
Он слушал Лебедева вполуха.
Начальник Контрабанды был воином, а не торговцем. Раньше он переправлял целые караваны за южный край по приказу эмира, не беря за это ни таньга.
Раньше это было службой, и теперь он иногда сожалел, что прежнее время ушло. Он воевал со всесильным Ибрагимбековым, он воевал с Кубла-ханом, он, наконец, воевал с русскими — и только недавно нашёл себе настоящего врага. А ведь это так трудно, найти настоящего врага — особенно, когда врагов много.
У всякого Начальника Контрабанды должен быть Начальник Таможни — они как отражения друг друга в железном полированном зеркале. Но Начальник Таможни был несчастный человек, отставной офицер, потерявший ноги в Галиции. И, после хлопот жены, его сослали на место, казавшееся тогда хлебным.
Нет, сначала он был страшен. Обладая огромной физической силой, он скакал по пустыне, и ловил контрабандистов, как медлительных черепашек. Однажды он, швыряясь бочками, с причала потопил две лодки Начальника Контрабанды.
Но недавно у него умерла от холеры жена, а затем умер ребёнок.
После этого Начальник Таможни потерял лицо. Его лицо смыли слёзы, а водка довершила дело. Теперь у Начальника Таможни не было ни глаз, ни рта. Человек без лица потерял свою силу, словно бритый Самсон, и контрабанда здесь стала делом безопасным.
Начальник Контрабанды даже жалел, что так вышло — ему не нравилась скука.
А вот красный командир Рахмонов был очень хорошим врагом.
Рахмонов был настоящим врагом для Начальника Контрабанды, потому что красному командиру Рахмонову ничего не было нужно. Ни золота, ни женщин не нужно было Рахмонову, и он дрался с Начальником Контрабанды яростно и бескорыстно.
А Начальник Контрабанды устал, золота было у него много, и много женской любви было у него, но что важнее — он сам любил.
Давным-давно, когда русский царь позвал эмира в гости, он познакомился в русской столице с женщиной. Столица была не та, что нынче, другая — призрачный город, наполненный водой.
Там, посреди площади у царского дома, будущий Начальник Контрабанды в первый раз увидел свою женщину, и сердце его дрогнуло. Оно пропустило удар, и время для будущего контрабандиста остановилось.
Но он был воином, и лицо его не дрогнуло, когда он увидел её второй раз — в ложе театра, вместе с эмиром.
Третий раз он увидел её тогда, когда стронулся с места мир, и глупые дехкане начали кричать о чужой земле и бесплатной воде.
По приказу эмира он рубил тогда головы глупым дехканам, и кровь, дурманя голову, мгновенно мешалась с пылью площадей. Но их оказалось слишком много — спасало только то, что у них не было винтовок.
Началось смятение, а с севера ехали первые беженцы, ещё не растерявшие столичного лоска. Но рот их уже был забит криком, а глаза полны безумием. И вот он снова увидел свою любовь, женщину с волосами цвета песка.
Тогда он выдернул её из орущей толпы, в которой чемоданы были приличнее людей.
Надо было уходить на ту сторону — взяв остатки добра и свою любовь. Но надо было и подружиться с британским майором, потому что Начальник Контрабанды хотел спокойно ходить по улицам на той стороне.
Нужно было дружить и с прочими людьми за южным краем, с теми, что носили чалму, и с теми, что носили мундиры великой империи, над которой никогда не заходило солнце. И уже третий год не было для Абдулхана другой империи.
Теперь он выстраивал свой мир, спокойный и правильный — в противовес миру красного командира Рахмонова, который оставался воином — ему самому на замену. Начальнику Контрабанды даже не было жаль двух потерянных караванов, которые остановил красный командир — так нравилось ему играть с Рахмоновым.
Но теперь красный командир должен был остаться воином, а Начальник Контрабанды должен был забыть своё ремесло ради детей и любви.
Он ещё помнил, что Кубла-хан сжёг в нефтяных бочках его гарем, и эта внезапная любовь к русской женщине была надеждой на продолжение жизни.
Чтобы пауза не длилась слишком долго, чтобы этот оборванный учёный, приехавший с севера со своими странными железяками, не унижался больше, Начальник Контрабанды спросил:
— И что, можно попасть в будущее?
— Нет, в будущее нельзя, по крайней мере, пока нельзя. Можно попасть в прошлое, вернее воссоздать прошлое в одном месте. Нужно только охладить пространство, и при отрицательной температуре молекулы побегут вспять. Они повторят все пройденные ими пути, только в обратном направлении. И наступит …
— Госпо-о-один!.. Господин Абдулха-а-ан!.. — крикнули издали.
— Завтра, — бросил Начальник Контрабанды, поднимаясь. — Завтра мы пойдём на ту сторону. Ваша цена мне подходит.
В этот момент человек, лежавший у окна с полевым биноклем, встал, и, по-прежнему невидимый за занавеской, потянулся.
— Они договорились. Слышишь, Павлик, они договорились.
— И что, товарищ Ухов? — ответил ему мальчишеский голос. — Пора? Возьмём их в плен — промедление ведь смерти подобно.
— Ты, Павлик, не кипятись. Ну, вот выбежишь ты навстречу Абдулхану, размахивая трёхлинейкой, сделает он тебе тут же лишнюю дырку во лбу — и что? Будешь ты совершенно негоден для мировой Революции, и всё закончится.
Видишь, Абдулхан уезжает. Он едет за чем-то, что нам неизвестно, а ему очень важно. Он будет скакать ночью, а вернётся к утру, потому что он любит двигаться в ночной прохладе. Он вернётся завтра со своим добром, и завтра к нам придёт на помощь товарищ Рахмонов.
Человек с биноклем расправил складки гимнастёрки и начал спускаться на первый этаж со своим напарником.
Там, за широким столом сидел вдребезги пьяный Начальник Таможни. Он был пьян навсегда, потому что сын Начальника Таможни умер, не дожив трёх дней до своего второго дня рождения.
— Абдулхан уехал в крепость. Завтра, я думаю, он пойдёт на ту сторону.
— Мне-то что до него? — выдохнул перед тем, как опрокинуть в рот стакан, Начальник Таможни.
— Товарищ Васнецов… — запел тонким мальчишеским голосом младший.
— Да не зови ты меня вашим дурацким товарищем, надоело, — Начальник Таможни высосал целиком скибу дыни и обтёр губы.
— Гражданин Васнецов, Владимир Павлович, миленький… — ведь они достояние республики увезут.
— Какой-такой республики? Совдепии? Автономной Туркестанской? Бухарской республики? Диктатуры Центрокаспия, чтоб она в гробу перевернулась? Что мне до них, парень…
— Так они, Владимир Павлович, своей машиной время обратно повернут…
Но тут старший положил тяжелую ладонь красноармейцу на плечо.
— Хватит, Павлик. Поговорили.
И товарищ Ухов со своим товарищем вышли из дома Васнецова.
Ночь покрыла пустыню, как перевёрнутая миска. Абдулхан с пятью нукерами ехал к крепости — за золотом и любовью.
— Сашенька… — выдохнул Абдулхан в темноту имя своей любви, а золото своего имени не имело и ждало его тихо.
Сборы были недолги, а нукеры — молчаливы. Молчала и Сашенька. Звёзды вели их обратно в порт, но у Сухого ручья его встретил Рахмонов.
Ночь рвали вспышки выстрелов, освещая лица всадников. Абдулхан не промахнулся ни разу, но у Рахмонова был пулемёт.
Нукеры умерли один за другим, за исключением русского казака Григория, который пришёл в отряд Начальника Контрабанды совсем недавно. Григорий был на Дону в больших чинах, дрался то за красных, то за белых, а как пришёл верёвочке конец, то покатился на юг. Он катился долго, превращаясь из румяного колобка в колючее перекати-поле.
Григорий даже не пригибался к гриве лошади, будто заговорённый прошлыми несчастиями своей жизни.
Пули пели над ними, как цикады.
Заревела и рухнула лошадь под Сашенькой, так что она еле успела спрыгнуть. Абдулхан подхватил женщину и кинул себе за спину как лёгкий плащ.
Время шло медленно, и Начальнику Контрабанды казалось, что он раздвигает пули руками.
Они скакали в темноте, не отвечая на выстрелы, чтобы люди Рахмонова потеряли их из виду.
Но внезапно Абдулхан ощутил, как объятия его женщины слабеют, а его английский френч намокает. Они спешились — Сашенька безвольно лежала на его руках. В груди женщины хрипело и булькало.
Абдулхан приложил ухо к её губам, но Сашенька уже не говорила ничего.
Час её пробил, а время для Абдулхана снова понеслось вскачь.
Казак сокрушённо покачал головой, и принялся шашкой рыть могилу.
— Вот так и мою жинку Аксинью убили, — утешил он командира. — Пуля прилетела, и ага.
Но Абдулхану утешения были ни к чему. Он пожалел, что остался в живых именно казак — нукеры были молчаливы, а Григорий чувствовал себя на равных с ним и думал, что с хозяином возможен разговор.
Закопав женщину, Абдулхан завыл, как собака, и выл целый час. На исходе этого часа он спокойно встал, отряхнул песок с френча, и молча погнал лошадь к морю.
Товарищ Ухов закурил цигарку и молодой красноармеец, вдохнув, наполнил кашлем трюм баркаса.
— Смотри, Павлик — видишь, бикфордов шнур? Он вспыхнет от машинного жару, и ровно на счёт «сорок два» огонь брызнет внутрь динамитной шашки, которую я приматываю сюда — смотри, Павлик… А остальные будут вот здесь.
— А почему «42»?
— Сорок два — важное число, без него никак. И тут оно к месту. Одним словом, на счёт «сорок два» Начальнику Контрабанды придёт конец.
— Но, товарищ Ухов. Ведь конец придёт и машине времени, которая должна служить пролетарской революции.
— А так она будет служить врагам пролетарской революции. Как ты думаешь, Павлик, что лучше?
— Лучше будет, если мы и машину времени спасём, и врагов уничтожим.
— Так, Павлик, бывает только в синематографе. Собирайся, нам тут рассиживаться нельзя. Не у тёщи на блинах.
Поднимаясь, Павлик запнулся и загасил фонарь. Он чуть было не упал, но, схватился за что-то, и, удержав равновесие, полез по трапу вслед за старшим товарищем.
Баркас был загружен под завязку, десятки ящиков и тюков громоздились повсюду, и эти двое так и не заметили, что под коврами лежит Начальник Таможни и прислушивается к их разговорам.
Старый таможенник Васнецов всё понял из случайно обороненной фразы молодого красноармейца.
Наутро приват-доцент Лебедев, ступив на палубу, увидел маленькую чёрную дырочку. Вся беда была в том, что эту математическую точку окружала сталь, а за этой сталью ждал использования цилиндр со свинцовым набалдашником, который зовётся «патрон».
Всё это находилось в руках Начальника Таможни Васнецова, и, разглядывая эту чёрную дыру, Лебедеву пришлось заново повторить всё то, что он рассказывал Абдулхану.
— И что, — спросил Васнецов, — всё повернётся вспять?
— Это зависит от мощности. Накопим энергии больше — так больше и…
— А чем у тебя мотор работает? Мочёным песком, что ли?
— Почему песком? Электричеством — с помощью переработки солнечной энергии.
Васнецов помолчал и приказал, поведя карабином:
— Заводи свою машину.
— Но там огромные солнечные батареи, я — один, а вы… Лебедев покосился на протезы Васнецова.
— Ничего, справимся. Аллах милостив, — ответил за Васнецова другой голос.
Прямо над ними, на свёрнутых коврах сидел Абдулхан с маузером в руке.
— Да и Григорий нам поможет, правда?
Из-за рубки выступил человек в синих штанах с лампасами и казацкой фуражке. Теперь три чёрные дырки глядели на Лебедева.
— И он поможет, — Абдулхан сделал движение рукой и с другой стороны рубки вышел старый татарин с английской винтовкой.
И вот уже четыре человека ждали, что скажет беглый приват-доцент.
— Но у меня может не получиться.
— А ты постарайся, — сказали двое, а татарин и человек в лампасах промолчали.
— Дельта может быть маленькой, совсем маленькой — несколько недель, не больше! — сорвался на крик Лебедев.
— А ты постарайся, — сказали ему снова.
Лебедев вдруг почувствовал странную пустоту вокруг себя. Он понял, что сопротивляться бесполезно, но всё же сказал:
— Время не просто пойдёт вспять. Всё изменится — это вроде того, как если убить одну бабочку… То есть, если убить куколку, а из неё не вырастет бабочка. То есть, убить куколку… Господи!.. Неизвестно, что будет — всё вокруг может поменяться. Будет не то, что вы думаете.
— Собирай машину, — просто сказал Абдулхан.
Слова сбились в горле Лебедева в сухой комок. Этот комок стал враспор, и из горла не лез. Лебедев понял, что дело его проиграно, свобода и Англия отсрочены, а, может быть, утеряны навсегда.
Он всхлипнул и сбил крышку с ящика, где лежал щит управления.
Баркас перестало качать — монтаж шёл споро, казак и татарин под руководством Лебедева установили над баркасом сборники солнечной энергии, отчего кораблик стал напоминать гигантскую стрекозу с фиолетовыми крыльями.
Два красноармейца — старый и молодой — лежали на краю бухты, и Ухов наблюдал за происходящим на баркасе через линзы немецкого артиллерийского бинокля.
Баркас всё медлил с отплытием, и Ухов нервничал. Он боялся, что его уловку разгадали, и Начальник Контрабанды исчезнет, уйдёт безвозвратно, словно нож, упавший в воду. Отряд Рахмонова достал бы баркас ружейным огнём, но Рахмонов опаздывал.
— Жалко Васнецова, да. Зачем он туда полез, застрелят. — Ухов вспомнил таможенные правила, что несколько дней подряд читал от скуки на стене таможни: «В таможенных учреждениях Кавказского края и в Астраханской таможне с товаров и предметов в товарном виде, необъявленных пассажиром, но открытых при досмотре, взыскивается тарифная пошлина в размере одной с третью пошлины, предметы же скрытые конфискуются, на общем основании, как тайно провозимые, при чем конфискации предшествует составление протокола, за подписями всех досматривавших и самого пассажира, если он от сего не откажется».
Ухов представил, как пьяный Васнецов требует от Абдулхана особой пошлины, а тот, не считая, швыряет ему под ноги золотые монеты.
Но шли часы, на корабле развернули странную конструкцию, а Начальник Таможни был ещё жив.
Ухов бы понял, если Васнецов решил бежать, но тут явно был не тот случай. Он сплюнул и посмотрел на напарника, вдруг удивившись перемене. Павлик, лежащий рядом, побелел и выпучил глаза.
— Т-т-товарищ Ухов, я… Я, кажется, бикфордов шнур выдернул.
— То есть, как, Павлик?
— Ну, когда мы уходили, я упал, и рукой схватился…
— Точно помнишь?
— Не знаю. — Павлик по-детски шмыгнул носом. — Не знаю, Фёдор Иванович! Не знаю.
Ухов замешкался, а Павлик вдруг скинул с себя гимнастёрку, галифе и ботинки.
— Стой! Ты куда?! — но Павлик уже полз змеёй к берегу.
Он проплыл под водой половину пути, глотнул воздуха, и в следующий раз вынырнул уже около борта.
Фиолетовые пластины висели у него над головой, он схватился за какой-то шкворень, потянулся и покатился по палубе мимо бочек и ящиков. Работа шла на другой стороне баркаса, и он тихо юркнул вниз, к машине.
И тут же увидел, что адская машина в исправности. Шнур на месте и понемногу обволакивается дымком.
Павлик всхлипнул, но вспомнил, как комиссар Шкловер говорил о смерти.
Нет ничего лучше, чем погибнуть за Революцию, так говорил Исай Шкловер. Вспомнил Павлик комиссарские слова и, сделав над собой усилие, постарался навсегда забыть чёрные глаза туркестанских девок и плоскую, как стол, родную украинскую степь.
Машина была готова к действию. Стрелки дрожали на правильных, указанных теорией, делениях. Лебедев проверял напряжение, заглядывал в колбы, где грелись волоски металлических нитей, но — медлил.
Начальник Контрабанды и Начальник Таможни сидели рядом.
Они стали равны друг другу — отражения соединились.
Васнецов отстегнул протезы и думал о своём умершем сыне, глядя в выгоревшее белёсое небо. Он вспоминал его детские волосы, которые перебирал ветер с моря.
И Васнецов думал о том, что скоро увидит сына.
Абдулхан глядел вдаль, покусывая кончик незажженной сигары, чувствуя на шее дыхание невидимой Сашеньки. Её кровь засохла на френче между лопаток Абдулхана, превратилась в коросту, и ему казалось, что это любимая женщина положила ему ладонь на спину. И он тоже думал о скорой встрече.
Аллах прав, это будет последний рейс, сказал себе Абдулхан.
— Всё, — крикнул Лебедев, сорвавшись на фальцет. — Включаю! С Богом!..
Ухов увидел, как вместо баркаса по поверхности воды плывёт огромный шар, сверкающий на солнце.
Ухова не отбросило взрывной волной, как он ожидал, а наоборот, потянуло туда, к воде. Его тело покатилось через кустики колючек, но в последний момент Ухов успел схватиться за повод мёртвого коня. Он крепко ударился головой и на минуту потерял сознание.
Когда он поднял голову из-за крупа, то увидел, что баркас исчез, а часть моря, где он стоял — замёрзла. Он ничего не мог понять, кто он и где он. В голове звенело, и память возвращалась медленно. Но это возвращение было неотвратимо. Можно надеяться, думал Ухов, что когда пройдёт контузия, то вспомнится всё.
Лёд играл гранями кристаллов, в точности повторяя форму волн.
Ухов ступил на него, вспоминая Волгу и своё детство, крик дядьки, утонувшего в ледоход. Всё вокруг потрескивало, шуршало — это лёд начал таять на жарком солнце.
Баркаса не было, не было никого.
«Интересно, где они?» — подумал Ухов. — «То ли динамитная сила стёрла их в пыль, то ли они в своём прошлом. Одно ясно — Революция на месте, и Красная Армия тоже при ней».
Он вернулся с неверного льда и сел на песок. Табак кончился.
Он ещё раз обшарил карманы. Табак в этом мире остался только на стене таможни, в строках, щедро усыпанными ятями и ерами — «Допускаются беспошлинно начатые: пачка нюхательнаго и картуз курительнаго табаку, а сигар — не более одной сотни на каждое лицо».
И в этот момент на дюне появился, блестя очками, красный герой Рахмонов. Ржали в отдалении кони его отряда, звенела сбруя.
— Эй, как тебя, где они?
— Взорвались, — ответил специальный человек Ухов. — Все взорвались. И этот, с таможни — как его… Фамилия как у художника…
— А, Васнецов. Васнецова жалко, хороший был человек, хоть и офицер. А ты тот самый, кого нам прислал товарищ Ибрагимбеков? Тебя как зовут, я забыл?
Человек в выгоревшей гимнастёрке почесал за ухом и сказал:
— А зовут меня Ухов Фёдор Иванович. Вот так, товарищ Рахмонов.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
27 октября 2015
(обратно)
Архивариус (День архивного работника. 28 октября) (2015-10-28)

У моего печального друга математика Ивана случилась странная история — пропала у него девушка.
Сгинула, как слизала бы корова языком — да кто найдёт посреди Третьего Рима корову. Полицейские искать бы её не стали — ибо Иван был не родственник, а неизвестное романтическое образование. Веры ему было мало. К тому же он обнаружил, что вовсе не знает, где она живёт — и дни шли за днями. Я думал, что мой учёный статистик остынет, но тоска его росла, как бурьян на заброшенном дачном участке. И мы пошли к Архивариусу.
Архивариус очень любил, когда его так звали. А остальных архивариусов отменили, и было теперь имя — архивисты.
В октябре я обязательно поздравлял его с профессиональным праздником, а тут представился странный, внеочередной повод.
Позвонить ему было нельзя — и в этом было некоторое родство Архивариуса с пропавшей. У него действительно не было никакого телефона — ни домашнего, ни служебного. Служебный, впрочем, был — но какой-то специальный, типа кремлёвской вертушки или внутреннего коммутатора.
Мы вышли из метро на Чистых прудах и свернули на узкую улицу — место тут было странное. На углу у Макдоналдса стоял сумасшедший нищий, который посмотрел на нас, изогнув шею. Он посмотрел на нас как-то снизу, и забормотал свою нехитрую историю: «Родился на улице Герцена. В гастрономе № 22. Известный экономист. По призванию своему библиотекарь. В народе — колхозник. В магазине — продавец. В экономике, так сказать, необходим. Фотографируйте Мурманский полуостров — и получаете te-le-fun-ken. И бухгалтер работает по другой линии. По линии «Библиотека». Потому что не воздух будет, а академик будет! Ну вот можно сфотографировать Мурманский полуостров. Можно стать воздушным асом. Можно стать воздушной планетой. И будешь уверен, что эту планету примут по учебнику. Значит, на пользу физики пойдет одна планета. Величина — оторванная в область дипломатии — дает свои колебания на всю дипломатию. А Илья Муромец дает колебания только на семью на свою…»
И мы быстро миновали его.
Но место тут славилось не только безумными нищими.
Идя старой Москвой, внимательный пешеход видел иной город, Москву призрачную — будто едва видимые нити указывали на недостроенные проспекты и призраки снятых статуй.
При прежней власти тут пробивали к центру широкую улицу, но, будто не предвидя заранее, упёрлись в старинный квартал. Улица кончилась, упёршись в Бульварное кольцо, обратив в пыль несколько исторических кварталов. Перед ней стоял дом, который постеснялся сносить знаменитый архитектор-басурман, что построил то здание, в котором сидел Архивариус.
Здание это было гигантским и выходило на две улицы. Что-то архитектору всё же не удалось — он хотел больше стеклянных переходов и окон, но не учёл русскую зиму. Не в силах оказались строители придумать систему обогрева и охлаждения. Не вышла у него и пешеходная зона под гигантскими, стоящими на сваях, корпусами.
Зато остального было в избытке — даже лифты тут были необычные — медленно, но неостановимо движущиеся. Здесь всё остановилось в тот неизвестный год, когда конструктивизм у нас сменился имперским ампиром. А ведь казалось, что вот-вот и к мачте на крыше пришвартуется дирижабль. В здании действовала пневматическая почта — по крайней мере, я видел, что как-то Архивариус засунул какую-то бумагу с красной звездой и аббревиатурой «РККА» в пластмассовый пенал и, повернув рычаг, запулил куда-то в глубины здания.
Я ещё спросил, как это всё великолепие не снесли при ремонте. Мой друг, бывший тогда помощником Архивариуса, сказал, что собирались — новый начальник действительно хотел снести всё лишнее, предать анафеме дубовые панели и прозрачные трубы под потолком, заменить всё пластиком и алюминием, но ему сделали внушение. «Сделали внушение» — звучало угрожающе, и я как-то переспросил.
— Нет-нет, с ним всё нормально, — ответил мой друг. — Но он переменил решение. Да и сам переменился.
Это звучало ещё более сильно, но я не стал расспрашивать дальше.
Сейчас мы заказали пропуска, подождали минут пять и поднялись всё в тех медлительных лифтах без дверей, что двигались, кажется, вечно.
Приятель мой нервничал — и поделом ему было.
Я надеялся, что Архивариус даст ему не совет, не справку, а просто успокоение. Но настоящий мой план был жесток и мне было немного страшно за Ивана — потому что я всегда опасался ситуаций, в которых вход — гривенник, а выход — рубль. Именно так всегда и приходится платить за исполнение желаний.
Именно так бывает, когда человеку, находящемуся на грани нервного срыва, кто-то посторонний советует поехать за город или напиться. И вот на следующий день, с раскалывающейся от похмелья головой, страдалец понимает, что жизнь переменилась. По крайней мере, проблемы у него другие.
Я позвонил в дверь в торце коридора.
Где-то в отдалении запел зуммер.
Прошло несколько минут, внутри двери что-то щёлкнуло, и она открылась.
Архивариус стоял перед нами — седенький, чем-то похожий на генералиссимуса Суворова, каким его изображают в фильмах.
Он молча всмотрелся в моего приятеля и смотрел ему в глаза долго — может быть, минуту.
Наконец он быстро отвёл глаза и взмахнул рукой:
— Я — Карл Иванович. Проходите, молодые люди.
Иван ему, кажется, понравился, и я знал, что это за проверка.
Архивариус Карл Иванович был непрост.
Всякого приходящего он ощупывал взглядом, это длилось недолго, секунды две. Но за эти секунды он успевал увидеть всю жизнь гостя и то, что он — негоден.
Меня он осматривал десять секунд — и из-за этой задержки потом выказывал большее расположение, чем многим. На восемь долгих секунд моя жизнь занимала его больше, чем иные. Потом я узнал, что было ещё минимум двое, чьи кандидатуры были тоже отвергнуты, но спустя полминуты.
Сейчас я, хоть и любил Ивана, но всё же испытал укол ревности.
Так или иначе, Архивариус несколько лет назад позволил мне приходить к нему на службу.
Я пользовался этим правом нечасто и сегодня не превысил незримого лимита.
Мы сели на дубовую скамью, покрытую корабельным лаком. Между нами и Архивариусом был широкий библиотечный стол. За деревянным барьером начинались шкафы хранилища, и, казалось, дальше уходили в бесконечность.
Висела над нами кованая люстра с серпами и молотами, горела зелёная лампа за столом архивариуса.
Стала нас обволакивать странная библиотечная тишина, в которой строго, как суровый доктор, на обходе, шли напольные часы, похожие на поставленный стоймя гроб.
Пожалуй, стоило ради сохранения всего этого великолепия сделать внушение новому директору.
Товарищ мой назвал имя своей знакомой, но Карл Иванович сделал странное движение рукой.
— Нет, молодой человек, — перебил он. — Вспомните, что-нибудь, какую-то черту, которая вам запала в душу. Не то, что вы считаете особой приметой, а то, что вам запомнилось самому. Первое, что придёт в голову.
Товарищ мой замялся.
Он помедлил, посмотрел на меня, ища поддержку, и наконец, сказал:
— Ну вот она… Она говорила мне «Миленький», и так говорила, будто она не сейчас жила, а была крестьянкой лет двести назад. Не всегда говорила, вы меня понимаете? В определённый момент… Но так я слышал это слово, и ноги у меня подкашивались.
— Очень хорошо, большего и не нужно.
Карл Иванович достал большую амбарную книгу и неспешно пролистал её.
— Вот что, месяца два вы её не видели?
— Точно так.
— Ну, так больше не ищите. Не надо вам её искать, всё для вас закончилось и ничего больше не нужно.
Товарищ мой быстр на язык, а иногда даже скандалист, и я думал, что он начнёт спорить, но нет, он вдруг согласился, только несколько поник головой.
— Не надо, не надо, — повторил Архивариус.
Слова его были произнесены так, что прямо в воздухе разлилась гипнотическая уверенность, что не надо. Никто не виноват, но — не надо. Хватит, одним словом.
По моему знаку приятель достал припасённую в портфеле большую бутылку коньяка, и Архивариус позвонил.
На звонок вышла женщина в синем халате с тремя бокалами на подносе.
Она неодобрительно оглядела нас, но поставила поднос на стол совершенно беззвучно. Кроме бокалов там был только блюдце с шоколадом и бутылка с минеральной водой.
Женщина исчезла так же беззвучно, а я принялся разливать коньяк.
— Вы понимаете, что теперь окажете мне услугу? — спросил Архивариус.
— Ну, да — ответил мой приятель, которого, впрочем, я предупредил заранее. — Хотя лучше было бы деньгами.
— Вам, конечно, лучше было бы деньгами, это понимают все умные люди, лучше деньгами и сразу развязаться, но жизнь сложнее, — сказал Архивариус. — Вы ведь занимаетесь статистическим учётом?
— Ну да, это не секрет.
— Я бы с вами потом побеседовал по этому поводу. Мы ведь с вами коллеги — я сам провёл несколько переписей. Переписей населения, — подчеркнул Карл Иванович.
Перед нами, уходя вдаль, стояли шкафы с картотекой.
Это была картотека существ — я чуть было не сказал «живых существ», но это было неверно. Многие из тех, кто значился в картотеке, давно умерли, а некоторые сделали это дважды и трижды. Иные сроду не были живыми.
Приятелю моему это было невдомёк, а я и не хотел, чтобы он пугался прежде времени.
Однажды картотеку решили оцифровать. Ничего из этого не получилось.
Копирование состоялось, но всё тут же перепуталось, вышло криво, и веры файлам не было. Тут же электронную картотеку слили в Интернет, а потом авторы с дрожащими от жадности руками, перевели её обратно на бумагу и издали под яркими обложками.
Я думал, что произойдет конец света, да только вышло все не страшно, а смешно.
Будто бы выбежал на площадь человек и стал рвать рубаху на груди, что только что видел инопланетян.
Сыпал именами известных людей, горячился, но с каждым словом все дальше отшатывались от него слушатели. Оно, конечно, всегда любопытно узнать, что министр — колдун-алхимик, а его заместитель промышляет охотой на вампиров, да только все это сюжеты именно из-под глянцевой обложки. На обложке этой роскошная дева стонет в объятиях вампира, а в вампира целит красавец с голым торсом.
Так все и ушло в газетную сплетню, а это значит — в песок, в пустоту.
Я и сам читал эти статьи — безопасные, как остывший пепел.
— Статистика? — спросил мой приятель. — Но я не работаю с гостайной. И с коммерческой — тоже.
— Зачем нам эти тайны? — успокоил его Карл Иванович. — У нас самих этих тайн избыток. Я знал многих людей, что крупно пострадали от излишне серьёзного отношения к разным тайнам.
— А за что их прищучили?
— За то, что слишком честные были. Им сказали — считай людей. Они и посчитали, но только людей. Вы помните перепись тридцать седьмого года?
— Помню, конечно, ну не собственно помню — знаю… Знаю. Там всех расстреляли.
— Какие глупости, но, в общем, расстреляли, конечно. Но головы были горячие — им велели пересчитать прописанных граждан, а они пересчитали людей. Вот в чём штука.
И эти романтики вместо ста семидесяти миллионов получили сто шестьдесят один. Ну и начался скандал — причём с двух сторон. Во-первых, точно оценили количество нелюди, и девять миллионов — это не шутка. Во-вторых, никто не ожидал такого расхождения. Дальше было сложно — пустили слух, что вскрылись данные о жертвах и всё такое. В тридцать девятом провели перепись снова — и тут уж вышло сто семьдесят миллионов, да и то два миллиона накинули за погрешность. Ещё Краваль тогда работал — он и пострадал первым.
— Иван Адамыч? — вдруг переспросил Иван.
Карл Иванович всмотрелся в глаза моему приятелю, но тот не дрогнул.
— Вы интересный человек, да и Саша вас рекомендовал. Мне нравится ваша реакция, и ваше доверие — вы ведь мне доверяете, да?
Тогда, восемьдесят лет назад нам пришлось спустя два года проводить новую перепись, произошла суматоха, потеря самообладания у некоторых товарищей… Нам бы не хотелось, чтобы это сейчас повторилось.
И стало понятно, что его-то Карла Ивановича, из архивариусов не вычистишь и не отменишь.
Церковь его была — архив, а алтарь в нём — картотека.
И не было у него преемника. Именно поэтому он ощупывал взглядом пришельцев, и сейчас принял какое-то решение, а пока продолжал рассказывать.
— Нам бы не хотелось катаклизмов. В тридцать восьмом, когда ваших родителей ещё не было на свете, лётчик Чкалов пролетел под мостом.
— Я знаю.
— Нет, не знаете. Он несколько раз летал под мостами, и наконец нарушил математическую связность. Взлетев с Ходынского аэродрома, он направился на юго-восток и полетел на опытном истребителе под Большим Каменным мостом — тогда говорили, что Сталин стоял у своего окна в Кремле и видел всё это. На самом деле, это не так — Сталин уехал тогда на ближнюю дачу.
Лётчик пролетел под мостом и десять секунд отсутствовал — только спустя десять секунд машина вылетела оттуда и взяла курс на Ходынский аэродром. Да только самолёт не долетел туда и рухнул в то место, которое теперь зовётся Хорошевским шоссе.
Я хоронил лётчика Чкалова — хоронили, конечно, урну. Потому что когда мы прибыли на место катастрофы, оцепленное красноармейцами, то нашли среди обломков тело седого старика. Лётчика Чкалова опознали только по трём его орденам. Мы до сих пор не знаем, где он провёл эти годы и что видел, хотя ходят очень странные слухи. Они ходят, разумеется, среди своих.
Вы представляете, как бы
отнеслись к идее нарушения связности пространства передовые рабочие завода имени Ильича, бывшего Михельсона? Или физик Вавилов, что ещё хуже?
Вот Саша вам расскажет подробности, если захотите.
И всё это — предмет учёта, тема для работы с документами.
В этот момент у нас над головой что-то затряслось, зашуршало, и в специальный лоток шваркнулся серебристый цилиндр пневматической почты.
Карл Иванович не обратил на это никакого внимания.
Мы выпили ещё — меня, правда, немного раздражало, как Карл Иванович пьёт. Алкоголь, кажется, у него в организме просто не усваивался.
— А вам не жалко прошлого? — спросил вдруг Иван. Вот вы занимаетесь прошлым, а оно никому не нужно? Что будет ловчее рассказано, то и есть прошлое.
— Это вам так кажется. Просто в какой-то момент думающий человек понимает, что нет ничего нужного всем сразу. Есть такое мнение, что все изменения скачкообразны, особенно изменения в укладе жизни. Вот в 1913 году всё, казалось, было — самолёты, подводные лодки и огромные корабли. Были радио и телефон, канализация и центральное отопление. Были автомобили, лифты и холодильники. Даже Теория Относительности.
А потом следующий скачок произошёл в начале пятидесятых — ракеты большой дальности, возможность полететь в космос, ядерная энергия и счётно-решающие машины. Всё это уже было — а потом снова шло время, и цивилизация сосредотачивалась. И всё подлежит учёту и переписи.
— Что, сейчас будет новый взрыв?
— Это неважно, главное, чтобы не было паники. А то и вам, и мне придётся попробовать себя в роли капитана. Того капитана, что выстрелами из револьвера отгоняет озверевших джентльменов во фраках от шлюпок, чтобы посадить туда женщин и детей.
Мы вышли из здания и молча пошли по Мясницкой.
Я думал, что и в этот раз всё прошло правильно — человек, вдруг споткнувшийся о личные страдания, ищет выхода, перемены участи. Так в старые времена каторжники от тоски и отчаяния совершали в остроге что-то такое, за что их отправляли дальше в глушь, бывало — на смерть. Это было наказанием, но участь менялась, и перед глазами у них теперь были новые картины.
Так произошло и с Иваном. Он шёл сосредоточенный, но не подавленный.
Явно этот разговор и всё произошедшее ему понравилось.
Нищий на углу словно ждал нас и, только мы поравнялись с ним, снова запел свою песню: «А на улице Герцена будет расщепленный учебник. Тогда учебник будет проходить через улицу Герцена, через гастроном № 22, и замещаться там по формуле экономического единства. Вот в магазине 22 она может расщепиться, экономика! На экономистов, на диспетчеров, на продавцов, на культуру торговли… Так что, в эту сторону двигается вся экономика»…
Иван остановился перед нищим и сказал, прямо глядя нищему в лицо: «Илья Муромец работает на стадионе «Динамо». Илья Муромец работает у себя дома. Дак что же, будет Муромец, что ли, вырастать? Илья Муромец, что ли, будет вырастать из этого?»
И тогда нищий поклонился ему.
В пояс поклонился, как новому начальнику.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
28 октября 2015
(обратно)
Диалог CDLVI (2015-10-29)
— У меня тогда ещё вот какой пиджачок был — практически Курёхин. Ленин-гриб. Активизируются белые марроканские карлики, и переговоры заходят в тупик: война становится реальностью. Жидкий кобальт Шварца способен воспламенять планктон, пасущийся на поверхности. Учитывая ситуацию, лорд Джордж выступает у лорда мэра в английском парламенте… В этой непростой обстановке два капитана самоотверженно противостоят силам хаоса, удерживая космический баланс истории. Вот она, подлинная история девяностых.
— А малиновый пиджак? С голдой?
— С голдой можно поискать, а малинового не было, был из кашмира слоновой кости, дивной красоты.
— Из кашмира слоновой кости даже лучше.
— У всех был из кашемира, только у меня скорее беловатый. Хотя нет, тоже слоновой кости.
— Господи, вы еще свои пиждаки помните? Я уже прежних мужей фамилии не помню, не то, что лица, а вы — про пиджаки!
— Ну, так чего у нас там пиджаков-то, полторы дюжины на нос от силы, ну две. Иное дело мужья))
— Вот при переездах это проявляется наиболее ярко!
— Да, часто выпадет что-то из шкафа — пыльное, уже высушенное временем — и не поймёшь, муж это какой-то, или неучтённый любовник.
И начинаешь всматриваться в стенки шкафа — не нацарапал ли он ногтями своё имя.
Извините, если кого обидел.
29 октября 2015
(обратно)
… (2015-11-03)
…но это ещё что — я видел писателя Пронина.
Я сидел в своей чистенькой маленькой комнатке, и вдруг ко мне вошли опоздавшие к лету писатели-фантасты. Главным у них был писатель Пронин. Я, правда, не читал книг писателя Пронина, но всегда ценил его за чуткую душу, зоркость глаза и за то, что он не спит по ночам и комментирует разные разности в Живом Журнале. А уж когда я его видел воочию, ему всё время давали пухлые конверты с деньгами. Это ещё больше внушало уважение.
Не сел бы я с каким-нибудь басурманом за стол. А с писателем Прониным — сел.
Ну вот скажи, дорогой читатель, какой резон мне пить с американцем? Ну какой?
Ну был бы хотя бы англичанин и с каким-нибудь секретом от нашего государства. Аглицкое парей держали б.
Ну решили б ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно: что один, то непременно и другой, и кто кого перепьет, того и горка. Началось сего дни пари, и пили б мы до моего очередного отъезда в Ясную Поляну, да шли б наравне и друг другу не уступали и до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув бы за окно, увидал, как оттуда чёрт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только англичанин б видал чёрта рыжего, а я б говорил, будто он тёмен, как мурин.
А потом бы хозяева нас заперли, дали рому, и вина, и холодной пищи, чтобы могли и пить, и есть, и своё пари выдержать, — а горячего студингу с огнем не дали бы, потому что в нутре может спирт загореться. Так и сидели б, и пари ни один из нас друг у друга не выиграл; и наступила б оттого такая дружба народов — только держись.
А с Прониным сел бы я за стул и за стол бы сел, потому что писатель Пронин двоих англичан стоил.
Так вот, писатель Пронин ввалился ко мне в комнатку и сноровисто разбил тарелку. Потом он оглянулся на меня и закурил вонючие писательские папиросы. Такие папиросы специально выдают писателям, чтобы всем остальным было ясно, что писатель рискует жизнью на благо человечества. Писатель Пронин выдохнул чёрный дым и хитро посмотрел мне в глаза: что, забыл, дескать, меня? Я действительно забыл.
Дело в том, что писатель Пронин был похож на Русскую Освободительную Армию — не ту, что ходила под командованием какого-то упыря-предателя, а настоящую, что время от времени давала прикурить каким-то негодяям и освобождала от них сопредельные народы. Сопредельные народы жутко радовались и сыпали под гусеницы танков Русской Освободительной Армии розовые лепестки, корицу, кардамон и лавровый лист. Но потом дело принимало иной оборот — Русская Освободительная Армия останавливалась на привал, хоронила своих павших бойцов, разматывала портянки и доставала оловянные кружки.
Сопредельные народы понимали, что портянки воняют, негодяев всё равно уже нет, а лавровый лист, кардамон и корица куда-то делись. Сопредельные народы переименовывали выживших пришельцев в Русскую Оккупационную Армию и начинали ворчать. А Русская Оккупационная Армия сначала противно уставу нервно курила на караульных постах, а потом убиралась восвояси. Сопредельные народы собирали окурки и посыпали ими могилы павших оккупантов.
Конечно, этого можно было избежать, если бы прямо на границе каждому освободителю выдавать под роспись специальную бумажку, в которой написано, что он обязан быстро проучить негодяев и, если останется живой — может выпить десять оловянных кружек крепких напитков и тут же валить восвояси. Но об этом всё время забывали и гости, и хозяева. И вот выходит какая-то дрянь: кто прав — неизвестно, и единственные, кому хорошо, так это убитым освободителям-оккупантам из русской армии, которые сидят среди облаков с небесными оловянными кружками, пьют на вдохе палёную амброзию и никогда не смотрят вниз.
Так вот, писатель Пронин грохнул тарелку оземь и, заскучав, пошёл смотреть на других людей, правда, и пообещав мне, как Карлсон, десять тысяч тарелок взамен одной разбитой. Потом он постучался ко мне ночью — тарелки у него опять не было, зато он был увешан бутылками, как революционный матрос гранатами. Пахло при этом от него кислым, как из жбана с суслом.
Я очень переживал — потому что я знал историю про то, как джип писателя Пореенко остановили на выезде из пансионата автоматчики и потребовали вернуть чайную чашечку за шестнадцать рублей.
За тарелку автоматчики просто бы меня расстреляли у КПП — даже не вывели бы в лес, чтобы послушать пение птиц напоследок.
Я не пустил его к себе, но, выйдя через две минуты, увидел, как писатель Пронин сидит в другой комнате. Он сидел, будто Рембрандт, с прекрасной феминой на коленях и читал трезвым хорошо поставленным голосом возвышенные стихи. Пахло теперь от него розовыми лепестками, корицей и кардамоном.
Стало понятно, что на стороне писателя Пронина пустила корни и жарко дышит Великая Правда Жизни.
Поэтому я вздохнул и полез в ночную столовую, чтобы украсть оттуда недостающую посуду.
2006
Извините, если кого обидел.
03 ноября 2015
(обратно)
Чёрный кофе (День милиции. 10 ноября) (2015-11-10)

— Будете кофе? — официантка наклонилась к самому уху старика.
Он поднял на неё белые выцветшие глаза и дёрнул плечом. Официантка ненавидела его в этот момент — придётся потратить полчаса, чтобы понять, что он хочет. Старик приходил каждое утро, и заказывал одно и то же, кофе с рогаликом или булочкой. То с рогаликом, то с булочкой. Но что сегодня… И она повторила ещё раз:
— Кофе?
Старик чётко выговорил слова, будто диктор учебного фильма:
— Кофе-малый, вместо рогалика коньяк на два пальца.
Коньяк он мог себе позволить, хотя пил всего два раза в год. Один раз — на день Поминовения павших, а второй сегодня, в День милиции. Давно не было никакой милиции, его товарищи давно превратились в пепел, всё переменилось.
И повсюду был кофе, вкус которого он узнал раньше многих. Теперь его можно было попробовать в любой забегаловке — но он застал иные времена.
Кофе он попробовал лет сорок назад.
Бронетранспортёр фыркнул, дёрнулся и рванул по проспекту, набирая скорость. Двадцать горошин бились в железном стручке, двадцать голов в сферических шлемах качались из стороны в сторону.
Рашида (тогда его никто ещё не звал Ахмет-ханом) взяли на задание в первый раз. Все смотрят на тебя как на чужака, все глядят на тебя, как на недомерка, ты ничей и никчемен — это было всего через месяц после натурализации. И поэтому лучше было умереть, чем совершить ошибку.
Грохотал двигатель — тогда на технике стояли ещё дизельные движки, электричество было дорого — и вот Рашид слушал рёв, обнимал штурмовую винтовку как девушку, стучал своей головой в шлеме о броню.
— Сейчас, сейчас, — сержант положил ему руку на плечо. — Сейчас, готовься. Не дрейфь, парень.
Бронетранспортёр ссыпал на углу двух загонщиков, ещё двое побежали к другому концу улицы. Слева переулок, справа забор, впереди одноэтажный шалман. Машина взревела, окуталась сладким дымом и ударила острым носом в стальную неприметную дверь. Отъехала и снова ударила.
Дверь прогнулась и выпала из косяка — туда в пыль прыгнули первые бойцы социального обеспечения. Вскипел и оборвался женский крик. Ударили два выстрела. Рашид бежал со всеми, стараясь не споткнуться — опаздывать нельзя, он молод, он самый младший, и он только что натурализован.
Ему нельзя опоздать.
Коридор был пуст — только два охранника, скорчившись и прижав колени к груди, лежали около развороченного проёма.
В ухо тяжело дышал сержант, резал плечо ремень винтовки.
Группа вышибала двери, проверяла комнаты и, наконец, уткнулась в новую стальную преграду. Скатали пластиковую колбаску, подожгли — и эта дверь, вынесенная взрывом, рухнула внутрь.
Сопротивления уже не было. Трое в комнате подняли руки, четвёртая — женщина — билась в истерике на полу.
На столе перед ними было то, за чем пришли бойцы. Ради этого несколько месяцев плели паутину капитаны и майоры, ради чего сержант мучил Рашида весь этот месяц.
В аккуратных пластиковых пакетах лежал коричневый порошок. Сержант наколол один из пакетов штык-ножом.
— Запомни, парень, — это и есть настоящий кофе. Лизни, давай.
Рашид послушно лизнул — на языке осталась горечь.
— Противный вкус.
— Ну, так без воды его никто не принимает.
И горький вкус остался на языке Рашида навсегда.
Прошло много лет.
Он видел много кофейных притонов — он видел, как в развалинах на юге города нищие наркоманы кипятят кофейный порошок на перевёрнутом утюге. Он видел, как изнеженные юнцы в дорогих клубах удаляются в туалет, чтобы в специальном окошке получить от дилера стакан кофе.
Потом картинка менялась — юнцы сначала хамили, потом сдавали друзей и приятелей, оптом и в розницу торгуя их фамилиями. Потом за ними приезжал длинный как такса электрокар с тонированными стёклами. Дело закрывали, а менее хамоватые и менее благородные посетители клубов отправлялись на кабельные работы.
Нищие кофеманы обычно молчали — терять им было нечего.
Коричневая смерть — вот что ненавидел Рашид Ахмет-хан. Тогда его ещё звали так, ещё год — и он сменит имя, он станет полноправным гражданином Третьего Рима. И никто не попрекнёт его происхождением.
А происхождение мешало, особенно на службе в Министерстве социального обеспечения. Кофе давно звали мусульманским вином.
Это был яд, который приходил с юга — там, на тайных плантациях, зрели зёрна. Там кофе сортировали, жарили и мололи.
На подпольных заводах стояли рядами кофемолки, перетирая кофе в коричневую пыль и удваивая его стоимость.
С юга текли коричневые контрабандные ручьи — вакуумным способом пакованные брикеты кофе перекидывали через границу с помощью примитивных катапульт, переправляли управляемыми воздушными шарами.
И каждый метр на этом пути всё более увеличивал стоимость коричневой смерти. Смерть двигалась к северу, запаянная в целлофан, будто в саван.
Человек не мог пройти через границу — умные мины превращали курьера в перетёртое мясо без взрыва. Но поток с юга, казалось, не нуждался в людях. Люди появлялись потом, когда появлялись потребители, когда перекупщики сменялись покупателями.
Банды кофейников с окраин сходились на сходки, назначали своих смотрящих, выставляли дозоры. На любое движение сил Министерства социального обеспечения они отвечали своим незаметным, но действенным движением.
Ахмет-хан хорошо знал историю коричневого порошка. Для него он был навсегда связано с рабством — везде, где был кофе в старом мире, там плантация была залита потом и кровью раба. Миллионы работников, имен которых он никогда не знал, и в правильности национальности которых можно было усомниться, положили свою жизнь за кофе. И вот это Ахмет-хан знал очень хорошо.
Коричневый бизнес был неистребим.
Не так давно начальство сообщило им, трудягам нижнего звена, что пришла новая эра.
Оказалось, что три студента-химика успешно выделили из кофейного сусла экстракт, который не нужно никуда возить. Они, повторив чикагский эксперимент Сатори Като, научились экстрагировать из кофе главную составляющую — белые кристаллы.
Один студент тут же погиб, попробовав продукт и по недоразумению превысив дозу. Двое других погибли через два дня при невыясненных обстоятельствах.
Но факт оставался фактом — теперь все жили по-новому.
Уходило старое время подпольных кофеен. Уходит время аромата и запаха, споров о том, нужен ли сахарный порошок, и если да — сколько его положить в кофейник.
Время ушло, и бандиты старого образца уступали место промышленной корпорации. Кофемахеры в кафтанах на голое тело, колдовавшие над раскалёнными песочными ящиками в потайных местах метрополитена, вытеснялись химиками в белых халатах.
Хейфец был человек с дипломом. Он получал особые стипендии, сутками не вылезал из библиотек — но по виду был похож на маленького мальчика, заблудившегося среди стеллажей. Четыре года он рисовал молекулярные цепочки, четыре года он складывал и вычитал, множились в его голове диаграммы состояний. Плавление и кипение бурлили в его мозгах — да только главными были алкалоиды и триметилксантин, в частности.
Людьми двигал кофеин — два кольца, кислородные и метильные группы — все было просто, как в учебнике, но Хейфец понимал, что ему нет пути в этот внешне простой мир. Тайный, обширный мир кофейных корпораций. Его знакомый, делая плановый опыт по метилированию теобромина, вдруг получил белые кристаллы — опрометчиво, хоть и невнятно, похвастался на кафедре. Он пропал не на следующий день, а через несколько часов. Ни тела, ни следов его никто не нашёл. Гриша Хейфец тогда сделал для себя вывод — цивилизация не хочет удешевления продукта, она хочет, чтобы продукт был дорогим. Вот что нужно глупому человечеству, которое не улучшить.
По крайней мере, улучшение человечества в Гришины планы не входило.
Он только внешне походил на мальчика, он даже отзывался, если его так окликали, но внутри работали рациональные схемы — весь мир описывался цепочками химических реакций.
Его друзья, так же как он, тайно экспериментировали с кофейным зерном — работать приходилось ювелирно, чтобы обмануть телекамеры, моргавшие из каждого угла. Друзья сублимировали воду из коричневого порошка, меняя давление и температурный режим. Это нарушало его картину мира — кофе должен был дорожать, а не дешеветь.
Поэтому он как бы случайно проговорился знакомой на вечеринке — шестерёнки невидимого механизма лязгнули, встали в новое положение и снова начали движения.
Мальчик Гриша внезапно поменял тему работы. Ушёл к биологам в другой экспериментальный корпус, а вскоре снял для экспериментов маленький домик рядом с университетом.
Осведомитель переминался на крыльце — его положение было незавидным. Информация оказалась ложной, дом был чист, не было в нём решительно ничего, кроме мебели, пыли и продавленных диванов. И сомневаться не приходилось. Ахмет-Хан сам вёл зачистку. Дом был пуст, но брошен недавно — даже кресло хранило отпечаток чьего-то тощего полукружия.
В подвале было подозрительно пусто — пахло помётом, по виду кошачьим. Но кошки разбежались, покинув клетки, сорвав занавески и исцарапав подоконник. На газоанализаторе мигал зелёный огонёк, мерно и неторопливо.
Ахмет-хан привалился к стене. Дело в том, что в доме тут и там гроздьями висел чеснок. Гирлянды чеснока струились по рамам, колыхались на нитках, свисавших с потолка.
Это было подозрительно — чесноком часто отбивали кофейный запах. Чеснок сбивал с толку служебных собак, да и газоанализатор в присутствии чеснока работал нечётко. Только пристанешь к хозяевам, ткнёшь пальцем в гирлянды и связки — тебе скажут, что боятся комаров. Комары — это был известный миф о существах, сосущих кровь по ночам. Комары приходили в сумерках и успевали до утра свести с ума укушенных и лишённых крови людей.
Никто не верил в комаров до конца, никто не мог понять, есть ли они на самом деле. В комиксах их представляли то как людей с крыльями, то как страшных зубастых монстров. Внутри телевизионного ящика то и дело появлялись люди, видавшие комаров — но они показывались, как и сами комары, только после полуночи, в передачах сомнительных и недостоверных. Некоторые демонстрировали следы укусов по всему телу — но Ахмет-хан не верил никому.
Он верил только в одно — что чеснок в Городе используется для того, чтобы отбить запах. Это знает всякий. И чаще всего он используется, чтобы отбить запах кофе.
Кофе — вот что искала его группа социального обеспечения. Но подвал был чист.
За окном нарезала круги большая птица, нет, не птица — это вертолёт-газоанализатор, барражировал над кварталом. И всё равно — не было никакого толка от техники.
Оставалось только взять пробы и нести нюхачам в Собес. Там несколько пожилых ветеранов, помнящих ещё довоенные времена свободной продажи кофе, на запах определяли примеси — ходили слухи, что лейтенант Пепперштейн мог отличить по запаху арабику от робусты. Но никто, впрочем, не доверял этой легенде.
Всё дело было в том, что Ахмет-хану было действительно нечего искать в подвале — потому что всё самое ценное оттуда вынес мальчик Гриша.
Гриша прошел по улице до угла спокойным шагом, вразвалочку. Он издавна усвоил правило, гласившее — если сделал что-то незаконное, иди медленно, иди, не торопясь, иначе кинутся на тебя добропорядочные граждане и сдадут куда надо.
Но пройдя так два квартала, он не выдержал — и побежал стремглав, кутая что-то краем куртки.
Мальчик Хейфец бежал по улице, не оглядываясь. Не спасёт ничего — ни вера, ни прошлые заслуги отца, первого члена Верховного Совета, потому что он работал на ставших притчей во языцех хозяев кофемафии.
А на груди у него, будто спартанский лисёнок, копошился пушистый зверок.
Этого зверка искали араби и робусты и дали за него столько, что Грише не потратить ни за пять лет, ни за десять — да только Гриша знал, что не успеет он потратить и сотой доли, как его найдут с дыркой в животе, с кофейной гущей в глотке. Так казнили предателей, а предателем Гриша не был.
Он бежал по улице и радовался, что дождь смывает все запахи — дождь падает стеной, соединяя небо и землю. Шлёпая по водяному потоку, водопадом падающему в переход, Хейфец пробежал тёмным кафельным путём, нырнул в техническую дверцу и пошёл уже медленно. Над головой гудели кабели, помаргивали тусклые лампы.
Зверок копошился, царапал грудь коготком.
Хейфец остановился у металлической лесенки, перевёл дух и начал подниматься. Там его уже ждали, подали руку (он отказался, боясь выронить зверка), провели куда нужно, посадили на диван.
И вот к нему вышел Вася-робуста.
— Спас кошку?
Хейфец вместо ответа расстегнул куртку и пустил зверка на стол. Зверок чихнул и нагадил прямо на пепельницу.
Вася-робуста сделал лёгкое движение, и рядом вырос подтянутый человек в костюме:
— Владимир Павлович, принесите кошке ягод… Свежих, конечно. И поглядите — что там.
Подтянутый человек ловким движением достал очень тонкий и очень длинный нож и поковырялся им в кучке. Наконец, он подцепил что-то ножом и подал хозяину уже в салфетке.
Вася-робуста кивнул, и перед зверком насыпали горку красных ягод.
Зверок, которого называли кошкой, покрутил хвостом, принюхался и принялся жрать кофейные ягоды.
В этот момент Хейфец понял, что материальные проблемы его жизни решены навсегда.
Ахмет-хан сидел в лаборатории Собеса и стаканами пил воду высокой очистки. Старик Пепперштейн ушёл, и пробы для анализа принимал его сверстник Бугров.
Он звал его по-прежнему — Рашидом, и Ахмет-хан не обижался. У них обоих была схожая судьба — недавняя натурализация, ни семьи, ни денег — один Собес с его государственной службой.
У Бугрова в витринах, опоясывающих комнату, были собраны во множестве кофейные реликвии — старинные медные ковшики, на которых кофе готовился на открытом огне и в песочных ящиках, удивительной красоты сосуды из термостойкого цветного стекла, фильтрационные аппараты, конусы на ножках или фильтр, что ставили когда-то непосредственно на чашку, электрические кофеварки, в которые непонятно было, что и куда заливать и засыпать.
Чудной аппарат блистал в углу хромированным боком. Этот аппарат состоял из двух частей, и водяной пар путешествовал по нему снизу вверх — через молотый кофе. Набравшись запаха и кофейной силы, этот пар транспортировал их в верхнюю часть.
Старик Пепперштейн рассказывал сослуживцам, что по цвету кофейной шапки из этого аппарата он может определить стоимость и состав кофе до первого знака после запятой.
Но кто теперь смотрит на эти шапки — в эпоху растворимых кристаллов и суррогатного порошка.
— Ты слышал про легалайс? — спросил Бугров, наливая ещё воды.
— Про это дело много кто слышал, да только непонятно, что с этим будет. Вчера на совещании говорили, решён вопрос со слабокофейными коктейлями. Это всё, конечно, отвратительно.
— Знаешь, я иногда думаю, что кофе нам ниспослан сверху — чтобы регулировать здоровье нации. — Бугров был циничен, проработав судмедэкспертом десять лет. — Я вскрывал настоящих кофеманов, а ты только на переподготовке слышал, какая у них сердечно-сосудистая, а я вот своими руками щупал. Всех, у кого постоянная экстрасистолия, можно сажать.
Иногда я думаю, что наше общество напоминает котелок на огне — вскипит супчик, зальёт огонь и снова кипит. Я бы кофеманов разводил — если бы их не было. Да ты не крути головой, тут не прослушивается — а хоть бы и прослушивали, куда без нас.
Мы состаримся, и над нами юнцы жахнут в небо, как и положено на кладбище ветеранов, и всё — потому что нас некуда разжаловать. А вернее, никто не пойдёт на наше место.
Ахмет-хан соглашался с Бугровым внутри, но не хотел выпускать этого согласия наружу. Он был честным солдатом армии, которая воевала с кофеманами. Общество постановило считать кофеманов врагами, и надо было согнуть кофеманов под ярмо закона.
Это было справедливо — потому что общество, измученное переходным периодом и ещё не забывшее ужас Южной войны, нуждалось в порядке. Оно нуждалось в законе, каким бы абсурдным он кому ни казался.
Сам Ахмет-хан мог бы привести десяток аргументов, но главным был этот — невысказанный.
Красные глаза кофеманов, их инфаркты, воровство в поисках дозы — всё это было.
Но главным был общественный запрет. Нет — значит, нет.
— Бугров, я сегодня видел странное место. Ни запаха, ни звука. Нет кофе в доме. А по всем наводкам, это самое охраняемое место Васи-робусты.
— Бывает, — ответил Бугров, прихлебывая воду. — Может, запасная нора.
— Да нет, у меня чутьё на это. И подвал весь загажен. Клетки, правда, пустые — тут Ахмет-хан поднял глаза на Бугрова и удивился произошедшей перемене.
— Клетка, говоришь… А большая клетка?
— Метр на метр. Их там две было — обе пустые, загажено всё…
Бугров поднялся и включил экран в полстены.
— Вот кто жил в твоём подвале.
Мохнатые звери копошились на экране, дёргали полосатыми хвостами, совали нос в камеру.
— Это виверра, дружок. С этой виверрой Вася-робуста делает половину своего бизнеса — она жрёт кофейные плоды и ими гадит. Их желудочный сок выщелачивает белки из кофейных зёрен, а само зерно остаётся целым. Цепочки белков становятся короче… А впрочем, это спорно. Главное, что одно зернышко, пропущенное через виверру, стоит больше, чем мы с тобой заработаем за год. Я тебе скажу, если бы ты поймал виверру, то был бы завтра майором.
— Ты думаешь, мне хочется быть майором?
Бугров посмотрел на него серьёзно.
— Если бы я думал, что хочется, не стал бы тебя расстраивать. Наша с тобой служба — что рассветы встречать: вечная. А человечество несовершенно — всё в рот тянет. Да много ли съест наша виверра, а?
Ахмет-хан вздохнул — жизнь почти прожита. Он помнил, как работал под прикрытием и в низких сводчатых залах сам молол кофе для посетителей. Он помнил старых предсказателей, которые ходили между столами и предсказывали будущее по гуще. Гущи было много, и хотя глотать её не принято, но для вкуса настоящего кофе, густого и терпкого, плотного и похожего на сметану — она была необходима.
Тогда гуща текла из фарфоровой чашки, гадатель отшатывался, смотрел на Ахмет-хана безумными глазами — а в подпольную кофейню уже вбегали десантники Собеса, кладя посетителей на пол…
И вот жизнь ему показывала ещё раз, что все логические конструкции искусственны, а люди ищут только способа обмануться.
Он посмотрел ещё раз в глаза виверре, что кривлялась и прыгала на экране, и решил, что оставит её живого собрата в покое.
Хейфец смотрел на старика за соседним столиком, ожидая официантку. Известно было, что старик приходит в кофейню каждое утро. В этот раз он заказал коньяк — видимо, день рождения или кто-то умер. У таких людей одинаковы и праздники, и похороны.
Хейфец всегда точно опознавал таких — тоска в глазах, свойственная всем не-нативам Третьего Рима. Но у этого была прямая спина: видимо, бывший военный, пенсия невелика, но на утреннюю чашечку чёрного густого кофе хватает.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
10 ноября 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-11-12)
— Бездарный старик! Неталантливый сумасшедший! Еще один великий слепой выискался — Паниковский! Гомер, Мильтон и Паниковский! Теплая компания!
Илья Ильф и Евгений Петров «Золотой телёнок»
Я наблюдаю очень интересный феномен. По кабельному телевидению я смотрю среди прочего биографический канал.
Ну, натурально, там двадцать четыре часа в сутки в ротации показывают истории чужих жизней.
И вот среди историй учёных и изобретателей, художников и кровожадных тиранов, мне рассказывают о жизни современников.
Чаще всего это актёры и певцы.
От этих фильмов у меня очень странное впечатление — они сделаны точно так же, и часто озвучены точно так же, как фильм о, к примеру, Иоганне Себастьяне Бахе, что показывают между ними.
Вот Имярек родился в маленьком посёлке близ автомобильного завода, (Описывается красота тамошних мест, будто в Айзенахе — ну, да, там нынче собирают «Опель», кстати), вот он ходит в музыкальную школу.
Вот совершает мужественный акт — решает бросить родные места и перебраться в Москву. (Веймар и Кётен, а затем Лейпциг).
Вот первый продюсер, вот новая Капелла, то есть, ансамбль Святого Фомы, вот тяжёлый и трудный чёс, вот столкновение с косными чиновниками, точь-в-точь как в Арнштадте в 1706-м, вот первый брак, а вот второй.
Всё это приводит меня в некоторое удивление.
С одной стороны, всякий человек заслуживает биографии, с другой стороны, этот сорокалетний певец или певица кажутся мне пародией.
Но понятно, что позиция — там-то высокое, а эти вот — говно, на которой я, кстати, нахожусь — очень уязвима.
Я знаю все контраргументы — и степень прижизненной известности Баха, и относительность искусства etc.
Но это отправная точка для рассуждения о том, чем для наблюдателя интересны чужие биографии.
В случае воинов и политиков видны события, принятие решения, поражение или победа на фоне истории. Говоря об учёных, можно популяризовать открытие — это, правда, редко бывает.
Но вот тут есть какое-то особое свойство биографий, нет, не таблоидное (это было бы слишком просто), а именно конструкция интереса.
В этой связи вспоминают роман Джона Уильямса «Стоунер», где описана жизнь заурядного преподавателя литературы в Америке. Карьера его не случилась, ничего в жизни не произошло, жена и дочь его не понимают, ничего больше не произойдёт. Но тут есть экзистенциальный опыт — чтобы было понятно, представьте себе роман о шестидесятнике, его размышлениях о жизни.
Представить себе это легко, я прочитал таких романов несколько десятков — и размышления в них были одинаковы, и судьбы были одинаковы, и даже обои на стенах одинаковые.
При некотором таланте размышления этого человека средних лет можно описать хорошо, но очень сложно сделать так, чтобы эти типовые чувства стали интересными.
Один роман о типическом может иметь успех но два романа о типическом, два одинаковых романа, читательское сознание уже не вмещает.
Но я хочу увести разговор от выдуманных персонажей, потому что они и придуманы для того, чтобы передать нам некий экзистенциальный опыт — с некими бытовыми и историческими обсмтоятельствами ид без оных.
С реальными людьми сложнее: непонятно, их опыт подлежит передаче, а какой — нет.
К примеру, про всякого сантехника есть возможность создать художественное произведение, а вот документальное — не про всякого.
При этом, конечно, каждый — звезда, в каждом убит Моцарт — и тому подобная пена гуманизма.
И всё же: один байопик про конкретного почтальона мне понятен, но три уже рынок не стерпит.
Сантехник может спасти ребёнка, упавшего в реку, или даже двух.
Но это история не про сантехника, а про человекак, что спас детей, и, да, кстати, был санетехником.
Документальный фильм может рассказывать историю человека, что любит своё дело, слышит голоса труб, пакля в его руках наматывается сама, вот он высовывает своё чумазое лицо из-за двери и сообщает напарнику, что без образования он будет вечно ключи подавать. Можно оживить это историей успеха человека, что научился разводить жильцов на деньги не хуже напёрсточника — но это опять не история про сантехника, а история про разводку.
Умом мы понимаем, что, согласно Общественному договору, всякие профессии важны, но не все интересны другим. Серддце наше не лежит к рутине — она хороша в познавательном смысле, да и только.
Поэтому так интересны истории людей сделавших какой-то выбор.
Оказывается, что рассказ о выборе возможен, а рассказ о честном скучном труде — нет.
В том числе о честном труде в шоу-бизнесе.
Вот и сейчас мне показывают американский фильм об актёре N. Вот он в колледже, вот бросает его, вот его заметили, он приехал в Голливуд, вот он снялся в нашумевшем фильме. Вот женился, а вот женился во второй раз. Вот появился продюсер и сказал, что сначала не верил, что N хорошо сыграет космического таракана, а потом какк-то сразу поверил. Вот у актёра началась депрессия, вот он из неё вышел и снялся в «Космическом таракане — 2».
Непонятно, не умер ли он уже — для этого нужно открыть Википедию.
Кстати, история советских актрис будто написана по одним лекалам — слава в юности, какие-то невнятные мужья, перестала сниматься, появлялась в Доме Кино с опрокинутым лицом, нашли в захламлённой квартире через неделю после смерти.
Но это уже как раз ожидаемый канон.
Извините, если кого обидел.
12 ноября 2015
(обратно)
Москвич (День Ашура, десятый день месяца Мухаррам. 23 октября) (2015-11-23)

Они сидели в гараже.
— Знаешь, Зон, я бы вывез эту тачку куда-нибудь, снял номера и бросил.
— Думаешь, никак?
— Никак, — Раевский был непреклонен. — Запчасти, конечно, можно снять, но с остальным — труба. Что ты хочешь, пятьдесят лет тачке. Я тебе, конечно, её доведу сегодня, километров сто проедешь — да и то, у тебя хороший шанс просто выпасть вниз через дырку в полу.
Зону было очень неприятно поддерживать этот разговор — ему казалось, что горбатый «Москвич» смотрел на него глазами-фарами, как собака, которую собираются усыпить.
Надо было продавать машину раньше.
Но она давно стала членом семьи. Три поколения Рахматуллиных, а теперь их наследник Зон, перебирали её потрох, мыли и холили — для трёх поколений Рахматуллиных она была любимой, как для их предков лохматые лошадки, на которых они сначала пришли завоёвывать Русь, а потом исправно служили русским царям, рубя кривыми саблями врагов империи.
Дед Зона и машину водил, как будто шёл в конном строю — точно вписываясь в поток, держа интервал, и берёг старый «Москвич» как старого, но славного боевого коня.
Машину он получил, ещё не простившись с полковничьей папахой.
Зон не знал подробностей его службы, но на серванте стояла карточка, где дед был ещё в довоенной форме НКГБ, а щит лежал поверх меча на его гимнастёрке.
После второго переезда от деда, впрочем, осталась только эта карточка. Зон был кореец, но ещё он был человеком без отца и матери, принятым в семью Рахматуллиных много лет назад. Он был человеком без рода, явившемся на свет далеко, на чужой войне, сменившим несколько приёмных родителей — а тогда стал москвичом.
Неприметным москвичом, проводившим больше времени в своём музее, чем дома и вообще — на московском воздухе.
«Москвич», да.
Зон спросил Раевского, сколько потянут запчасти, ужаснулся цифре и стал убирать в мешок пустые бутылки из-под пива. Деньги были нужны, деньги нужны были именно сейчас — и не из-за жены, а совсем из-за другого.
— Слушай, а у тебя долларов триста нет? Я отдам, — сказал Зон, ненавидя себя.
— Нет, брат, не дам я тебе денег. — Раевский вытащил сигаретную пачку, и выщелкнул одну — прямо фильтром себе в рот. — И не потому что, нет. Потому что я знаю, что не отдашь, и мы поссоримся. Между нами пробежит трещина, и мы оба это понимаем.
— Шаруль бело из кана ла садык, — процитировал Зон старое письмо, кажется Грибоедова. Цитату, впрочем, всё равно переврали. «Грибоедов, писавший это по-персидски, был всю жизнь в долгах, но это ему ничуть не мешало», — подумал он про себя.
Раевский вопросительно посмотрел на него. Незажженная сигарета свисала с его губы.
— Плохо, когда нет истинного друга, — удрученно перевел Зон.
— Не разжалобишь, — Раевский щелкнул зажигалкой. — Для твоего же блага. И если хочешь говорить точно — шарру-л-билади маканун ла садика бихи. То есть, худшая из стран — место, где нет друга. Никогда не бросайся цитатами на языке, которого не знаешь.
— Так было в книге, — упрямо сказал Зон.
— Дела нет мне до твоих книг, а понты до добра не доведут. И денег я тебе не дам.
Зон вздохнул — Раевский был прав, он был чертовски прав, отдавать было не из чего — разве украсть рукопись Толстого из архива. Но это было из разряда другого предательства, это была измена делу, что хуже измены жене.
Он познакомился с Лейлой в музее.
Вернее, не в музее, а в парадном старинного особняка — направо была дорога в хранилище, где Зон копался в рукописях, а налево по коридору — ресторан, что держал известный скульптор.
Девушка, не заметив его, ударилась в плечо, чуть не упала — и на секунду оказалась у него в объятьях. Зону следовало покраснеть, пробормотать что-то неразборчивое и, пряча глаза, скрыться в своем архиве — но он почему-то не мог заставить себя отступить даже на шаг. Продолжал придерживать её за локоть — тонкий, как птичья косточка. Как будто бы имел на это право.
И она, словно бы почувствовав это его иллюзорное право, тоже взглянула на него и улыбнулась. За такую улыбку средневековый персидский поэт обещал своей возлюбленной целую гору жемчуга. Правда, Зон не мог поручиться, что поэт выполнил свое обещание.
Потом они пили кофе в ресторане, и Зон сбивчиво рассказывал ей о своей работе. На следующий день он привёл её в святую святых — в железную комнату.
Двадцатисантиметровая дверь закрылась за ними, и тут же он понял, что должен сработать датчик пожарной сигнализации, — таким жаром обдало его. Она обвивалась вокруг Зона, не у неё — у него ослабели ноги.
Восток соединялся с Востоком, и Хаджи Мурат с портрета на стене — старой, ещё прижизненной иллюстрации — одобряюще смотрел на Зона.
Домой её везти было нельзя — и ещё через день она вошла в гараж, и через минуту он брал её в стоящей на приколе машине.
Было очень неудобно и ещё больше — стыдно за свою нищету. Стыдно до самого последнего момента, когда они рассоединились.
Лейла лежала, свернувшись калачиком, на заднем сиденье и гладила рукой чехол, смотря в потолок. Он, стряхнув пепел сигареты на пол гаража, придвинулся.
Глаза девушки светились счастьем.
Это было настоящее, неподдельное счастье — тут он не мог обмануться. Лейла была счастлива. Глаза её светились, и он перестал думать о том, что это существо из иного мира, и его битая машина, наверное, первое изделие советского автопрома, в котором она оказалась.
Всё было не важно.
Она взяла у него сигарету и затянулась.
— Ты, правда, хотел продать?
— Что — гараж? — Зон удивился тому, как она читает его мысли.
— Нет — это.
Она обвела рукой внутренность «Москвича», как обводил рукой Иона чрево кита.
— Надо, хоть и не хочется. Дед очень любил машину. Как жену, нет, серьезно. Что ты хочешь, Восток — ты сама должна понимать. Дед сам чехлы шил, мыл с мылом. И мне в детстве было так уютно в ней, я помню, как дед меня возил на юг…
— Хочешь, я устрою?
— Что устоишь?
— Я найду покупателя.
— Думаешь, купят?
— Я знаю одного — у него ностальгия, он как раз «Москвич» искал. Горбатый, именно горбатый. Правда, переделает его, конечно.
И она начала одеваться.
Жаркий ветер мёл тегеранскую улицу. Красную Армию уже давно выводили отсюда, и вывели все — туда, где гремели пушки, и армия пробивалась к бывшей границе, чтобы поднять зелёно-красные столбы с гербами.
Только они, путешествующие с казённой подорожной, задержались в полувоенном городе. Капитан Рахматуллин дёрнул переводчика за рукав:
— А это, спроси, сколько это стоит.
Переводчик залопотал что-то, и мальчик ответил пулемётной очередью раскатистых, как персидские стихи слов.
— Он спрашивает, мусульманин ли ты?
— Скажи, что мусульманин.
Переводчик, перебросившись с мальчишкой парой уже коротких фраз, сказал:
— Тебе тогда скидка, — любая вещь в одну цену. Если три возьмёшь, то дешевле.
Рахматуллин показал на ковёр — мальчишка кивнул. Тогда он выбрал ещё два, и достал из кармана мятый ком английских фунтов.
Третий ковёр Рахматуллин взял просто так — перед отъездом деньги было девать всё равно некуда.
Этот третий ковёр был неважный — тонкий, потрёпанный, неясного цвета, не то зелёный, не то фиолетовый.
Ковры свернули, и понесли покупки в машину.
— Нет, сдачи не надо, всё, хватит, скажи ему, чтобы заткнулся — и они вышли с переводчиком в пыльный мир персидского базара.
Наутро он уже лежал на своих тюках в брюхе «Дугласа», что нёс его на север.
Он не слышал, как кричит и стонет мальчишка, которого бьет коваными сапогами хозяин лавки, вернувшийся домой после долгой, пропахшей опиумом, ночи. Как воет этот старик, ещё не веря в пропажу. Рахматуллин не видел, как плачет торговец, размазывая по щекам скудные слёзы, как вытаскивает он кривой древний меч из-за полок, и, нацелив его в живот, хрипя и надсаживаясь, наваливается на остриё.
И
конечно, он бы не понял, о чем переговариваются между собой трое высоких, чернобородых мужчин, обступивших труп старого хозяина лавки.
Ничего этого не знал Рахматуллин, самолёт вёз его обратно на Родину, жизнь совершала новый виток, и он ощущал свою силу и власть — силу воина и власть подданного великой империи, побеждающей в великой войне.
Капитан засыпал и пытался представить, как, состарившись, играет с внуками на ковре, и они ползают у его ног, будто слепые щенки.
Лейла вылезла из машины, ёжась от сырого ноябрьского воздуха. Дверь чёрного, похожего на кубик, «Гелендвагена» открыл чернобородый.
Лейла поклонилась ему — правда, чуть заметно: не дома. Хотя в Москве ничем никого уже не удивишь.
— Да, именно там, господин. Это — у него в машине, заднее сиденье.
— Он знает?
— Ничего не знает.
— К тебе приедут, привезут деньги. Нужно, чтобы он ничего не узнал… Нет, убирать не надо — мы потеряем время и оставим следы, — ответил чернобородый на незаданный вопрос. — Кстати, как он тебе?
Лейла вспомнила пыльный гараж, где пахло кислым и тухлым.
— Ублюдок, — ответила она брезгливо.
Покупатели смотрели на «Москвич» недолго. Зон было заикнулся о неисправном подфарнике, но от него отмахнулись.
Чернобородый сразу сел за руль.
Машина заскрежетала и замолкла. Это повторилось несколько раз. Так, подумал Зон. Это день невезения. Плакали мои денежки.
Чернобородый вылез из машины, брезгливо отряхнул брюки. Костюм у него был дорогой, это было ясно даже Зону, который отродясь не разбирался в красивой и дорогой одежде.
— Ай, отчего не починил? Не мог сам, друзей бы позвал, да? — чернобородый скривился.
— Шаруль бело… — начал Зон, разведя руками. Он сказал это и успел понять, что сказал что-то лишнее. Перевод этой фразы, ставшей давно не фразой, а эпиграфом к его любимому роману застрял у него в горле.
Потому что чернобородый стремительным движением ударил его ребром ладони в кадык.
Зон очнулся от нестерпимого холода. Он лежал на бетонном полу гаража, рядом с машиной.
Было темно, дверь покупатели заперли.
Ловушка захлопнулась — и было понятно, что его провели как лоха. Безумие последних дней прошло, и осталось тоскливое ожидание смерти.
Ясно было, что они его убьют. Непонятно только — за что.
Что им нужно — не старый же и ржавый автомобиль на самом деле. Может быть — гараж? Но к чему столько мороки?
Зона трясло, он пополз к дверце и повис на ней обессиленно.
Добрый ржавый зверь впустил его в себя, и он упал на заднее сиденье. Зон содрал чехол и закутался в него. Боль понемногу ушла. Что делать, как спасаться — было по-прежнему непонятно.
Но он ощутил прилив силы.
«Слава Аллаху», — сказал он, и от этой фразы, что говорили герои детских фильмов, что он любил мальчиком, ему стало легче. Он повторил её несколько раз — иначе: «Аллах акбар», и увидел, что что-то вокруг меняется.
В это время покупатели переминались рядом с гаражом. Чернобородый отрывисто говорил с кем-то по мобильному телефону. Приехавший с ним человек, пожилой, сухощавый, с белым шрамом на подбородке от удара кованым сапогом, смотрел на него с тревогой. Он догадывался, что что-то пошло не так, как планировалось, но не понимал — что именно. Ковер, проданный им когда-то русскому капитану и ставший теперь чехлом для сиденья машины, был совсем рядом, и сухощавому казалось, что достаточно просто протянуть руку, чтобы забрать его и исправить, наконец, совершенную полвека назад ошибку. Но чернобородый почему-то не спешил забирать драгоценность, ради которой они приехали в эту холодную, негостеприимную страну.
— Он знает, — убеждал чернобородый своего собеседника. — Он все знает. Это ловушка, муршид. Глупая девка ошиблась. Он говорит по-арабски, он давно всё понял про силу ковра и предупредил своих…
Он замолчал и замер, прислушиваясь к голосу муршида. Хозяин был очень недоволен грязной работой. Он не верил в то, что Зон работает на кого-то ещё, и злился на чернобородого, своими дурацкими подозрениями превратившего простую операцию в сложную. Теперь следовало зачистить следы, и что-то нужно было сделать с «Москвичом», который даже не мог выехать из гаража. Первоначально они планировали вывезти машину целиком, чтобы извлечь реликвию спокойно и бережно. Теперь это придется делать на месте, плюнув на то, что старая ветхая ткань может порваться от любого неосторожного прикосновения.
— Твоя глупая несдержанность может стоить нам слишком дорого, — сказал муршид (даже на расстоянии чувствовалось, с каким брезгливым трудом он подбирает слова) и вот он отключился.
Чёрный джип мчался по ночной Москве.
Зон был для этих людей уже мёртв, он существовал только как тело, которое надо будет прятать, куда-то прикопать — целиком или по частям. Драться пришельцы собирались с несуществующей подмогой.
Зон, кутаясь в чехол («Наверное, я похож на француза, замерзающего на Смоленской дороге, в рваных тряпках, дрожащего и бессмысленного», — подумал он), привалился к кирпичной стене. Внезапно он почувствовал пальцами структуру кирпичей, каждую песчинку в цементе, и стена подалась под его плечом. Он вытянул руку, и рука прошла через стену.
«Нет бога, кроме Аллаха, — произнёс он вдруг слова, которые тысячи раз говорили неискоренённые беспартийные старики в его семье. — Нет бога, кроме Аллаха, и Магомед — пророк его». Он сам не понял, зачем это сказал, но всё отступило, и его служба в музее, и лица друзей, и фигуры женщин, что он любил. Древняя ткань грела его и давала силу. Сила вела его, и он неожиданно для себя оказался по ту сторону гаражей, на пустыре. Шаг за шагом он удалялся прочь — от цепочки гаражей, от людей, что считали его трупом, от всей этой суеты. Он совершенно уже не чувствовал холода. Он не слышал, как разбился о бетон, выпавший из ослабевшей руки чернобородого телефон, не видел, как, стремительно побледнев, повалился на колени человек со шрамом на подбородке.
Он обрёл новую цель и стержень жизни.
Исчезло унылое прошлое.
Он стал воином веры и справедливости, и всё теперь будет иначе.
Зон бежал по пустырю, завернувшись в древний молитвенный ковёр.
23 ноября 2015
(обратно)
Из книги "Он говорит" (2015-11-24)

Когда уходят сёстры и наваливается ночь, они начинают говорить.
Он говорит: «Пойми, мальчик, никаких злых людей нет. Люди ровно такие, какими им позволено быть. Вот мне рассказывали, как замёрзла мать с детьми в поле, потому что их никто в дом не пустил. Не открыли. Нет, дети, кажется, выжили. Ничего хорошего в той истории не было, не спорю, а уж зачем баба ночью в чисто поле подорвалась, вовсе непонятно.
Но вот, что я тебе расскажу: у меня брат с женой купили дом в деревне. До столиц у нас далеко, да и до трассы не так, чтобы близко.
Работа у нас сезонная, строительная, брат дальнобойщиком был, да тоже ко мне на летние шабашки подался. А в перерывах вот сидим мы в избе, вокруг снега, в зимнем сияньи путь серебрится — и тут нам стук-стук в дверь.
Кто-то на ночь глядя прётся.
— Не открывай, — Маша аж побелела вся.
Ну и говорит нам, что цыганы так делали — запустят девочку в дом, она дождётся, когда все заснут, да своим дверь откроет. Они семью вырежут, подгонят “Газель” и вывезут всё.
Я сразу в эту историю не поверил: проще цыганам наркотой торговать, чем в деревнях так живиться. Ну что возьмёшь там — микроволновку да телевизор, три тыщи гробовых денег?
И открыли мы, а там — девочка.
Так у меня сразу холодок по спине.
А девочка явно не русская, блеет что-то на своём-то языке. Деваться некуда — напоили и спать положили.
Но ведь, понимаешь, будто сами себе чёрта за пазуху пустили.
Брат мне и говорит, давай, дескать, не спать, а сам вытащил “Сайгу” и у стола попрятал. Достали мы водки и пустили по маленькой.
Сидим, телевизор одним глазом смотрим, а девочка в соседней комнате не спит. То там шаги к двери, то обратно к кровати. Так до утра время и скоротали.
Наутро она ушла — не прощевайте, ни спасибо, ничего. Посмотрела так косо, и в сторону трассы потопала. А туда ещё полтора километра.
Вот и пойми что это было — с одной стороны, людям помогать надо, да и, может, ребёнок нас сам боялся… А с другой стороны, я потом дальнобойщиков спрашивал — правда, говорят, было дело. И три тыщи гробовых кому-то нужны, и микроволновка. Но не на “Газели” они были, и не цыгане.
Тут ведь страшно что — мы с братом поутру стоим, шатаясь, смотрим, как девочка эта валеночками топ-топ на взгорок, и оба понимаем, что ежели этим вечером сам Иисус Христос нам в своём небесном сиянии постучит, то не откроем. Христу-спасителю — и не откроем, вот как жизнь нас об косяк, да».
Он говорит: «А ты никогда в психушках не был? Нет? Я был один раз — пришёл навещать приятеля, который от армии косил. Ночь, зима, холодно ужасно. Почему ночью, я уже не помню, то ли мы ему шмаль несли, то ли ещё что, давно это было. Так вот, меня страх стал пробирать, как только я к воротам подошёл. Не знаю, как сейчас, но тогда ̶ дашь малую денюжку, и тебя пустят. И вот всё равно страшно, страх сгущается, какие-то фигуры за мутными окнами… И чувство этого липкого страха, неотвратимой беды я запомнил навсегда. А ведь по сути, я так ни одного настоящего сумасшедшего и не видел там, друг наш не в счёт, сейчас в Бостоне живёт, не тужит.
Видал я сумасшедшего человека в другом совсем месте.
Однажды нас погнали снимать фильм про Чернобыльскую зону. Ну, как ̶ погнали? Как-как… Деньги нас туда погнали, вот как. Денюжка уже немалая, не те три рубля, что мы тогда санитарам совали.
Я в этой Зоне видал много народу из тех, что вернулись обратно в леса. Живут безо всякой власти, в земле копошатся. Странный, понимаешь, призрачный мир.
И вот там я встретил одну старуху — она всю жизнь прожила в крохотном белорусском селе, где двери, вестимо, не запирались. Все друг друга знают. А после аварии, немного спустя, пришли к ним лихие люди грабить — да что там грабить, цветмет, медные провода, и всё такое по мелочи. Ну и потом, подожгли деревню. Погорельцы разбрелись куда-то, а старушка осталась.
Дом этой старушки не сгорел, но она помутилась рассудком. То, что люди, не немцы какие-то, а наши, могут поджечь деревню, так ей в голову стукнуло, что она стала жить в одном том пожарном дне.
Никакой памяти у неё не было. Она вставала, занималась своими делами, смотрела в мутное окно, дальше был пожар — и жизнь обнулялась. И на следующий день было мутное окно, белорусский лес за ним, потом пожар, и всё. Лет тридцать она жила в одном этом дне — по сравнению с этим истории про американских сурков смешны и нелепы.
Утро, ведро воды из колодца, две картошки в кастрюльке, засиженное мухами окно, а потом — пожар.
Тридцать лет, понимаешь.
Тридцать лет».
Он долго молчит, трогает стену, а потом говорит: «Я американцев не любил никогда. Не то, чтобы уж так не любил конкретно, или как вероятного противника, а вот не лежала у меня душа. Ну и, действительно, я двадцать пять лет с ними воевать готовился, а они со мной.
А потом, когда я в банке работал, нас, в качестве оплаченной радости, в Непал повезли. Там модные всякие слова говорили, тимспирит какой-то, но я так понимаю, это всё обычный туризм за банковский счёт. Какой у меня в службе безопасности тимспирит? У меня и с обычным спиритом не забалуешь.
А всё же поехал. Горы, красота, усиленное питание.
Мы гусиным шагом взад-вперёд ходим — от одного горного отеля до другого. И вот увидел я американца — меня ещё ткнули локтем в бок: “Смотри, Иваныч, на тебя похож”.
И правда, похож. Невысокий, крепенький, а с лицом известная штука — все люди смотрят не на лицо, а на что-то немногое — на разрез глаз, форму носа. Оттого при проверке документов мы всех китайцев за одного принимаем, а они нам тем же отвечают. Не умеют люди на документы смотреть.
Смотрю я — американец такой собранный, аккуратный, идёт по тропе не быстро, не медленно.
С выправкой, я бы сказал. Видно — не из гражданских.
Мы на привале с ним стыкнулись. Он там в камнях сидел, поставил себе газовый примус. Грамотно так поставил, с подветренной стороны. Его и не видно вовсе.
Я подошёл и к нам зову. Это секретарши меня попросили, они им очень заинтересовались. “Русское гостеприимство, — говорю. — Добро пожаловать к нашему шалашу”. А он улыбается и отвечает, что нет, девки у вас пригожие, я оценил, но не в этот раз.
И понятно мне стало, что он сам по себе, без баб этих глупых идёт, и без дурацких этих мантр в голове. И без пенсионных восторгов, как разные европейские старушки.
Вот думаю, молодец какой.
За нами джипы приехали — на ночлег везти, а он покрутил головой, на звёзды глянул, вижу — определился. Кинул рюкзак за спину, да и ушёл.
И потом я его в отеле видел.
Ему говорят: “А вы на дискотеку сходите, у нас хорошая дискотека”. А он всё улыбается: “Я, — говорит, — танцую со звёздами. Что мне ваши дела”.
Говорят, американцы — дрянь. Но мне-то достался этот.
Вот те, что к нам в банк приезжают, действительно неважные. Вроде бы всё как у нас, разрез глаз, рот, нос — а видно, дрянь. Но я никому, конечно, не говорю, зачем?
А вот тот был — настоящий.
С таким и воевать бы было — одно удовольствие».
А ещё он говорит: «Ну, а один готовил нас расстреливать. Прямо так готовил, да. Построили нас друг напротив друга, как для тренировки ̶ я думаю, что командир полка был у нас сумасшедший, потом его убрали куда-то. Сумасшедший-то, сумасшедший, но идея у него была верная. Стоишь напротив своего товарища и смотришь на него через прицел карабина Симонова, и обойма у тебя не пустая, и при этом думаешь ̶ если скомандуют, то надо стрелять.
И палец у тебя стынет, холодно.
Теперь я думаю, что этот наш комполка был очень правильный человек ̶ важную вещь сделал. Не всякому это выпадет, такую важную вещь для людей сделать.
Только потом ещё круче было ̶ потом он нас поменял.
И теперь я сам стою, будто голенький, хоть в своей шинели первого срока, мимо меня снег летит, холодно, а товарищи в меня целят.
Тут дело в том, тебе объясняю, что этот наш комполка говорил, что вот-вот китайцы нас захватят, и мы, мудаки, конечно сначала отступим к Чите, а потом к Омску, и вот тех, кто отступит, военно-полевой трибунал в расход пустит. Привыкайте, дескать.
А я тогда стоял и думал, что вот дрогнет палец у сержанта Нагматуллина, дрогнет, мать, палец у него, дрогнет с какого-то хрена, так мне конец.
Но я тебе скажу, эти три или четыре минуты были самое главное, что я вынес с военной службы. Из двух лет, да.
Да что там со службы ̶ с жизни всей моей.
Иногда и сейчас во сне приходит ко мне этот осенний день, рассеянное солнце, и целит в меня сержант Нагматуллин.
А больше ничего в жизни у меня и нет.
Семидесятый год, октябрь.
Забайкальский, мать твою, военный округ».
Извините, если кого обидел.
24 ноября 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-11-30)
Умер кинорежиссёр Рязанов.
Я вспомнил, как пятнадцать лет назад, когда вышел фильм "Старые клячи" — этот фильм, как и многие фильмы Рязанова я не смотрел, но мне про него рассказывали.
Мой дядюшка сказал тогда хмуро:
— Знаешь, там есть такой кадр, который Рязанов приготовил себе на случай смерти.
— В смысле? — я в этот момент ещё подумал, что никакого случая нет, смерть неизбежна.
— Там Рязанов играет судью, — сказал дядюшка. — И вот счастливые герои куда-то уходят, а он смотрит им вслед. Этот кадр будут вставлять в мемориальные фильмы. В самый конец — вот он там, умер, а все идут дальше. Он так задумал. Это очень предусмотрительно.
Я ничего не сказал — понятно было, что как тут проверишь, что он там думал. Тут надо пережить человека и проверить утверждение опытным путём.
Не знаю, отчего я помнил это пятнадцать лет.
Извините, если кого обидел.
30 ноября 2015
(обратно)
з/к Васильев и Петров з/к (День космонавтики. 1 декабря) (2015-12-02)
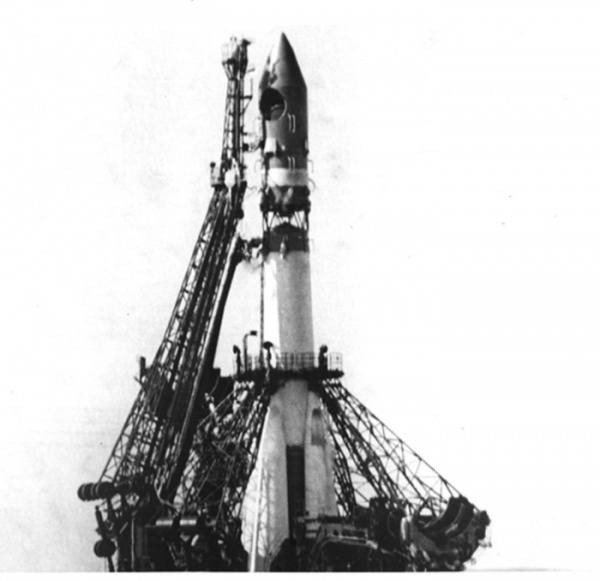
Ветер дул, солнца не было.
Кругом был холодный степной юг, лишённый тепла.
Они ползли по ледяной пустыне, как мыши под снегом — медленно и невидимо человеческому глазу.
Только снега здесь почти не было — ветер отшлифовал пустыню, укоротил ветки дереву карагач и примял саксаул. Недоброе тут место, будто из страшной сказки. Летом — за тридцать градусов жары, а зимой за тридцать мороза. Растет здесь повсеместно верблюжья колючка, которая только верблюду и в радость, зато весной тюльпаны кроют землю красным советским знаменем.
Так что, может, и нет этого мира вовсе, нет никакого посёлка Тюра-Там, от которого движутся два зека уже километров сорок. Ничего вовсе нет, а придумал всю эту местность специальный особист за тайной картой. Сидел особист в кругу зелёной лампы и сыпал на карту пепел империи. И там, где падал этот пепел от папирос «Казбек» — там возникали города и заводы, там миллионы зека ударяли лопатами в землю. Там, повторяя вьющийся от папиросы дым, вились по степи дороги, а там, куда ставил особист мокрый подстаканник — возникали моря и озёра.
Но встанет он, повелитель секретной земли, из-за стола, проведёт по гимнастёрке рукой, поправляя ремень — скрипнет стул, щёлкнет замок несгораемого шкафа.
И не будет ничего — пропадут горы и долины, высохнут моря, скукожится земная поверхность. Ничего не будет — ни звонких восточных названий, ни стёртых и унылых русских, дополненных арабскими цифрами.
Тех имён, которым, как сорной траве, всё равно, к чему прицепиться, где прорасти — украсить дачный посёлок или пристать к подземному заводу.
Нет ничего, только карта, только след карандаша и шорох тесёмок картонной папки, в которую спрятали пароходы и самолёты.
Глянет сверху, из вибрирующего брюха шпионской птицы, круглый воровской глаз, захлопает, удивится: под ним пустота да равнодушная плоская природа.
Ищет шпион след от подстаканника, кружки и стрелы, а на деле есть только стальной холодный ветер, колкий снег да звериный след.
И больше нет ничего.
Два живых человека ползли в этом придуманном мире, держась кромки холодного бархана.
Добравшись до первой линии оцепления, они притаились у самых сапог часового в тулупе. Но тот ничего и не заметил, потому что завыл, заревел надрывно в темноте мотор — ударили издалека фары грузовика. За ним махнул фарами по степи, умножая тени, второй, а за тем — третий.
Грузовики шли медленно и у невидимой границы встали. Петров и Васильев неслышными тенями метнулись к последнему. Они летели, как листья на стремительном ветру — да только притвориться листом нельзя в пустой степи — нет тут листьев, нет дерева на сотни километров вокруг. Притворишься листом — сразу распознает тебя часовой, а вот тенью — ничего, и ветром — сойдёт.
Тенью перевалились Петров и Васильев через борт грузовика, ветошью умялись между фанерных ящиков и продолжили путь.
Обнявшись, как братья, они дышали друг другу в уши, чтобы не пропадало тепло дыхания.
— Терпи, Васильев, терпи — скоро уже. Скоро, скоро — дыханье шелестело в ухе, а во втором ухе не пошелестишь, не пошепчешь. Нет у Васильева второго уха — срубило его лопнувшим тросом при погрузке. Стоял бы Васильев на три пальца левее, закопали бы его рядом с шахтой.
— Где Васильев, — спросили бы его сестру Габдальмилю, — где, где Васильев?
И ответила б она чистую правду — в Караганде Васильев, растворился в степи и шахтных отвалах, превратился Васильев в суслика или сайгака, скачет весело по весне или, наоборот, стоит посреди степи топографическим столбиком — свистит на бедность огромной страны.
Но стоял Васильев как надо и еще шесть лет ходил на развод, хлебал баланду и слушал, как не суслик свистит, а свистит ветер в колючей проволоке. Он был на самом деле крымским татарином и сидел долгий срок за гордость своей неправильной национальностью. Васильевым его записали в детском доме, да только имя Мустафа так и не превратилось для него в Михаила. Перед тем, как они спрыгнули с товарняка на пустынном зааральском перегоне, он долго молился у вагонной стены, сидя на коленях. Он молился о своём народе и всех людях, что сидели с ним в разные года. Васильев думал, что Петров его не слышит, но Петров не спал — он слышал всё. Петров сидел половину своей пятидесятилетней жизни — с перерывом на четыре военных года. Он мог услышать, как крыса ворует чью-то пайку на другом конце барака.
Но русский понимал татарина, и сам бы молился, да не было у него веры.
Четыре года собирался Васильев, собирался душой и телом — прыгнуть в степь, что цветёт по весне и услышать свист суслика перед смертью, да не прыгнул сам.
Потому что встретил Петрова, что был сух и плешив, и глаза их сошлись вместе, припаялся один взгляд к другому — потому что всё сможет стукач, да не сможет глаза поменять. Глаз стукача жирный и скользкий, глаз блатаря пустой и страшный, глаз мужика круглый и налит ужасом. Только у Петрова глаз весёлый — потому что ничего не боится Петров, думает, что ему помирать скоро — статья у Петрова такая, что по ней сидеть Петрову в чёрной угольной дыре ещё десять лет, которых он не проживёт. Сдох усатый, сгорел в топке лысый со своим пенсне, подевались куда-то бородатый и очкастый на портретах в КВЧ, а Петрову трижды довесили срок — и не приедет нему специальный партийный человек, не выдадут ему пиджак и справку о реабилитации. Потому что бежал он с зоны уже дважды, потому что Петров и так-то жив по случайности — случайно его не выдали недодавленные танками зеки-бунтовщики. Оттого весело Петрову и бьётся у него в глазах сумасшедшая задумка, помноженная на рассказы соседа по нарам с вечной, как Агасфер, фамилией Рабинович.
Сразу поверил Петров Рабиновичу, поверил и Васильев Петрову. Помирать, так с музыкой, помирать — так в центре холодного ветра, в том месте, где бьётся адский огонь посреди степи.
Верит Васильев Петрову, а Петров — Васильеву тоже верит свято, как может верить русский человек татарину. Потому что Петров — солдат и вор, а Васильев — крымский татарин.
Лежат они, обнявшись, несёт их машина — и не видит их никто — не раззява часовой, ни шпионский глаз в самолёте — нет самолётов над степью, а последний догорел весной над Уралом.
Нечего сюда чужим глазам соваться: здесь из земли растёт огромная морковка, торчит из земли острым носом — смотрит в землю ботвой.
Они ползли, спрыгнув из кузова, целую вечность, но в тот момент, когда Васильев уже начал засыпать от изнеможения, они уткнулись, наконец, в первую полосу колючей проволоки.
Петров полз впереди и начал прокусывать самодельными кусачками дыру в заграждении.
— В сторону не ходи, — прохрипел он, не оборачиваясь. — Тут наверняка мины.
Васильев не ответил — его рот был забит холодным ветром.
Они миновали и эту полосу, а потом ещё несколько, пока не выбрались на пространство перед гигантским котлованом. Местность казалась пустынной, только указательный палец прожектора обмахивал степь — а сколько служивого люда сидит по укромным местам, то известно только главному командиру.
Но вот, прямо перед ними, возникла огромная свеча ракеты.
Два зека отдыхали — в последний раз перед броском. Ватники, хоть и были покрашены белой масляной краской, намокли, но оба беглеца не чувствовали их тяжести.
— Она, — удовлетворённо отметил Васильев. — «Семёрка». Это её Рабинович конструировал, ещё в пятьдесят четвёртом. Семь, кстати, счастливое число.
— Точно всё решил, а? — крикнул ему в ухо Петров.
— А у нас выбора нет, как мы колючку перелезли. Да и вообще выбора у человека нет, всё на небе решено. — Васильев притянул колени к груди, чтобы ветер не так сильно холодил тело.
Выбор был сделан давно, когда Рабинович заставлял их учить наизусть карту местности и конструкцию ракеты.
Нарушители проползли через двойное оцепление и начали карабкаться по откосу стартового стола к самой ракете.
Прямо перед ними стоял часовой, и Петров вытащил из-за пазухи заточку.
— Только не убивай, — выдохнул Васильев. — Не надо, совсем нехорошо будет, да.
— Это уж как выйдет, — угрюмо отвечал Петров, — У них своя служба, у нас своя. Если б я так в охранении стоял под Курском, ты бы тут один валандался. Или на фольварке каком-нибудь мёрзлую картошку воровал у немецких хозяев, вот что я тебе скажу.
Но часовой переступил через кабель, сделал несколько шагов в сторону, и вот, снова двумя тенями Петров и Васильев метнулись к лестнице на небо. Рядом с ними из ракеты вырывались струи непонятных газов, пахло химией и электричеством.
Фермы обледенели, они свистели и выли, да и по железной лестнице карабкаться было трудно. Наконец, Петров и Васильев достигли верхней площадки.
Петров потрогал белый бок ракеты и дверцу в этой гладкой поверхности. Потом достал заточку и, поковырявшись в замке, отвалил люк — там, внутри, был ещё один, только круглый.
В последний раз оглянувшись на огни в степи, товарищи закрыли за собой оба люка. Клацнуло, ухнуло, без скрипа провернулся барашек, отгородив их и от свиста, и от ветра. Петров достал кресало и запалил припасённый клок газеты.
— Тут человек! Спит!
Держа наготове заточку, Петров приблизился к телу, одетому в красный комбинезон. Поперёк лица космонавта он увидел надпись: «Макет».
— Что это? — открыл рот Васильев.
— Не робей, парень. Это чучело.
— Что за чучел, из кого? Зачем? — смотрел Васильев на человека, у которого вместо рта и носа — чёрные буквы.
Они осматривались, чувствуя, как напряжение отпускает, как становится холодно.
Вдруг звук из другого мира дошёл до них.
— Собаки, собаки, идут к нам — забормотал Васильев.
— Ты что, какие на этой вышке собаки? — Петров посветил газетой, но и вправду увидел собаку. Внутри странной глухой клетки сверкал собачий глаз.
— Ну вот, ёрш твою двадцать — и здесь под конвоем! — Петров развеселился. — А ты знаешь, как эти придурки собаку назвали, а? Пчёлка! Смотри, тут, над второй, ещё написано: «Мушка»?
Они начали хохотать. Петров густо и хрипло, а Васильев тонко и визгливо. Это была истерика — они хлопали друг друга по бокам, бились головами и спинами о близкие стены, хохот множился, собаки скулили от испуга, и вот Васильев, размахивая руками, случайно задел какой-то рычаг.
Внутренность шара залил мёртвенный свет.
— Ну вот и оп-паньки. Давай устраиваться, — и Васильев стал потрошить человечье чучело. Манекен оказался набит какой-то трухой, бумагой и серебристыми детальками с проводами. Наконец, Васильев успокоился, надел трофейный комбинезон. Петров неодобрительно посмотрел на него и ничего не сказал. Сам он сел в кресло вместо манекена и попробовал подёргать ручку управления.
— Ничего, я самоходку водил. Самоходку! Так и тут справлюсь. Только не люблю я, когда люки задраены, люки задраены — спасенья не жди. У нас вот под Бреслау в соседнюю машину фаустпатрон попал — снаружи дырочка, палец не пролезет, а внутри тишина. Только слышно, как умформер рации жужжит. Я с тех пор с задраенными люками никогда не ходил. А это что? Что это здесь на табличке: «тангаж»? Вот здесь — «крен», понимаю. «Рысканье» — тоже понимаю. А «тангаж»?
— «Тангаж» — это так, — Васильев сделал неопределённое движение рукой.
Внезапно мигнули лампы на приборной доске, харкнул на потолке динамик, застучало что-то внизу под ними. Заполнил уши тонкий свист, который потом перешёл в рёв.
Внутренность корабля вибрировала, собаки завыли, а Васильев свалился за клетки. Снова хрюкнул динамик, забулькала непонятными словами чья-то речь.
— Телеметрия, — захрипел голос сверху, — Что за дела? Что это нам видно?
— Что видно?
— Почему у вас в объективе тряпки?
Петров и Васильев слушали голоса, несущиеся с потолка.
— А знаешь, братан, — сказал Петров, — это ведь ты им кинокамеру им ватником закрыл, вот они и надрываются.
Шум между тем усиливался, и вдруг страшная тяжесть навалилась на них.
Хуже всех пришлось Васильеву. Петров лежал, удобно устроившись в кресле, собаки скулили в своих алюминиевых норах, только Васильев орал в неудобной позе у иллюминатора.
Он замер — что-то отвалилось от их корабля и ушло вниз — но тут же вспомнил, что и об этом тоже, как и о многом другом, их предупреждал Рабинович.
Ощущение тяжести стало понемногу уходить. Васильев почувствовал, как его тащит по борту, и зацепился ватником за какой-то крюк. Петров повернул к нему лицо, залитое кровью. Тугие красные шарики вылетали у него из носа и застывали в воздухе.
— Вот ведь Рабинович рассказывал, но я не думал, что это так странно, — Васильев завис над пристёгнутым Петровым, — Рабинович всё знал… Жалко, мы его не взяли.
— У Рабиновича дети, да и куда тут Рабиновича девать. Не пролезет сюда Рабинович. Но ведь дело, парень, в другом — никто, кроме Рабиновича, про нас теперь не расскажет. Только он людям и донесёт — вот в чём фенька. И то, что первыми были мы, а не эти — в погонах. Это наш мир, мы его строили, мы его от германского фашизма отстояли и снова строили. Это мы должны были лететь, а не они. Они потом полетят, а нам ждать нельзя. У нас времени нет, у нас только срока.
В этом, Васильев, фенька и есть.
Земля в иллюминаторе выгнулась как миска, и Петров с Васильевым принялись разглядывать континенты. Васильев вытащил Пчёлку из клетки и начал чесать её за ухом.
— Вот и кругосветку сделали, — сообразил Васильев. — Где садиться-то будем? К нам-то нельзя, может, к кому ещё?
Об этом они как-то не думали. Дело было сделано, невероятное дело, к которому они четыре года шли как на богомолье, а что делать дальше — никто не знал.
Бывшие зеки задумались.
— Нет, у немцев я живой не сяду. Да и у англичан тоже. Это всё равно, что Родину продать. Получится, что нас правильно сажали, и тогда всё напрасно. Значит, они правы во всем, а мы пыль лагерная, вши-недокормки. И в Америке не сядем, они наш аппарат раскурочат себе на пользу, а мы, значит, как ссученные, будем с этими собаками в цирке подъедаться?
— А куда лететь-то? — Васильев выпустил собаку из рук, и она поплыла в воздухе, смешно дёргая лапами. — Планет много, не то семь, не то девять…Может, на Марс?
Петров задумался.
— Нет. На Марс не пойдём, я слышал, что там каналов много.
— Ну и что, что много? — удивился Васильев.
— Мне Каналстроя и его каналов в жизни хватило. Мне хватило и Имени Москвы, и Главного Туркменского. Я к Марсу оттого большого доверия не испытываю. Мы к Венере пойдём, — и Петров подмигнул. — Только держись.
И он, пристегнувшись к креслу, налёг на штурвал.
Корабль чуть принял вправо и накренился.
Васильев приник к иллюминатору, тыча пальцем туда, где неслись мимо них необжитые вольные звёзды.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
02 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-07)
Находясь в привычном состоянии бессонницы, был чрезвычайно остроумен (как мне казалось) в ночных разговорах.
Хватился — а там пустота, и ссылки ведут в пустоту. В былые времена кто-то из битников во время наркотического трипа открыл тайну вселенной, и даже записал её. Это рассказывают то про Хаксли, то про Вуда, хотя, это кажется, это просто какой-то английский наркоман, про которого написал Оруэлл. Так вот, проснувшись наутро, он обнаружил каракули следующего содержания: «Банан большой, но кожура еще больше». Так и со мной — поутру думаешь, что в ночном разговоре сказал что-то интересное и сочинил незабываемые остроты — думаешь освежить их, а Мироздание показывает тебе банан. Или вовсе ничего — поляна зачищена.
Но это правильно.
Извините, если кого обидел.
07 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-07)
Тряхнём стариной:
 Извините, если кого обидел.
07 декабря 2015
(обратно)
Извините, если кого обидел.
07 декабря 2015
(обратно)
Червонец (День русского казначейства. 8 декабря) (2015-12-08)

…Тогда я уезжал надолго и далеко, и накануне в пустой квартире справлял свой день рождения.
Пришло довольно много людей, стоял крик, раздавалось окрест нестройное голосистое пение.
А мне всё нужно было позвонить, уцепиться за любимый голос, помучить себя перед отъездом. Я вышел в соседнюю комнату и начал крутить заедающий диск телефона.
Вдруг открылась дверь, и на пороге появился совершенно нетрезвый молодой человек. Мы не знали друг друга, но он улыбнулся мне как брату и произнёс:
— Здорово! А ты, брат, чего подарил?
Я улыбнулся в ответ, и в этот момент обиженно пискнул дверной звонок.
Дверь была не заперта, но гость так и не вошёл, пока я не распахнул её.
Собственно, этот примечательный человек и начал когда-то рассказывать мне про советские червонцы. Он окончил экономический факультет как раз в то же время, когда я заканчивал свой.
Этот человек был даже не толст, а пухл и кругл, но в нём угадывался какой-то тяжёлый металлический центр. Когда я узнал, что он страстный нумизмат, то не удивился. Должно было быть что-то весомое, что пригибало бы его к земле и не давало улететь воздушным шариком. Он много раз боролся с моим монетарным и банкнотным невежеством.
Тогда, в первую пору нашего знакомства, мы много говорили о деньгах.
Мы были похожи на поэта Баратынского и Дельвига, тоже поэта, что шли в дождик пешком, не имея перчаток. Но разговоры были посвящены именно возвышенной истории денег.
Он захватил меня поэтикой презираемо-любимого обществом металла, и я внимал ему, как Онегин — Ленскому.
Я черпал знания из энциклопедии, а он — из правильных книг да архивов.
Из финансово-медальерного искусства я больше всего любил металлический рубль образца 1967 года.
Это был знаменитый рубль-часы — он клался на циферблат и медно-никелевый человек показывал на одиннадцать часов.
— Вставай, страна, — звал лысый человек. — Водка ждёт, электричка на Петушки отправляется, кабельные работы подождут. Революции — полтинник, а гражданам — юбилейный рубль.
У меня и сейчас сохранилась пригоршня этих рублей, и иногда я сверяю по ним время.
Но тогда, под шелестящий ночной дождь, смывавший Империю с карты мира, я узнал много нового.
С детских времён, со школьных советских времён я помнил истории о первых деньгах-раковинах. И я себе представлял полинезийцев, что трясут раковинами, копьями, рядом булькает котёл, а из котла торчит рука да мокрое кружево розоватых брабантских манжет. Ан нет, оказалось, что твёрдая и круглая валюта раковин — нормальная составляющая жизни наших предков, и на Северо-Западе ценной монетой ходило круглое и овальное.
Домик брюхоногого моллюска совершал путь из Тихого океана через Китай и Индию…
— Нет, скорее через Китай, — вмешивался мой знакомец…
Я продолжал: и вот они лежат в отеческих гробах от Урала до финских бурых скал. Белёсые раковины, будто выточенные из мрамора, похожие на маленькие зубастые пёзды. Звались они тогда — «гажья головка».
Век живи — век учись. А куда ни кинь — с деньгами мистика. Обряды, что вокруг них складывались, и традиции их изготовления говорят ясно: это предметы культа. Деньги обрезались — оставляя в кармане человека с ножницами драгоценный металл. Монеты превращались в определитель судьбы и самый простой генератор случайных чисел. Мистика есть в процессе размена денег, а уж какая — в их подделке! Впрочем, об этом говорили все экономисты, включая бородатых основоположников. Денежный фетишизм заражал всех — от любителей женских подвязок до религиозных кликуш.
В детстве я сам набивал потайные коробочки разнородными копейками, двугривенными с молоткастыми рабочими и прочей будущей монетной нежитью. Этот круглый народец походил на толпу божков, которые знают, что останутся без паствы, но не утратят до конца силу.
А в ту пору деньги шелестели, как штандарты, что бросали к Мавзолею — без выгоды. Вместо гербов в центр металлических кружков, как и везде в стране, переместились флаги. Башня и купол — вот что было на новых рублях. Реверс стал главнее, сеньоров не стало вовсе, зато появились господа. На банкнотах нули множились, как прорехи в карманах. Какие там новгородские гривны, похожие на пальцы тракторных гусениц.
Наступало безденежье — даже у него. Как-то я подслушал его разговор по телефону. Он говорил с кем-то по-английски — говорил с тем жёстким правильным акцентом, который приобретали зубрилы в советских школах — язык, правильный, но сохранённый, предохранённый от встречи с родными устами. В разговоре мелькали «proof», «uncirculated» и «brilliant uncirculated». Кажется, он что-то тогда продавал, судя по тому, как он злился — тоже без выгоды.
Выгода начиналась, когда он оценивал коллекции. Он и был — оценщик.
Безденежье имело разный цвет — у всех разный. У него это был тёмно-синий цвет пустых бархатных выемок из-под проданных монет.
В денежном обращении с середины XII века по середину XIV был так называемый «безденежный период» — по понятным летописным причинам. Но тогда появились эти металлические слова — алтын, пятиалтынный. Теперь гривенники, двугривенные, пятиалтынные, пятаки и копейки вымирали как динозавры.
Мой знакомец говорил, что монеты — некоторое подобие древних газет. Подданные в глухих углах империй, заметив, что профиль на монетах другой, только так обнаруживали, что сменился правитель, и имя его — вот, внизу полукругом.
Впрочем, тогда — в нормальном мире, куда время от времени мы выныривали — в газетах все читали курс доллара — это был именно курс доллара, а не рубля.
Я шелестел в его квартире альбомами на чужих языках. Там, будто иконостас, глядели на меня лица императоров и князей. Но святые смотрят прямо, а кесари — в сторону, отводя глаза. Монархи остались только профилями на деньгах, вопрос о достоверности профиля не стоял, но вот я переворачивал страницу, а там уже махал крыльями феникс на деньге с арабской вязью, что чеканил великий князь Василий II Васильевич Тёмный. Отчего он? Может, Орда была против человечьего изображения на региональной валюте? Но спросить было неловко.
Истории наслаивались одна на другую. Истории про литьё, вернее, переливание европейских денег в гривны, истории серебряных новгородских слитков, и то, как вместо мелкой монеты использовали не перелитые в слитки старые дирхемы, денарии, да и просто обрезки и обломки монет.
Потом мы расходились — денег было мало, и я пробирался домой пешком, слушая, как потрескивает и рушится старый мир.
В ночи это всегда слышнее.
Потом мы сходились снова. Беда была в том, что нам обоим нравилась одна и та же девушка. Она и вправду была хороша, но, не смея объясниться, мы оба двумя осторожными крысами ходили по краю. Обычно тогда не везёт обоим — так и вышло.
Однажды наша девушка напилась, и мы вдвоём везли её домой. Открыв неверно дрожащим ключом дверь, она посмотрела на нас — и мы поняли, что никто не переступит вслед за ней порог.
Если бы кто-то из нас добрался до её двери, исключив соперника, то у него был бы ощутимый шанс — но тут было равновесие треугольника.
Мы были как аверс и реверс — почти одинаковы и бессильны в соревновании.
Она попыталась махнуть рукой, стукнулась о косяк и исчезла. Дело в том, что иногда у неё в глазах читался выбор — особенно, когда жизнь её сбоила.
Та, неизвестная нам, жизнь — но, когда у женщины есть выбор, то пиши пропало.
Поможет только случайность, иначе душное московское утро разведёт нас навсегда.
Но, как правило, встречались мы всегда отдельно, будто заговорщики — только по двое.
Именно эта девушка случайно проговорилась:
— Червонец мне сказал…
Она тут же захлопнула рот, но было поздно. Слово приклеилось к человеку, как почтовая марка к конверту.
Мне даже не нужно было объяснять, о ком речь. Действительно, мне казалось, что если сходить с ним в баню, то где-то под мышкой у него обнаружится надпись «чистого золота 1 золотник и 78,24 доли».
Он был червонец, да. С высокой лигатурной массой.
С червонцем был связан наш давний спор — эта монета была данью старине, исчезнувшему в революцию миру. У неё было правильное равновесие между аверсом и реверсом.
Было совершенно непонятно, что такое аверс и реверс. Нет, понятно, что аверс — лицевая сторона, а реверс — оборотная, но как их различить, совершенно не ясно. Традиционно древние ставили на главную сторону голову божества или герб, на оборотную — номинал. С одной стороны порхала коринфская летающая лошадь, или жужжала эфесская пчела, или скреблась эгинская черепаха, пока не сменились лицами эллинов — с другой была земная стоимость. С главной стороны присутствовал дух, с оборотной — материализм цифры. Но нумизматы, стоящие рядом на книжных полках моего знакомца, говорили, что если нет герба, аверс и реверс меняются местами — цифра берёт верх.
В тут пору герб России, лишённый корон и ручной клади, был не гербом вовсе, а символом.
Оттого мой знакомец говорил, что аверсом рубля стала сторона с единицей.
Всё двоилось — появились и чудные биметаллические деньги — бело-жёлтые, вызывавшие желание посмотреть, что там у них внутри, как устроено, чем склеено.
В том давнем советском червонце номинал был на реверсе. Монетный сеньор был не тем человеком с котомкой, который развёл руки, разбрасывая зерно — им было само зерно в колосьях, окружившее аббревиатуру, которую, по слухам, придумали для того, чтобы её одинаково мог читать Ленин слева направо и Троцкий — справа налево.
Но в этом состязании орла и решки не было выигравших, как нас ни брось, а бросали нас часто.
Скверная была история, одним словом.
А девушка была замечательная.
Итак, он стал зваться «червонцем».
И, действительно, если деньги у него были «с историей», то любимые истории были — про червонцы. Даже на стене у него висела картина (правда, дурно нарисованная) — шадровский сеятель, слева плуг, лежащий поверх земли, справа дымные трубы завода — пейзаж ценой в 7,74234 грамма золота. Гораздо лучше, впрочем, была гравюра — кремлёвская башня, дворец, флаг над дворцом — вид с Большого каменного моста.
Во-первых, дело было в названии — когда в двадцать втором году РСФСР хотела ввести твёрдую валюту, то в Госбанке придумали несколько названий. Кстати, в 1894 году Витте хотел заменить рубль «русом»,
так вот, тогда в списке, кроме червонца, были внесены ещё «федерал», «целковый» и «гривна». Гривна не годилась, так как её ввела в своё время Украинская рада. Целковый — был общим названием для рублёвой монеты. Во-вторых, червонец далеко не всегда был равен десяти рублям. Да и само слово странное, отдающее не только цветом, но и карточной интонацией. До революции была монета в три рубля с тремя с половиной граммами золотого содержания.
Ввёл их, кажется, Алексей Михайлович, и до Петра они были не платёжным, а, скорее, наградным средством. Так вот, мой приятель, раз за разом рассказывая о советских червонцах — говорил и про их неденежный, подарочный смысл.
Они, описанные как победа советской экономики в каждом пухлом издании «Истории КПСС», по словам моего знакомца, были очень похожи на наградное средство. Их было два типа — сначала кредитные билеты (они вообще не были платёжным средством) и золотые монеты. Что с ними было делать — непонятно, так как Советская Республика в золоте брала только таможенные пошлины. Эти червонцы было довольно сложно менять — лишь бумажные, а металлические вовсе в обращение не выпускались. Много я услышал историй про те червонцы — например, про то, как бригада плотников ходила по Петрограду, пытаясь банкноту, которой расплатились за общую работу, обменять на совзнаки, да так и пропили весь до конца.
Потом нас как-то раздружила жизнь. Наша девушка вышла замуж, и нас отбросило друг от друга, будто два шарика, между которыми лопнула раскрученная нить. Он был востребован, вернее, стал востребован как-то неожиданно — старые друзья выкрутили ему руки и заставили ездить на службу, погрузив в смертельную банковскую круговерть девяностых.
Наша биметаллическая связь, которая всё-таки не была дружбой, распалась, а казалось, мы сплавлены навек.
Предмет недележа я встретил через много лет на улице — он грузил одинаковые пакеты с едой в чрево машины. Машина открыла пасть — или зад, и пожирала горы еды в фирменном полиэтилене. Внутри плющил нос о стекло взрослый мальчик — видом не в мать.
Живые были в ином мире, я был неконвертируем в него — как советский рубль между червонцем прошлого и тысячами нынешнего времени. Зависть, или укол упущенного случая, я давно вырезал из себя, будто глазок от картошки.
Мужчины всегда становятся безумны, когда случайно видят женщин из своего прошлого. Им кажется, что они встретили на улице Чикатило, а на самом деле это просто уязвлённое самолюбие.
Непрожитая ими жизнь.
Просто неуверенность в себе.
Просто морок.
Итак, не поймёшь, где у этого чёрного монстра, набитого едой, была лицевая сторона, а где оборотная. Зад всё же был главнее.
Автомобиль, одним словом, мне понравился больше прочего — больше самого себя, во всяком случае.
И вот, наконец, мы встретились с Червонцем перед самым моим отъездом. Был тот самый день рождения в разорённой квартире. Гости уже ходили, держась за стенки, когда посередине ночи он, тяжело отдуваясь, возник в дверях. Знакомец мой был одет очень дорого, но весь был будто пережёван. Часть воздуха из него вышла, и костюм висел мешком.
Слова были кривы и необязательны.
Он раскрыл пухлую ладонь и показал мокрую от пота монету — это был золотой червонец.
Я даже перепугался — тогда на такой кружочек можно было год снимать квартиру — если это не был бы, конечно, новодел семьдесят пятого года. Эти новоделы были тоже дороги — их раньше продавали за доллары иностранцам — и вот только сейчас выпустили в свободный полёт.
— Не пугайся, — сказал он. — Видишь гурт? Он почти в два раза толще — так они добирали вес. Так что это подделка, не платёжное средство, а так — тебе для памяти. Но это «настоящий» фальшак, оттуда, из двадцатых.
Потом он исчез. Его не застрелили, как это было в моде, не взорвали в машине — он просто исчез.
К нашим общим знакомым приходили скучные люди в галстуках, расспрашивали, да так и недорасспросили.
Я тогда жил в иностранном городе К. и узнал об этом с запозданием.
Но я-то знаю, что с ним случилось.
Услышав, как недобрые гости ломятся ему в дверь, он сорвал картину со стены своего кабинета, будто испуганный Буратино, и вошёл в потайную дверцу. Стена сомкнулась за его круглой спиной. И вот он до сих пор сидит там, как настоятели Софийского храма. Перебирает свои сокровища, с лупой изучает квитанции и боны. А как надоест, выходит на поле разбрасывать по пашне золотые кружки.
Ветер рвёт отросшие волосы, струятся между пальцами червонцы — шадровский сеятель машет рукой, а котомка трясётся.
Картина эта на самом деле — окно в славный мир двадцать второго года.
Потом мой друг лежит на поле, занятый нетрудовыми размышлениями.
Чадит труба на заднике, и разъединённые пролетарии всех стран соединились.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
08 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-08)
Вот со стеклом часов — тут раздолье для рассуждений — причём сейчас ровно то же с плёночками, а тут и мостик для рассуждения про пульты дистанционного управления в полиэтиленовых пакетиках:
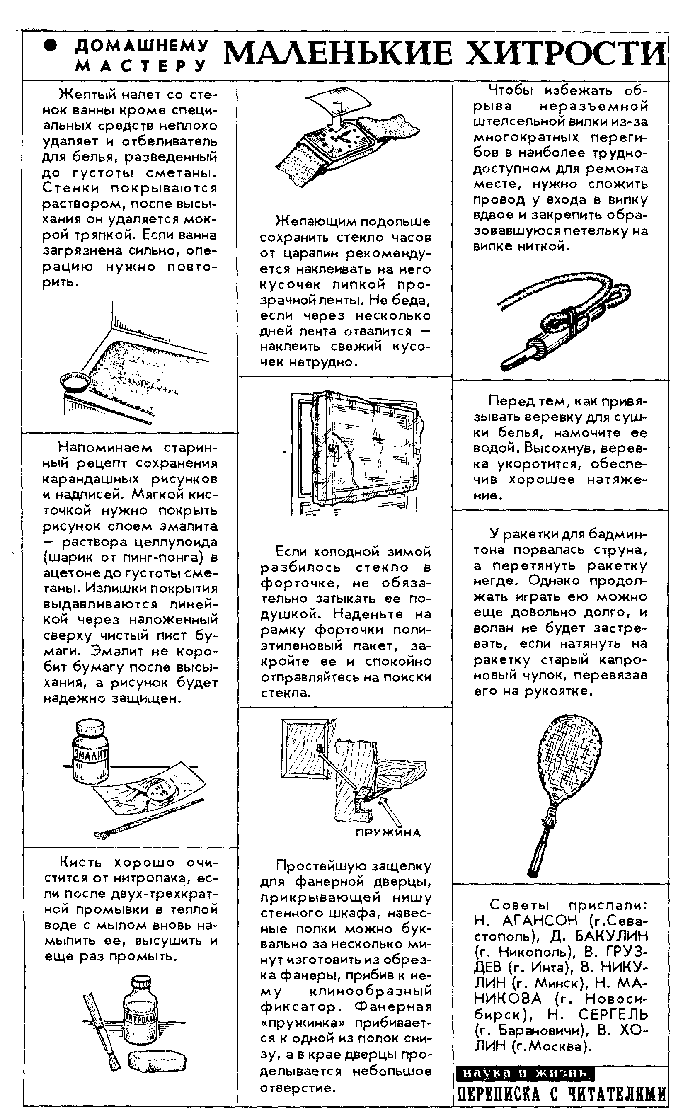
А вот что касается шариков от пинг-понга, растворённых в ацетоне — я встречал этот легендарный эмалит во множестве даже устных советов.
И, кстати, что-то давно вокруг меня перестали играть в бадминтон (Раньше старики на дачах говорили — "багминтон").
Извините, если кого обидел.
08 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-09)
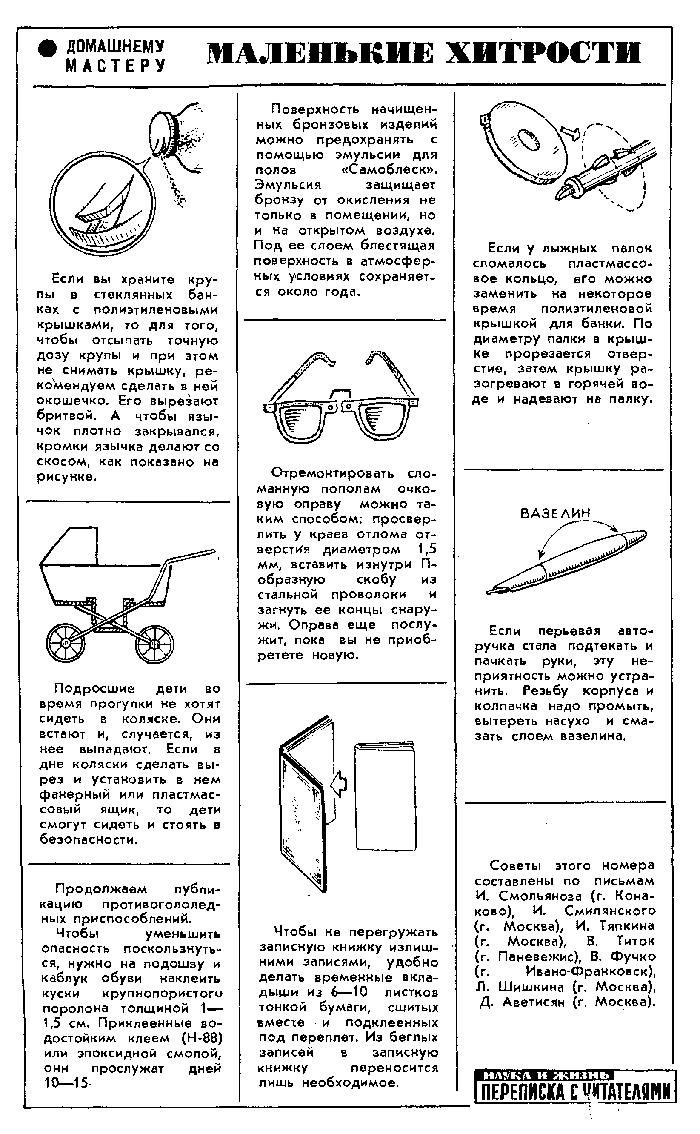 Извините, если кого обидел.
09 декабря 2015
(обратно)
Извините, если кого обидел.
09 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-10)
Вот о том, что сок чеснока неплохо склеивает стекло и пластмассу, честно говоря, я не слоышал. А проверять как-то не с руки — вдруг нынешний, генно-модифицированный чеснок уже ничего не склеивает.
Или, наоборот, всё разъедает.
А вот история сантехники — моя страсть. Эти резиновые шайбы дед мой резал из подошв, и я только при последнем переезде распрощался с небольшой коробочкой, полной чёрных кружков.
Вообще, с сантехникой не так видно то, что произошло с теми же самыми полиэтиленовыми пакетиками — она стала нечинимой в делалях и меняется сразу целыми блоками.
А каков заход: "Тем, кому жаль расставаться с отлично разработанным пишущим узлом стерженька для шариковой авторучки…"
Это вам, романтики.
И мне — тоже.
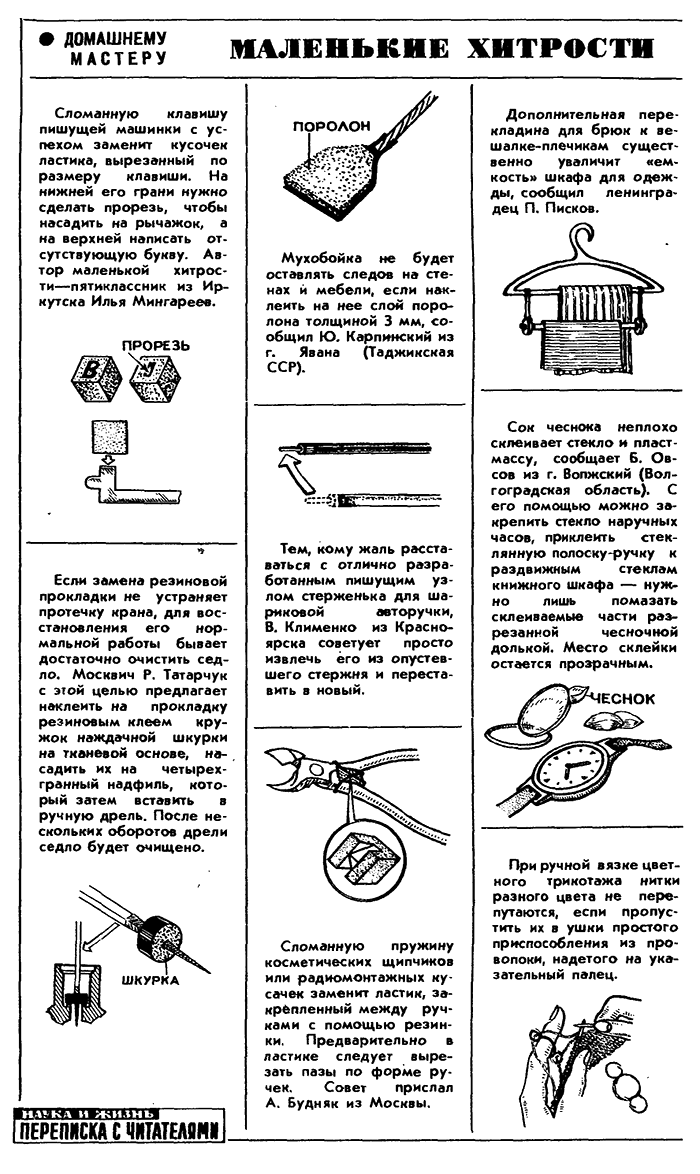 Извините, если кого обидел.
10 декабря 2015
(обратно)
Извините, если кого обидел.
10 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-11)
Картинка для привлечения внимания:
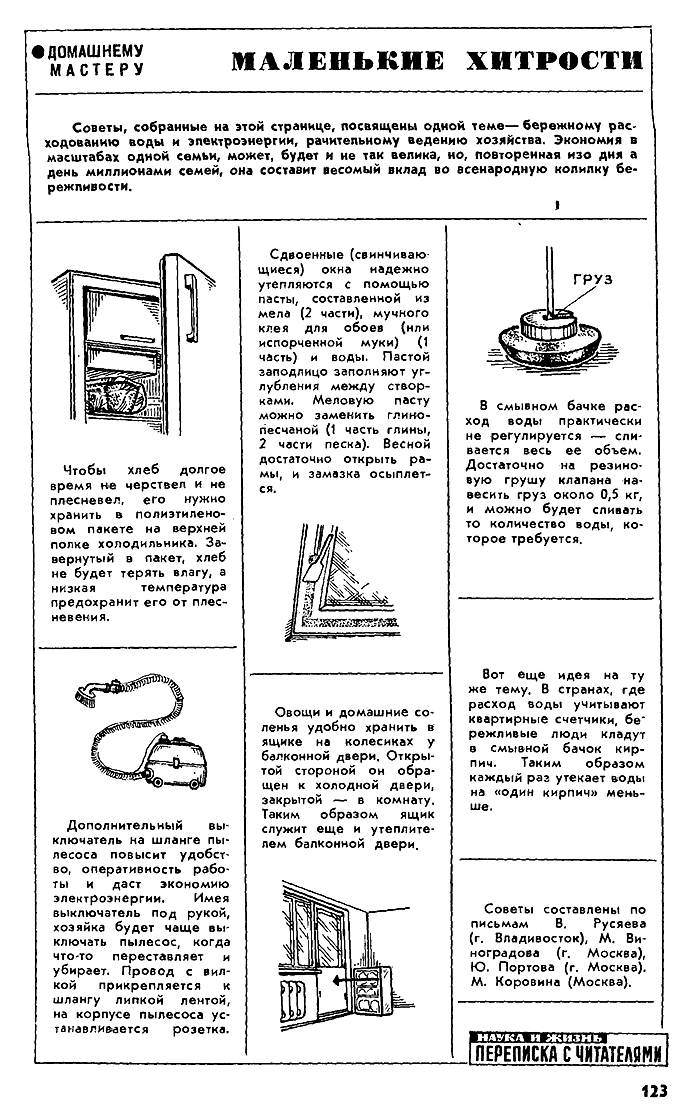 Написал вот про литературные премии.
Извините, если кого обидел.
11 декабря 2015
(обратно)
Написал вот про литературные премии.
Извините, если кого обидел.
11 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-12)
 Извините, если кого обидел.
12 декабря 2015
(обратно)
Извините, если кого обидел.
12 декабря 2015
(обратно)
Станция (День радиотехнических войск. 15 декабря) (2015-12-17)

Лейтенант (впрочем, тогда он был не лейтенантом, а младшим лейтенантом, да и в семье всегда стоял самым младшим), попал в училище в переходное время. Великая война давно кончилась, но теперь стала набухать снова, как чёрная туча. И это было после сокращения армии, о котором писала каждая газета.
«Мильон двести», — шептались курсанты.
«Мильон двести», — поджимали губы преподаватели.
«Мильон двести», — писали в газетах. На миллион двести тысяч человек сокращали армию, и рядом с училищем в половину стены пятиэтажки был нарисован советский солдат, который говорил американскому: «Я своё отслужил, а ты?»
Но больше всего он страдал от того, что опоздал на ту, окончившуюся и великую войну — он опоздал на неё на поколение.
Однако в его училище все преподаватели были с боевыми медалями, а кто — и с орденом. И они были в его глазах богами.
А вот у него не обнаруживалось на гимнастёрке ничего, кроме комсомольского значка.
Главное окончилось тогда, в сорок пятом, и оно прошло мимо него. Из этого прошлого у него ничего не было — можно было только мечтать, как стоял бы у сложного прибора управления огнём ПУАЗО и крутил колёсики счётной машины. Зенитная батарея отразила бы налёт, и вот перед строем ему вручили бы Красную Звезду, хороший боевой орден. Но ничего этого не было, и быть не могло — к тому же, он много разного уже видел в жизни, и романтика из его души успела испариться. Но другие надежды в ней ещё жили — на великую силу человеческой техники, на тот разум, который заставляет ткать из электронов изображения на зелёном экране, на могущество науки, которое переворачивает землю.
Раньше был Сталинский план преобразования природы — все эти лесозащитные полосы, водоёмы, каналы, рукотворные моря и плотины — эти, никогда не виденные им сооружения он должен был защищать от чужой враждебной силы.
Каждый день в коридоре училища он видел огромную карту, с гидростанциями, красными нитками линий электропередач, и над всем этим простирал руку человек в белом кителе. Но теперь этот человек только просвечивал сквозь наклеенный новый портрет. На портрете был изображён новый вождь и руководитель, и такой же, только поменьше, кусочек ватмана с новым названием был наклеен на город Сталинград.
Но это была — Родина.
Над бело-золотой картой могли появиться чужие самолёты или хищные ракеты и капнуть чёрным в любое место. И тогда чёрная атомная клякса растечётся по крохотным кубикам, обозначающим Тахиа-Ташскую гидростанцию и Главный Туркменский канал, или по синей глади Сталинградского моря (Сталинградское море тоже было заклеено и превращено чёрной тушью в Волгоградское), или попадёт на Ереванский каскад, спрятавшийся среди коричневого цвета Кавказских гор.
Мир был прост и понятен, он подчинялся общим законам и воле вождя, прежнего или нынешнего, весь — от Каховки, где тоже шло электрическое строительство, до Молотовской (это тоже было закрашено) ГЭС, которая была где-то здесь, хоть и южнее той станции, куда ему предстояло ехать.
Пропасть в болоте армейской ненужности выпускник не боялся, специальность у него была радиотехническая, а, значит, нужная. По ночам ему снились генераторы импульсов, огромные лампы — одни с водяным охлаждением, другие — с воздушным. И он научился разговаривать с лампой по имени ГИ-24Б как с живым человеком. Материализму это не мешало.
И пусть пехота боится сокращения, а он бояться не будет.
Итак, его выпускали одним из лучших, но вдруг распределили на Северный Урал, в забытую Богом часть.
Он долго ехал с Украины на север, и поезда становились всё хуже, и всё проще обращение проводников.
Он прибыл к месту своего назначения, зажав в зубах старую пословицу «Береги честь смолоду». Но потом он ещё месяц прожил в доме офицерского состава, слыша, как за стеной старый майор исполняет свой супружеский долг — долго, мучительно и в несколько приёмов, будто тренируясь в штыковой атаке на чучело.
Но пришёл и час младшего лейтенанта — его вызвали и услали дальше — ещё севернее, где в отрогах уральских гор стояла два года назад поставленная, но не введённая в строй радиолокационная станция.
Место назначения хоть и казалось странным, но виделось правильным: лейтенант понимал, что всё логично — если враг прилетит из Америки, то лететь он будет над полярными льдами и придёт с севера. Так что он едет не в глушь, а на главное направление обороны.
Наконец, он достиг посёлка, от которого до станции было ещё километров тридцать.
Старуха у сельпо смотрела на него, как на привидение.
Вдруг она цепко схватила его за галифе.
Лейтенант ощутил, как старушечьи пальцы ущипнули его за ногу. Она, казалось, проверила, живой это человек перед ней, или так, призрак.
Он отцепился от старухи и перевёл взгляд на горы.
Конечный пункт был перед ним, и он был ему явлен белым шаром купола, видным за двадцать километров. Он знал, что в этом куполе крутится на бетонном стакане огромная антенна.
Шар и сама Станция стояли на вершине горы в тайге, и ничего, кроме тайги, вокруг не было.
Лейтенант снова ехал, только теперь его уже везли на грузовике, вместе с письмами и мешками крупы.
Ему казалось, что дорога так длинна для того, чтобы он забыл прошлое.
Оставшаяся за спиной старуха не верила, что он жив, и он сам понемногу переставал верить в себя. Липкое чувство паники иногда поднималось в нём — и он старался успокоить себя мыслью о том, что он здесь на год, не больше. Он хороший специалист, такие нужны. Такие сейчас особенно нужны. Мильон двести, я не твой. Мильон двести не приказ двести, расстрел на месте.
И он спрыгнул с грузовика, а потом стащил чемодан.
Лейтенант представился начальнику и вдруг ужаснулся спокойной пустоте в глазах майора.
Начальство смотрело сквозь него, будто сквозь кисейную занавеску на улицу. Потом он обнаружил, что майор почти не вмешивался в течение жизни на Станции — но всё в этой жизни, от движения антенны внутри белого шара до заунывной песни восточного человека в солдатских погонах, обязательно замыкалось на этого человека, редко выходившего из своей командирской комнатки.
Служба была службой, и лейтенант, не обращая внимания на странности начальства, приступил к ней, чтобы отогнать тревогу перемены места.
Дни потянулись за днями — лейтенант знал, что ужас нового места приходит на десятый день. А ещё он знал, что потом человек привыкает ко всему, и новое место и пища на новом месте постепенно вытесняют всё прежнее, что было в теле. Проходит время, и оказывается, что человек уже состоит из воды, которая текла из крана на новом месте, и из тех животных, что паслись тут, а не в прежнем мире.
Клетки тела, выросшие прежде, сменяются новыми клетками, состоящими из нового окружения. Это ему однажды объяснил один биолог, а людям с высшим образованием лейтенант верил.
А у него самого было пока лишь среднее специальное — в высшее техническое училище он не прошёл.
Жизнь Станции была ленивой и тянулась вопреки уставам. Ни вечерней поверки, ни утреннего развода никто не проводил. Лейтенант было попытался построить вверенный ему радиотехнический взвод, да не сумел разобрать в казарме своих. Дневальный спал, и единственное его отличие от прочих было в том, что он спал в сапогах.
Лейтенант отчаялся и приступил к своим обязанностям без всякой помощи. День за днём он лазил с первого этажа Станции на второй и проверял блоки гигантского радара и помечал продвижение на технологической карте.
Ему рассказали, что ещё до его прибытия один бывший студент, попавший на Станцию рядовым, пытался повеситься — да не просто так, а внутри белого радиопрозрачного шара, на опорно-поворотном устройстве большой антенны.
Узбеки заметили это сразу, и бывший студент едва успел закинуть на балку тросик, как его уже держали за руки.
Только к врачам его везти было некуда — и он неделю пролежал связанным, а потом успокоился сам.
Был он демобилизован через три года — не врачебным, а обычным календарным порядком.
И как-то, на первом этаже Станции, за стойкой аппаратуры настроек, лейтенант обнаружил написанный химическим карандашом неприличный стишок. Сначала там было написано «фаза напряжения несущей частоты принятого сигнала по отношению к напряжению когерентного гетеродина будет зависеть от дальности до цели», а потом уж сам стишок, что был записан в строчку, но рифмы легко читались: «То не камень лежит, а солдат ПВО, он не пулей убит — заебали его».
И он подумал, что это написал, наверное, тот самый висельник.
Но потом лейтенант перестал думать об этом студенте и снова погрузился в свою работу — в выдачу пеленга на постановщик активных помех и устройство распознавания своих и чужих самолётов.
Что ему было до неудавшегося самоубийцы, когда на Станцию поставили лампу ГИ-5Б вместо ГИ-24Б, а нужный триод был не просто лампой, генератором импульсов весом в двенадцать килограммов, и этих двенадцати килограммов не хватало ему для счастья, никак не связанного ни с чем потусторонним. О путанице надо теперь слать радиограмму невидимым начальникам, и дело будет длиться, длиться, длиться…
Разговаривать тут было не с кем — пару раз он попытался добиться ответа от начальника Станции, но тот снова стал смотреть мимо стеклянными глазами.
Ему ничего не нужно было от лейтенанта — и, видимо, он ничего не боялся. Ни начальства, ни одиночества — за ним была какая-то мрачная сила, и она была чужда миру электронных блоков, импульсов и помех, которому лейтенант доверял.
На Станции не было женщин, и лейтенант решил, что это мудро. Он видел, во что превращаются мужчины, когда делят внимание поварихи в геологической партии, где он перед армией отработал один полевой сезон.
Единственно, с кем он подружился, был старший товарищ, который готовил дизельный отсек. Собственно, дизель уже работал. Станция со всеми своими приборами и механизмами требовала прорву электричества, и этот человек был электрическим богом, вернее он был властителем трёх дизелей — одного основного, одного — в холодном резерве, и третьего — в горячем.
Он и по званию был старшим. Этот капитан был из той породы, которую его молодой собеседник успел научиться отличать от прочих офицерских пород. Порода эта звалась «залётчики» — что-то у них могло получиться в жизни, но щёлкнули неизвестные переключатели, повернулись тумблеры — и всё пошло вкривь и вкось. Наверное, он был когда-то разжалован, а теперь служил медленно и вязко, безо всякого рвения.
А вот капитан-то уж точно воевал. То и дело в его жестах, в словах и суждениях проявлялись повадки человека, бывшего на войне не месяц и не год, а, может быть, прошедшего и несколько войн в разных частях света.
Настала осень, угрюмое время, которое отрезало станцию от Посёлка, и как только дорога подмёрзла, лейтенант напросился в Посёлок.
Машина ехала туда целый день.
Дорога всё равно плохо держала её, и лейтенант с ужасом думал, как они поедут обратно с грузом.
Они получили положенное, ящики и мешки легли в кузов, но ехать обратно было уже поздно.
Солдаты заснули в своём законопаченном кузове, и Сидорова удивило, что они не стали проситься на ночлег к местным вдовам. Наверняка, думал он, тут должны быть такие разбитные вдовы… Ну или просто одинокие женщины… Но и он сам нескоро нашёл себе ночлег.
Не то, чтобы ему отказывали, но были явно ему не рады. Даже те самые одинокие женщины, к которым он стучался. Ни его лейтенантским погонам они не были рады, ни деньгам, что потом появлялись в его руках как последний аргумент.
Наконец, его пустил в дом старик-учитель.
В его избе было просторно, но стоял странный затхлый запах. И вроде было чисто, и старуха-учительша всё время сновала по избе, а затхлость лезла изо всех щелей.
Лейтенант думал, что его станут расспрашивать о жизни в больших городах, но никто ни о чём не спросил. Жена учителя и вовсе ушла к соседям. Лейтенант потрогал рукоятку репродуктора и вдруг убедился, что провод оборван.
От нечего делать он срастил провод и снова воткнул штепсель в розетку. Тарелка-репродуктор захрипела, но ничего членораздельного не произнесла. Не рассказало радио ни слова — ни про погрузку рельсов на заводе «Азовсталь» для новых строек, ни про погрузку труб на заводе имени Куйбышева для нового канала, ни про изготовление турбины на турбогенераторном заводе имени Кирова для новой ГЭС. Радио хрюкнуло и стихло, потому как кончилось в проводе электричество.
Он удивился, что его работа не понравилась вернувшемуся от соседей хозяину.
— Ты лишнего не делай, главное — лишнего не делай, — хмуро сказал он.
Потом, со временем, лейтенант стал понимать, что это главный закон здешних мест.
А тогда хозяин посмотрел на него сурово.
— Вот геологи у нас делали лишнее. Слыхал про геологов? У нас тут геологи года два как пропали.
Лейтенант слышал эту историю ещё в училище — в газетах, разумеется, об этом не печатали. Но слухи были самым старым и неистребимым источником знаний. У одного из курсантов отец был геолог и рассказал сыну эту историю с многочисленными деталями.
Лейтенант запомнил рассказ (впрочем, уже обросший подробностями совершенно невероятными), но не думал, что это случилось именно здесь. Смутные воспоминания тасовались как замусоленная колода: молодые ребята, партия специального назначения, искали, как водится, что-то секретное, загадочное исчезновение… Через полгода, когда сошёл снег, их всех нашли. Геологи лежали у ручья с вырванными языками.
Старшина его курса в училище был до службы охотником-промысловиком и только усмехнулся — в лесу полно всякой мелкой твари, и по голодному весеннему времени объедят тело, как муравьи лягушку.
Лейтенант и сам помнил эту детскую забаву — дохлую лягушку клали на муравейник, а через пару дней забирали её гладкий, очищенный муравьями, скелет.
История была грустная, и непонятно от чего запомнившаяся. Может, от того, что хорошо представлял себе работу в геологической партии, а может от того, что всё мерил смертью на войне — её смыслом и целесообразностью.
Молодые ребята погибли, хоть и не было войны. Одну девушку-коллектора и вовсе не нашли.
— Что, — спросил как-то лейтенант у капитана, — наверное, убили их?
— Глупости, — отвечал тот. — Я там был с первой поисковой группой. Некому их было убивать — зеков тут нет, нет и местных жителей поблизости. Разве наши бойцы, но ты Сидоров, представь наших узбеков, которые скрытно, как пластуны, окружают геологов и потом забивают их до смерти, чтобы ничего потом не взять. Представил? То-то. Я бы скорее решил, что они сами подрались, но это не так. Я видел их трупы. И ты бы, если увидел, так сам бы понял — они перед смертью грели друг друга, лежали обнявшись. Какая уж тут драка…
— И что там было?
— Да кто ж его знает? Буран тогда был, паника могла быть…
— А звери?
— Да нет тут большого зверя. А кто есть, зимой спит.
— Да, а диверсанты?
Капитан вздохнул.
— Ну при чём тут они. Это всё неглубокий ум хватается за внешнюю историю, а история всегда внутри, как косточка внутри вишенки. Ребята были честные и погибли просто и без затей. Да только это не интересно никому, ты, как подписчик газеты «Труд», всё хочешь увидать тайну в простом месте, меж тем драма вокруг нас, она — повсюду: и рассеяна в воздухе, и растворена в воде.
Сейчас, сидя в угрюмой избе, он вспомнил подробности, и от этого у него заныло под ложечкой. Но тут хлопнула дверь, в сенях что-то упало и покатилось, а на пороге возник старый милиционер.
Было ему на вид не больше сорока, но лейтенанту он показался ужасно старым.
— Участковый наш, — мотнул хозяин головой.
Участковый хмуро посмотрел на военного.
— Он ел? — спросил участковый, не здороваясь.
— Ел, ел, не беспокойся, — ответил хозяин.
— Пусть ещё поест, при мне. — Милиционер очень нехорошо посмотрел на лейтенанта.
И тот, ничего не понимая, хлебнул ложку, другую.
Вдруг участковый переменился, но лейтенант уже ничему не удивлялся. Не удивился он и тому, что участковый сел с ним рядом за стол, и тому, что он приобнял его за плечи, и тому, что он вдруг понёс, не стесняясь своих милицейских погон.
— Видели мертвеца?
— А? — выдавил из себя лейтенант, но хозяин остановил его:
— Он из новеньких. Ничего не понимает. Нет, не было никого. Никто никого не видел.
— Ну так пошлите гонца если что, — сказал милиционер. — Понимаете?
Выходило по его рассказу так, что милиционер ловил и уничтожал нечисть. Сначала лейтенант решил, что речь идёт о беглых, о каких-то врагах, но потом оказалось, что речь о мёртвых.
Счёт у участкового шёл на десятки, да битва была не равная.
Зимой у милиционера выходило проще — у мертвецов не шёл пар изо рта, а вот летом — хуже. Мертвецы не ели, а сумев набрать еды в рот, не могли её глотать.
Лейтенант быстро смекнул, что участковый давно пьёт от одиночества, но, впрочем, никакого запаха не учуял. Тогда он решил, что участковый просто свихнулся в этих тоскливых местах, и это гораздо хуже.
В остальном милиционер был совершенно нормален, со знанием дела говорил об охоте и действительно расспрашивал о больших городах. Но мертвецы всё же были главным в его жизни.
— Ну как вам не стыдно, — всё же сопротивлялся лейтенант. — Вы же офицер, фронтовик…
— А что — фронтовик? У нас под Сталинградом был политрук из казахов, так у него вообще фамилии не было. У них фамилия по национальности была не положена, вместо неё отчество писали. Этот политрук перед атакой костёр жертвенный возжигал и нас окуривал. Так пока его не отозвали куда-то, у нас ни один боец не погиб.
— Странные вещи вы говорите.
— Нормальные вещи я говорю. Ты, парень, пойми, ты тут новый, не понимаешь, что к чему, а я здесь с конца войны, как с госпиталя пришёл. Смотри в оба.
— Я-то посмотрю, посмотрю…
— Посмотри, посмотри… — Но водка уже сделала своё дело, и лейтенант засыпал на секунду-две, клевал носом и потом резко дёргал головой вверх.
Он не помнил, как заснул, однако проснулся с на удивление ясной головой.
Вчера ему рассказывали сказки, а сегодня вокруг была хмурая реальность.
Только хозяин смотрел в сторону, а хозяйка снова исчезла.
Он вернулся на Станцию, и снова потянулись дни, целиком заполненные проверкой блоков и калибровкой импульсов.
Через месяц они с капитаном снова поехали в Посёлок по зимнику.
Они поехали в посёлок, когда мороз лишил воздух влаги.
Щёки кололо как иголками — только приоткроешь дверцу кабины. Но кожа тут же переставала чувствовать и эти уколы.
На этот раз они сразу пошли к дому учителя, и учитель сразу пустил их на постой. Участковый больше не появлялся, и лейтенант думал, что избавился от этого дурака.
Утром он проснулся от странного гомона за окном.
За это время отвык от утренних построений, а тут в маленькую дырочку в оттаявшем окне был виден именно развод.
Население Посёлка стояло, переминаясь на площади перед поселковым советом.
Жители построились в два ряда, между которых шёл участковый. Он внимательно всматривался в лица, и тут лейтенант вспомнил ночной разговор под водку.
Участковый проверял, идёт пар изо рта или нет. Это было наяву, за окном, при ярком солнечном свете.
Вдруг участковый замер и сделал рукой знак. Откуда не возьмись, за человеком возникла фигура и взмахнула рукой.
И человек рухнул прямо под ноги участковому.
Только теперь лейтенант увидел, что в руке у милицейского помощника зажат большой деревянный молоток.
Он в ужасе обернулся и понял, что капитан всё видел.
И он понял также, что капитану это было не в новинку.
Лейтенант ощутил, что его крепко держат и шепчут в ухо.
— Спокойно, лейтенант, — бормотал капитан. — Не делай глупостей, тут тебе не фронт, не фильмы о войне. Тут ты в гостях.
И лейтенант понемногу успокоился, тем более, вместо воды у него в руке появились полкружки водки, которую он хватил залпом.
— Ты, лейтенант, не дёргайся. Твоё дело блоки прозванивать, лапочки-фигампочки менять. А у них свои дела — я, кстати, тоже не знаю, зачем это всё. Но порядок есть порядок, я и не спрашиваю — у тех, кто в коричневых шинелях, есть правило: никогда не переходить дорогу тем, кто в синих шинелях. Я когда здесь по первому году был, то по избам ходили — смотрели, кто печь топит, а кто нет. Нет дыма, значит, — мертвец живёт. Мертвец живёт, живёт мертвец, в землю идти не хочет.
Некоторые, правда, печь топили, а сами ложились в сенях — так до весны можно было дотянуть. А при царе страшно боялись — была вера такая, что если покойника не похоронить, если он от погребения сбежит, то всему дому его конец. Все умрут, один за другим, а, может, одновременно. Попы этого ужас как боялись и завели специальные обряды — покойнику капали церковной свечой в лицо — смотрели, не дёрнется ли. А уж коли дёрнется, то били его деревянным колом в сердце.
— Осиновым?
— Почему осиновым? Да хоть чугунным. Только тут всякое бывало — мне рассказывали, что года за два до войны тут кузнец помер, а была жара летняя, деваться ему некуда, и полез он к себе на двор в погреб. Но почуял, как блины пекут, и явился за блинком.
— «Дай блинка», — говорит, — так его и словили.
Но никто его не тронул, а потом он на фронте погиб. Погиб мертвец за Родину — всё ж лучше, чем от односельчан, да?
В этот момент, прервав их разговор, в избу ввалился учитель. Он что-то держал в руке, отводя её за спину. Офицеры переглянулись. Стало понятно, что именно он был помощником участкового. Лейтенант старался не смотреть на деревянный молоток, измазанный в чём-то липком.
— Зачем? — спросил он, и получил в ответ уже знакомое:
— Порядок должен быть. Молодой, а не понимаешь.
— Да что я не понимаю? Вы ж человека убили, Советской власти полвека, а вы тут мракобесием заняты… Вы же учитель, член Партии! У нас сейчас двадцатый век, мы овладели тайной зарождения жизни, мы покорили атомную энергию, заканчивается электрификация страны…
Учитель посмотрел на него хмуро.
— Это ты, парень, кому другому рассказывай. Электричество — это только у вас на горе, где дизеля стоят. А у нас внизу как дизель накроется, так в темноте по неделе и живём. Материализм дело хорошее. Мы и сами его выказываем, когда какого-нибудь проверяющего водкой поим и олениной потчуем.
А вот как я объясню детям то, что кузнец Ермилов пошёл на охоту с собаками, а у реки встретил почтальоншу Стрелку, которая умерла года два назад.
И очень эта Стрелка ему нравилась, так что он с ней заговорил, а как они распрощались, собаки его перестали слушаться. Да и то: вернулся он в деревню совершенно седой, будто лет пятьдесят прошло, дряхлый старик, не то что молота поднять не может — ходит с трудом.
Что я детям скажу? Всё на виду у них и у меня. Вот кузнец, вот молот. Ковать некому теперь.
А про члена Партии вот что отвечу — у нас парторг тут на лесозаготовках тоже мёртвый был. На него раз десять доносы писали — и хоть бы хны. При нём дело не стояло, при нём норма выработки была.
— Не веришь, сосунок, — вздохнул, наконец, не зло, а как-то грустно учитель. — Да ты майора своего спроси, как он так живёт.
Лейтенант тупо посмотрел на него, не понимая, о чём это он.
Но тут вмешался капитан:
— Иди, иди, Николай Палыч, не надо больше, видишь парень не в себе с непривычки.
Когда хозяин ушёл, то бог дизелей усадил своего младшего товарища за стол.
Тот было решил, что по вечному правилу его снова будет поить водкой — но нет, разговор пошёл насухую.
Капитан опять объяснял, что нравы тут простые — отчего гонять мертвецов, действительно непонятно. Он, капитан, и сам не поймёт, но надо, так надо. Тут, в Посёлке, десять человек с войны вернулись, а присмотрелись — живых среди них всего двое. И что делать? Все в орденах и медалях, а — мёртвые. Из уважения ничего с ними делать не стали, сами они истончились. Зато как у одной молодухи муж умер, а она с ним жить продолжала, так подпёрли избу колом, да и спалили обоих.
Ну, не любят тут люди этого — но прежде народ и вовсе тёмный был, говорят, убивали всех, кто выглядел не по годам. Вот бабе лет шестьдесят, а выглядит она на тридцать — и ату её. Только ты не спрашивай, причём тут наша Станция — вот уж правильно говорят: меньше знаешь, крепче спишь.
— И что, так на построении поутру и ловят?
— Ну, ловят. Но это зимой так. А летом уж не знаю — ведь как мертвецы теперь делают? Наберут воздуху ртом, а потом тихо через нос выпускают, и тебе кажется, что они дышат. Практически все так умеют. И вот тебе кажется, что он пыхтит, ноздри раздувает, а это он просто воздух через глотку гоняет. А уж один так свою мать любил, что решил воскресить. Но он на науку надеялся — даже в город поехал, чтобы подробнее это разузнать. Но из города-то не вернулся. Мать его мёртвая затомилась — скучно ей было в избе сидеть, и стала по деревне бродить, в окна заглядывать. И хоть она добрая-то была, дети кричали и плакали. Вышел тут поп Еремей (настоящий поп, он, пока его не забрали, прямо в Посёлке жил), да обрызгал её святой водой. И стала она окончательно мёртвая. А сын так и делся куда-то, не приехал. Это и хорошо, а то, вернувшись, он бы расстроился. Всё-таки мать уж похоронили, и не воскресишь никак. Почитай, её червяки уже съели.
Лейтенант затравленно посмотрел на него.
Мистика, тупая мистика в век науки — вот что раздражало его. Но вдруг он вспомнил одну историю, которую ему рассказывали солдаты. Как-то наряд отправился за водой к роднику на склоне горы. Бойцы наполнили большой алюминиевый бидон водой и потащили его вверх по склону.
Когда они остановились посередине пути, то увидели, как сверху спускаются они сами, только с пустым бидоном. Двойники прошли вниз, не обращая на оригиналы никакого внимания — но кто из них оказался оригиналом, непонятно.
Лейтенант не любил логических парадоксов.
И тогда он отмахнулся от сержанта, который боязливо прерываясь, рассказал ему про этот случай. Мало ли что привидится здесь — среди чёрного леса и серого неба.
Иногда он вспоминал погибших где-то неподалёку геологов — погибших как целое подразделение, накрытое противником. И эта девушка, тело которой не нашли, представлялась ему по-разному, но всегда живой.
Женщины вспоминались ему реже, он понемногу отвыкал от того, что они существуют.
Интересно, как боролись с такими воспоминаниями его восточные солдаты, но лейтенант знал, что их мира он не поймёт никогда.
В сухие зимние ночи они и вовсе видели Северные сияния — лейтенант только гадал, что по этому поводу думают узбеки, выдернутые призывом из своего жаркого рая.
Но бессловесные южные солдаты были более гармоничны, чем он сам. Они плохо умели читать, но вовсе не испытывали потребности в чтении, им не нужно было успокаивать эмоции и убивать время. Солдаты с Востока были естественны как сама природа, а вот несколько русских и украинцев на Станции чуть не сходили с ума.
Они возвращались на Станцию молча и, раскачиваясь в кабине грузовика, смотрели в разные стороны. Два дня лейтенант думал о произошедшем, а потом принял решение.
Он решил делать вид, будто ничего не случилось.
Не с кем ему тут было говорить, а говорить с кем-то надо было. Иначе, вслед за тем студентом, перекинешь тросик через антенную балку да будешь крутиться, болтая ногами день или неделю внутри белого шара, пока тебя не найдут.
Так что лейтенант решил не напрягать свой разум.
А общался он с ним бережно — будто разговоры их были кем-то расчислены.
Будто дали лейтенанту горсть патронов — три пристрелочных и пять зачётных, и не дадут уж больше. Однажды он пришёл в машинное отделение к капитану и спросил его о смысле здешней жизни.
— Вот, — произнёс он, — представьте, что живёт один человек. Наверное, в детстве у него были родители, хорошие, может, люди. А может, и не было их, погибли они, и вырастил человека наш советский детдом, в принципе не суть важно. Даже нет, представим, что он сын кулака, или вовсе предатель. Но нарушает этот человек социалистическую законность и сидит в тюрьме, а его кто-то должен охранять.
И другой человек, комсомолец, его охраняет, которого тоже вырастили родители или наше общество — дышит с ним одним воздухом, сидит в одних стенах. Или в далёком месте, без жены (тут он вдруг вспомнил мёртвых геологов, и их коллекторшу)… И их жизнь одинакова, только у одного пенсия побольше. Но разве они равны?
— А так везде. Ты знаешь, кто такой Клаузевиц?
— Ну да, нам в училище рассказывали.
— Дело в том, что, как говорил Клаузевиц «После генерального сражения потери обычно оказываются примерно равными, разница заключается лишь в состоянии боевого духа армий». Так и здесь, все это пустое. Цель ничто, движение — всё, а воинский дух реет, где хочет. И хоть тюрьма специально придумана, как та точка, где жить хуже, но и там можно прожить счастливо до самого конца.
А мы с тобой защитники Родины, нам с тобой через двадцать пять лет службы полный пенсион выйдет, а тут и вовсе — год за полтора идёт.
Да и гляди, есть масса примеров, когда люди с разной судьбой оказываются в чем-то одинаковом: лезет на вершину капиталист-миллионер, а рядом ползёт его слуга (ну или нанятый инструктор — неважно). И вот недели две, а то и больше они спят в одних и тех же мешках, дышат одним и тем же обеднённым воздухом, питаются одинаково и одинаково выбиваются из сил. При этом их состояния различаются в тыщу раз, а то и в миллион. И что? Тут неудачников нет вовсе — мёртвых или живых. Нам с тобой тут жить вечно — это я пять лет назад понял, да и ты поймёшь.
Нам не хватает философского осмысления мира…
В этот момент лейтенант понял, что капитан уже выпил давно и много.
— Мир так устроен, что он состоит из наших представлений о нём. Нет, милый друг, ты можешь сходить в Ленинскую комнату и почитать там «Материализм и эмпириокритицизм», тот том из собрания сочинений вождя, который никто, кроме меня тут не читает, но помни, всё дело в том, что только наши представления управляют миром. И наш дорогой майор, с которым случилось такое несчастье пять лет назад, тому прекрасное свидетельство.
— А что с ним случилось?
Капитан вдруг поднял мутные глаза и уставился на младшего лейтенанта:
— Забудь, ничего. Ничего. Откуда ты здесь такой, а?
Лейтенант понял, что его собеседник давно и непроходимо пьян, и удивительно только, как ему удавалось так складно говорить.
— Наш майор влюбился, вот в чём дело. И сделал совершенно непростительный для коммуниста и офицера выбор. Но я тебе всё же скажу о том, с чего ты начал. Мы действительно тут как бы на зоне, вернее — точно в зоне, зоне особого внимания. Потом мы, может, и выйдем на пенсию, хотя отсюда в большой мир никто не возвращался. Кто раз понюхал этого мёртвого воздуха, больше не вернётся в скучный мир живых.
Лейтенант захотел тотчас же сплюнуть себе (и капитану) под ноги, но удержался.
Приближались новогодние праздники.
Накануне к ним выехал проверяющий, и проверяющий был вестником войны.
Война вызревала, лейтенант это чувствовал — она набухала, как гроза в дальней точке, где-то под пальмами, у берегов Америки, но теперь невидимыми радиопутями в атмосфере это доходило до него, занесённого снегом и наблюдающего вокруг только лиственницы.
Он поехал встречать проверяющего. Тот был в ужасе от пейзажа и невменяем от водки, которую стремительно влил в него лейтенант для профилактики этого ужаса. Мысленно лейтенант простил все грехи своему капитану, потому что он раз и навсегда научил его мудрому армейскому правилу выполнения боевой задачи — устранить начальство, и чем быстрее, тем лучше.
Итак, после водки, сделанной из технического спирта, проверяющий стал благостен. Лейтенант даже подумал, стоит ли его везти на Станцию — может, он подпишет все отчёты прямо в Посёлке. Но нет, проверяющий очнулся и сам залез в грузовик.
Проверяющему на Станции понравилось — хотя в его состоянии можно было рассказывать, что сейчас он сидит под пальмами, и вот сейчас именно по этим вагончикам, антеннам и личному составу империалисты нанесут упреждающий удар.
Он уехал, и лейтенант проводил его до автобуса из Посёлка.
Через неделю им передали по радио, что офицерскому составу присвоены внеочередные звания.
— На случай ядерной войны, — сказал капитан, усмехнувшись.
Военторг не снабдил их звёздочками, откуда тут военторг, так что они продолжали ходить в старых погонах и называли друг друга по-прежнему.
Перед тем как в репродукторе оповещения, по случаю подключённому к гражданскому радио, заколотились Кремлёвские куранты, их поздравило родное начальство.
Майор в свою редкую минуту просветления вышел со стаканом в руке и произнёс речь о важности службы и несколько раз сказал, что они спасают город Молотов.
«Мы защищаем Молотов… Какой Молотов, что он городит, — подумал лейтенант. — Мы страну всю защищаем».
Майор вдруг выделил лейтенанта из немногих офицеров, посмотрел ему в глаза, и захрипел:
— Мы Молотов… Не сметь! Мы защищаем Молотов…
«Что он городит, уж десять лет никакого Молотова нет. Нет, наверное, персонального пенсионера Молотова никто не замучил, но вот города Молотова вовсе нет. Лет пять уж как нет города такого, а есть город Пермь заместо него», — успел подумать лейтенант, вытянувшись по стойке «смирно». Но майор уже не говорил ничего, а только хрипел — будто дребезжала какая-то специальная жабра в его горле. Хрип становился то выше, то ниже, и вот, наконец, иссяк. Майор повернулся и ушёл к себе.
Лейтенант обернулся к капитану, но тот только мотнул головой — после мол, объясню.
Уже под утро лейтенант вышел проветриться и вдруг увидел у командирского вагончика женщину.
Сначала он не понял, кто это, и думал, что это капитан зачем-то надел на себя плащ-палатку, надвинув на голову капюшон.
Но когда человек вышел на пространство между вагончиком и лесом, капюшон опал, и лейтенант увидел лицо молодой женщины. Сомнений не было — в серебристом свете луны картина была удивительно чёткой, как на старинных фотографиях.
Он увидел волосок к волоску туго заплетённую косу, ровный пробор в волосах посреди лба и обращённое как бы внутрь лицо.
Женщин тут не было, да и быть не могло. До Посёлка не добежишь, отпусков и увольнений вовсе не было — и однажды он застал своих подчинённых, что гоняли естество в кулаке, глядя на закат. Он поразился молчаливой сосредоточенности этого действа в шеренге, но не стал мешать — в конце концов, он был таким же, как они.
Но женщина, тем более такая, была на Станции невозможна.
Она шла к лесу, и только под конец лейтенант понял, что она идёт по снегу босая.
Подняв лицо, он увидел, что командир Станции смотрит ей вслед из окна.
Майор глядел из окна на женщину, уходящую по лунной дорожке, и лицо его было залито слезами.
Когда лейтенант вернулся в командирский кубрик, его старший товарищ заглянул ему в глаза и понимающе улыбнулся:
— Ясно. Ты её видел. Теперь тебе должно быть понятно, почему нас не любят в Посёлке. Но тут у нас нейтралитет, да и что можно поделать — он любит её и скорее отдаст
приказ наряду вести огонь на поражение, чем с ней простится. Да и нам-то что? Ну вот что нам? Станция должна быть боеготова, вот о чём нам думать. Я — о дизеле и электричестве, ты — о своих лампочках и антеннах.
Придёт в марте смена, что мы им скажем? А до марта дожить ещё надо. Такой вот у нас Клаузевиц, такие вокруг участковые уполномоченные, мир такой.
Пей дружок, у нас войска такие — постоянной боевой готовности, а как ты готов-то будешь без баб, да на трезвую голову?
И подвинул кружку.
— Радист сегодня принял приказ про тебя, — сказал капитан.
— Что за приказ?
— Отзывают тебя, мальчик, на новую станцию. Сменит тебя целая команда, наготовили уж специалистов, техников потенциалометрических и каких-то там импульсных устройств.
— Как это? Я же здесь ещё много должен сде…
— А вот так.
Лейтенант обвёл пространство взглядом. Белый шар, тайга внизу, выл ветер, он уже был частью этого пейзажа.
— Знаешь, — сказал капитан, — я тебе не завидую, это просто отсрочка. Ты для этого места создан и сюда вернёшься. Вернёшься, да.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
17 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-19)

Съездил в город Питер (что бока повытер).
Гладил кота.
Потом написал про то, что видел.
Не про кота, к сожалению.
Написал про год литературы.
Ссылка внутри.
Там скрипка и немножко нервно.
Извините, если кого обидел.
19 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-21)

Тот неловкий момент, когда обнаруживаешь, что два накопителя по 2Tb умерли с разницей в день-два.
А ты, будто российский туроператор, переложил активы из Египта в Турцию.
Извините, если кого обидел.
21 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-21)
Размышляя совсем о другом, то есть, о нынешнем Нобелиате, в частности (надо эмоциональным упырям дать выговориться, чтобы рассуждать об этом спокойно и отвлечённо).
Но для этих рассуждений мне понадобилась история, которая должна была иллюстрировать некоторые положения о художественной достоверности.
Именно — художественной, а не достоверности.
Мы понимаем, что нет ничего более манипулятивного, чем военный репортаж.
Потому что он всегда обращён к смеси логики и эмоций.
И, скажем во время между 1941 и 1945 годом ни в одном из воюющих государств не возможна была точка зрения, в рамках которого достоверность — превыше всего.
Скажем так — во времена отчаяния и ужаса, когда мир стоит на краю, подлинность изображения уступает его функциональности.
Есть история, связанная с двумя именами — одно из них Галина Санько (1904–1981), другое — Наталья Боде (1914–1996).
Обе были фотографами, обе оставили поразительное фотографическое наследие времён Отечественной фойны (не говоря уже о снимках других лет).
Тут хотелось бы проанализировать наши ощущения от трёх фотографий.
Часто обыватель требует подлинности, сам не понимая зачем, не зная, как он будет оперировать с этой подлинностью — и современная цивилизация предоставляет ему подлинность.
Обыватель, впрочем, может превратиться в исследователя — не отвергая ничего, он может разобраться если не в тайнах мироздания, то в самом себе.
Понять, что именно вызывает в нём горе и ненависть, желание взяться за оружие — и, забегая вперёд, скажу что подлинность сама по себе не всегда исчерпывающее достоинство свидетельства.
Иногда — да, а иногда и нет.

Первая — это снимок Галины Санько "Групповое фото узников лагеря № 5. Петрозаводск. 28 июня 1944 года" — понятно, что Петрозаводск был осовобождён в этот день и пока он был оккупирован финскими войсками, никто бы не дал фронтовому корреспонденту Санько снимать детей в концентрационном лагере. Однако у нас остаётся впечатление, что узники ещё внутри, за колючей проволокой и выйти не могут. В какой-то мере это фото — постановочное, но именно что — "в какой-то мере".
Дети ещё вчера были узниками и сохраняют своё положение, смотря в объектив.

Вторая история — со снимками Натальи Боде — вот убитый солдат под дорожным указателем.
Это Сталинград.

Есть ещё один снимок, который называется "Немцы ушли", который изображает одну сохранившуюся стену дома с надписью, оставленной детьми "Мама! Мы с папой каждый день приходим сюда…".
Меж тем, есть такой вполне апологетический
фильм «Две женщины и «Тигр»", заподозрить который в недоброжелательстве к двум фронтовым фотографам невозможно.
И вот в нём, безо всякого смущения рассказывается, как автор снимка на вопрос "Где же нашлась такая надпись?" отвечает: "А мы сами это написали".
Немецкий солдат под указателем оказался перетащенным с другого места. Если кому неинтересно пересматривать этот фильм, то он может услышать эти истории, начиная с 23'50''.
Не верить этим словам вовсе нет никакого резона.
Что из этого следует?
А то, что мы вправе задуматься, что мы понимаем под фотодокументом или документом вообще.
То есть, вопрос ставится не как "Что имеет право на существование?" — мы понимаем, что имеет право на существование всё.
Но это вопрос нашего личного художественного восприятия — как и что воспринимать.
Хороши бы мы были, спрашивая, не выдумал ли Эренбург какое из цитируемых им писем немецких солдат. Ясно, что это просто другой жанр.
И тут есть двойственность — одно и то же изображение оказывается и документальным, и художественным.
Ничего тут не поделаешь — таково его свойство.
Масса эмоциональных доводов в спорах, где из кармана вытаскивается кистень "Да вот документ!" упирается в то, что ничто не документ, без объяснения времени, места, значения и расшифровки.
А художественное произведение и вовсе на то и художественное, что призвано апеллировать не к разуму, а к сердцу.
И да. Этим я хотел предварить историю про нынешнего Нобелиата.
Извините, если кого обидел.
21 декабря 2015
(обратно)
Сирены вольфрама (День электрика. 22 декабря) (2015-12-22)

Ночь приходила в посёлок, как оккупационная армия.
Война была проиграна, и солдаты ночи занимали сопки, скапливались в долине, уходившей к горно-обогатительному комбинату.
Ночь длилась полгода, черная, прерывавшаяся только Северным сиянием.
По традиции последний пароход провожали всем посёлком, давно превратившимся в город. Статуса такого он, правда, не имел — Комбинат был куда главнее домов администрации, бараков, самостройных кварталов и тянущихся к порту улиц.
Продукция Комбината возвращалась сюда в виде тонких нитей внутри лампочек — и половину года посёлок и порт освещались горячим вольфрамом внутри стеклянных колб.
Свободные от работы люди толпились на набережной, кто-то обязательно приходил с ракетницей, палил в небо, его примеру следовал другой, и ещё не окончательно чёрный задник над бухтой резали разноцветные линии.
Капитан не любил эти похороны лета, он ведь был милицейский капитан, человек далёкий от поэзии.
Он ждал пенсии в этом городе, прилепленном к Комбинату, как нарост на кривых берёзах, что расставлены, как часовые по окрестным сопкам. Ему оставался год до пенсии, потому что в этих местах год ему шёл за два.
Капитан прижился тут, знал в лицо своих и чужих, постоянный и переменный состав и хмуро думал о том, что когда-то придётся выбирать — ехать ли на материк или доживать пенсионный век здесь. Все мечтали, поднакопив денег, поехать через всю страну на юг, купить домик где-нибудь в Краснодарском крае или в Крыму. У некоторых получалось, и потом они умирали там, не сумев до конца отогреться.
Капитан не тревожился ни о чём.
С тех пор, как жена его легла в одну из сопок, ему некуда было спешить. Он часто приходил туда — не потому, что так тосковал о жене, а оттого, что сидящим у могил были видны порт и океан. Это был пейзаж фантастической красоты, и он фантастически успокаивал капитана в моменты непонятной тоски.
Он много лет сидел в закутке за облезлым столом, над которым сменилось уже несколько портретов. Был там лысый, был усатый, был другой лысый — и капитан помнил этого лысого вождя, как он приехал в их часть в сорок третьем, а командиры шушукались, что у него только что погиб сын, военный лётчик.
Дети у вождей отчего-то были лётчиками.
Ну и теперь портрет был новый, не поймёшь какой — но точно не лысый и не усатый.
Больше капитан не соприкасался с высшей властью, он сам был — власть, только уже не верил, что станет майором. Должность у него была не майорская, можно только было надеяться, что он получит майорские звёзды как подарок к пенсии
А так-то тут с властью было проще простого — край мира, край света и полгода ночной черноты. Тут не было даже тайги, которая в других местах закон, не было, конечно, и медведей, что служат в тайге прокурорами. Был океан, сопки, и гористое плато, что начиналось прямо от кромки воды и шло на многие сотни километров вглубь суши. И был обогатительный Комбинат, что окрашивал небо в оранжевый, жёлтый и чёрный цвет своими дымами.
Переменным составом тут были люди, присланные для исправления, исправившиеся частично, но не совсем. Их легко можно было узнать по порывистым движениям, они верили, что вскоре они улетят отсюда, вернее — уплывут. Но капитан знал, что человек, прожив тут достаточно долго, уже никуда не вернётся. Человек, раз попавший сюда, скорее доживёт тут и ляжет в сопку с видом на океан, чтобы друзья пили разведённый спирт, молча глядя на эту красоту. В старость этих насильно присланных людей у Чёрного моря он не верил, даже в свою старость на тёплых берегах верил не очень.
К тому же, в полярную ночь никакой красоты тут не было видно — только цепочка огней к комбинату и редкие светящиеся окошки в домах.
Капитан как раз думал о тревожной прелести домика в Крыму, с виноградными завесями у входа, когда к нему пришёл его лейтенант. Дело было зряшное, бытовое несчастье — напоролся на чей-то нож техник с Комбината.
Да вот беда, лейтенант нашёл у техника дома золото.
Вернее, тайники, где оно было — судя по крупинкам, замеченным острым глазом лейтенанта.
Золото — это было плохо, потому что сейчас за золото ввели расстрельную статью, и золотом занимались чекисты-смежники. Капитан дружил с ними, но дружил аккуратно, соблюдая дистанцию.
Он размышлял, доложить ли смежникам сразу, или сделать это как-то иначе, потому что эта история нарушала гармонию его мира, простую обработку поножовщины и домашней ненависти.
Вот человек полетел в космос, а тут ничего не изменилось. Что там ещё? Водка на столе, а на полу — нож, которым, поди, только что резали рыбу на закуску. Им зарезали? Лейтенант ответил, что нет, каким-то другим.
Смежникам, пока он всё это слушал, уже кто-то доложил.
В этот момент комнату залило белым светом, нестерпимо ярким, и тут же всё погасло — лопнула с ощутимым треском вольфрамовая нить над головой капитана в ставшей в этот момент мёртвой лампочке.
Менять лампочку он не стал — после, успеется.
Так что была пора ехать. Он вышел из здания, поздоровался с почтальоном, с водителем пожарной машины и завмагом, которые пришли в управление по своим делам. Тут же лица этих людей потерялись в дневных сумерках, и капитан с молодым чекистом поехали смотреть полые ножки кухонного стола, в которых прежде жило украденное у государства золото.
Золото тут было не нужно, золото нужно было вывозить на материк — кораблём, который придёт сюда только по весне, самолётами займутся смежники. Самолётами летали только большие начальники и командировочные.
«Тоже версия, да мне не по зубам» — меланхолично подумал капитан.
Нужно было принять посетителей — отчитать завмага, которого прижали обехаэсэсники, отметить документы почтальона, с которого сняли судимость,
Потом он поехал в геологоуправление и взял там список пропавших геологов. Смерти их были обычны — люди уже побывали в космосе — опять подумал он о героях — а тут они пропадали среди бескрайних пространств горного плато так, что не оставалось от них ни геологического молотка, ни полевой сумки.
Но были ещё дикие старатели — бывшие заключённые, осевшие вокруг города или вольнонаёмные, сошедшие с ума от любви к золоту. Летом они переселялись на берега безымянных рек — на бесконечную промывку. Чтобы ловить их летом, понадобилась бы целая армия. Но зимой они возвращались в город, чтобы пережить несколько месяцев в укромных углах, в выселенных бараках, подсобках и складах.
Через два дня капитан услышал несколько странных рассказов. До него и раньше доходили слухи, что старатели стали гибнуть чаще, а тут несколько оборванных, но сохранивших вычурные манеры бичей порознь, но удивительно похоже, рассказывали, что на людей с золотом пошла охота.
Это было странно — в прозрачном мире полугодовой ночи неоткуда было взяться губительной силе. Старатели гибли, но будто сами делали последний шаг — срывались со скальников, падали в пену известных им как свои пальцы горных рек.
Будто смертный голос звал их, вот они и шли.
Смежник тоже не дремал. По своим каналам он узнал историю лётчика, что разбил исправный самолёт, погиб сам и угробил пассажиров. В потайных местах машины обнаружили всё то же — остатки мелкого золотого песка. Кто унёс остальное — было непонятно. Для отчётов годились простые объяснения, но капитан чувствовал, что этого не переложить на случайных путников в голых горах.
Капитан смотрел в обступившую город черноту. Там, за окном, можно было только угадать, где кончаются сопки, и начинается небо.
Кто-то неведомый существовал там на погибель человеку с золотом. Капитан осмотрел на свой безымянный палец — он ещё хранил след обручального кольца, поёжился. Нет, он не был суеверным, но кольцо, если бы не снял его пять лет назад, теперь всё равно бы не стал носить.
Однажды, когда не только он, но и начальство смирилось с унылой полосой недоумения, когда нет пищи для выводов, и циничный следователь ждёт новой смерти, чтобы только что-то переменилось, к нему привели бича, который попался на краже — так бывало, опустившийся человек, устав бороться за жизнь, хотел пристроиться на казённое место.
Человека этого он узнал, тот сидел за валюту, но получил сравнительно немного. Всё было в том, что его взяли раньше, чем прежний вождь увидел богатство валютчиков и, рассвирепев, ввёл задним числом расстрел за эти дела. Тогда, освободившись досрочно, бывший зек уже сидел на этом стуле и косился на портрет. Лысый пахан как раз стал расстреливать валютчиков — и, видать, зек радовался, что проскочил, присел раньше и вот уже откинулся.
Теперь бич снова оказался на казённом стуле. Стул был, кстати, тот же самый.
— Сирены, — сказал бывший интеллигентный человек, — это сирены.
Капитан вспомнил про лагерные ревуны, которые по мощности не уступали тем сиренам, что выли во время налётов.
— Нет, ты не понял, начальник, — сказал бывший валютчик, скребя белый пух, которым обросла его голова. — Настоящие сирены. Помнишь странствия Одиссея? Нет? Ну, хоть помнишь, хоть нет, так я всё равно расскажу. Сирены пели, высунувшись из воды, и матросы прыгали с борта… Или направляли корабль прямо на скалы. У нас тут сирены золотого извода. Они поют о золоте и манят его.
Чернота за окном сгустилась ещё больше, хотя, казалось, куда уж больше.
Милицейское управление плыло в полярной ночи как корабль, и тьма плескалась в крыльцо.
Бич сказал, помедлив:
— Одиссей был хитрец, он законопатил уши своим матросам, и сирены погибли, потому что жили до первой неудачи. Я не читал Гомера, я сидел с людьми, что читали Гомера в подлиннике, потому что учились в гимназиях при царе.
— Я слышал про сирен, — сказал капитан устало.
Он не верил в мистику, но всё же ещё раз посмотрел на свой палец, на котором давно не было обручального кольца.
— Золотые, ишь. Ты знаешь, что Ленин сказал про золото? При коммунизме у нас будут унитазы из золота, а коммунизм у нас не за горами. У нас тут должны быть сирены вольфрам-молибдена. На никель они должны петь… Сирены титана…
— Брось, начальник. Я сказал, что сказал. Тут многие говорят, что человеку с золотом теперь беда — оттого и летом раньше времени потянулся народ с гор к берегу, прочь от желти в реках. Мужики по году женщины не видят, любая уродина кого хочешь возьмёт за хобот, а тут — сире-е-ены… Женщина, может, им не по зубам, а вот мужика они сводят на нет.
И бич задымил дармовой папиросой, не забыв сунуть ещё две в рукав.
Капитан посмотрел через зарешёченное стекло. Там, у крыльца, мялся заведующий магазином, никак не придумав, как предложить взятку.
Почтальон прошёл под окнами, как часовой, охраняющий периметр зоны. Что-то странное было в его походке, но капитан решил потом подумать, что именно.
Жизнь шла во тьме.
«Какие там сирены», — подумал капитан. — «Откуда здесь эти греческие глупости. Разве что какой лишенец, пригнанный на строительство комбината, мог о них знать. Незаконно репрессированный, впоследствии реабилитированный, проклял стройку вместе с вольфрамом и прибавил молибден. Но хорошо бы поговорить с нацменами, вот что».
И действительно, капитан поговорил с местными стариками, которых ещё не извёл дешёвый спирт.
Это было не очень удачной идеей.
Капитан и раньше беседовал с этими стариками, лица которых были стоптаны, как их пимы.
Они сперва говорили неохотно, но их тела, не имевшие защиты от алкоголя, становились безвольными, языки развязывались. Языки всегда губили их, и в прошлые страшные годы.
Капитан слышал, что в Америке шпионам развязывают языки с помощью сыворотки правды, а тут такой сывороткой был спирт в поллитровых водочных бутылках. Самое сложное было — не переборщить, потому что люди со стоптанными лицами просто отключались.
И он слушал истории про золото от стариков.
Но в них была одна сплошная мистика.
Старики со стоптанными лицами рассказали, конечно, про стражей Нижнего мира Отой-хо и Навой-хо, о том, что жена бога-кузнеца Таис-хо мстит за убитого мужа и убивает всякого, кто роется земле и ищет в ней спрятанное солнце, но жену эту в конце предания, на второй скуренной пачке милицейских папирос и новом стакане, убила другая жена (тут он уже не стал запоминать названия и имена).
Ходили слухи, что когда-то местные убивали пришельцев с материка за оскорбление мёртвых богов, за сами попытки копать мёрзлую землю. По преданию, бог-солнце прятался в землю на полгода, а потом он вставал из нижнего мира таким же золотым кругом, в целости и сохранности.
Земля была тоже богом, вернее богиней.
Богов тут было много, щедро были наделены ими плоскогорья — куда щедрее, чем зеленью.
То, что духи каменистых пустынь наказывают чужаков за взятое без спроса золото, было слишком красивой сказкой.
Золота тут было мало, а вот вольфрам был настоящим золотом.
Он снова вспомнил, как светится вольфрамовая нить в лампочке, потом перегревается, и всё вокруг заливает мёртвый свет.
Ритуальных убийств капитан не отрицал никогда, здесь, на краю Нижнего и Среднего мира, как называли Комбинат и порт люди со стоптанными лицами, он видал всякое. Даже гипнотизёра видал, что бежал с зоны в пятьдесят втором, его, притворившегося женщиной-корреспондентом, взяли только на корабле.
Когда с дальних поселений в управление сообщили о пропаже фельдъегеря, вёзшего самородки, терпение чекиста кончилось. Он взял с собой только малую подмогу, милицейского капитана, и поехал во тьму.
Фельдъегеря к моменту их приезда уже нашли, нашли вместе с одним самородком зажатым в белых пальцах. Остальные исчезли из растерзанного, но сохранившего сургучные печати кирзового портфеля. Фельдегерь был покрыт толстым слоем инея и лежал в двух шагах от дороги. Водитель его тоже замёрз и, вынутый из машины, сидел враскоряку, обнимая невидимый руль.
«Все матросы бессильны», — вспомнил капитан. — «Мужчины бессильны перед морскими красавицами. Вот встань на дороге беглый зека — эти двое шарахнули бы по нему из своих автоматов, а встань на обочине голая баба? Вот сирены, интересно, действительно они не могли очаровать женский экипаж корабля? Вот бросилась бы в объятья сирен судовая буфетчица»? Года два назад действительно был такой случай — буфетчица бросилась с парохода, чтобы воссоединиться с почтальоном. Она, впрочем, ушла следующим рейсом, отрезвлённая холодной водой океана, да и отказом почтальона.
Не согрел её мужским теплом почтальон.
Прыжок пропал даром.
А тут, на пустынном тракте, в зимнем сумраке, было не до любви — чекист отправил своих по обе стороны дороги, а сам зачем-то полез с капитаном на сопку. Капитан, однако, не возражал.
Они включили фонари, но толку от них было мало — чёрнота впереди и ярко освещённые камни рядом. Капитан вообще не любил фонари — на фронте из-за их неосторожно света гибли многие, да и тут ему был памятен случай, когда несколько зеков, ушедших в отрыв, расщёлкали пятерых конвойных короткими очередями. Они стреляли прямо на свет. Беглым и бежать-то было некуда, они просто вымещали на освещённых мишенях свою дурную загубленную жизнь.
— Нечего тут ловить, — сказал капитан и тут же почувствовал, что тьма за его спиной пришла в движение.
Что-то щёлкнуло в добротном немецком фонарике, и свет исчез.
— Гаси фонарь, гаси! — крикнул он смежнику.
Медленно проступили через черноту звёзды.
Но невдалеке уже было нечто, чей тёмный силуэт перекрывал звёздную мешанину.
Тут капитан услышал странный звук, будто пела девушка. «Девушка пела в церковном хоре», — вспомнил он стихотворение, которая читала жена, когда смотрела на океан. Последний корабль оставлял порт, и уходил вправо: «О всех кораблях ушедших в море», след его разглаживался на воде: «О всех уставших в чужом краю».
Какая-то тоска охватила капитана, и он не сразу заметил, что рядом никого нет — чекист шёл, включив фонарик, как загипнотизированный — прямо в черноту.
Что-то ухнуло, посыпалась галька, и капитан понял, что он остался один.
Утром он уже сидел, заполняя бумаги, над телом незадачливого смежника. Чекист лежал у самого подножия склона, это была какая-то стыдная случайность — погибнуть, сломав себе шею, на сравнительно пологом спуске.
Фонарик, в его руке, почти совсем разрядившись, тлел проволочной точкой внутри лампочки.
Капитан ещё раз проверил карманы невезучего смежника: золотые часы, кольцо и ручка, тоже, разумеется, с золотым пером — потом он кивнул санитарам, и они стали небрежно грузить тело.
К вечеру к нему пришёл почтальон. Сначала они говорили о погоде, но потом, они вдруг выгнали лейтенанта в коридор и заперлись.
Удивлённый лейтенант курил у косяка, не пытаясь прислушаться.
Что-то важное было тогда решено в запертой комнате.
Через несколько дней с дальних приисков отправляли золото. Теперь его вёз конвой, но капитану удалось убедить управление, что два самородка можно отправить отдельно.
Они ехали втроём — милиционеры и почтальон, прижимая к боку опечатанный пакет.
На повороте тракта капитан услышал всё то же пение, это была, конечно, не песня, и никаких слов в ней не было, но тут же воткнул в уши ватные тампоны.
Лейтенант, что был за рулём, с тоской и печалью жал на тормоз.
Он слышал протяжную песню предгорий, женщина пела ему про то, как тяжела доля жены кузнеца, что куёт солнечный диск, но ему вечно не хватает золота, и вот недоделанное солнце исчезает на полгода, и нужно золото, чтобы продолжить работу. Ей вторила скорбным голосом сестра, муж которой потерялся во тьме, и она тоскует без ласки и зовёт его.
Один почтальон, что только что тихо сидел сзади, выбрался на дорогу и пошёл навстречу черноте, хорошо видный в свете фар.
Мелодия проникала через вату, и капитан уже рвался вылезти, как всё пропало — и мелодия, и тоска.
Только холод и ночь.
Треснула дверца, и в машину залез почтальон.
К боку он по-прежнему прижимал свой пакет, только руки у него были теперь испачканы в чём-то липком.
Лейтенант очнулся и тронул машину.
— Одна справа, другая там, в камнях, — хрипло прошептал почтальон.
Капитан сунул ему тряпку — вытереть руки.
Они ехали к городу, который ждал складных объяснений, но тут не Москва, тут порядок иной.
«Слова летают недалеко, а складную бумагу мы придумаем», — думал про себя капитан.
Они сдали пакет и получили расписки.
Лейтенант уехал, а его начальник пошёл с почтальоном по улице, которую едва освещали редкие фонари.
— А как вы догадались? — спросил, наконец, почтальон. — Ну, обо мне?
— Что тут догадываться, в двадцатом веке живём.
Я ведь как дело начал читать, сразу понял, что что-то не так. На комбинат ты работать не пошла, потому что медосмотр надо проходить, а на почте — что? Ну и справки твои чищенные, буковки затёртые, это ведь на почте сойдёт, а у меня — нет. Ты только не бойся.
Слово я тебе дал, тут царь далеко, а море глубоко: до навигации месяц, уедешь с паспортом. Даже колхозникам теперь паспорта дают. У меня слово крепкое, да только на материке тебе всё равно не жить.
И, видишь, светать скоро начнёт — считанные дни остались.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
22 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-23)

UPD Я уже получил некоторые нарекания за эту фотографию от сердитых людей, что я специально тыкаю читателю Нобелиата в военной форме с автоматом АКС-74У, чтобы кого-то унизить. Это неверно. Во-первых, форма становится собственно формой только при наличии знаков различия. Во-вторых, я специально взял фотографию из одного из самых опозиционных изданий — журнала The New Times, чтобы меня не упрекнули, что вот я вытащил её откуда-то со словами "вот у неё в руках оружие, а кто оружие взял в руки, не может называться объективным журналистом и проч., и проч." Хорошая фотография-то.
Выбор комитета
Проблема в обсуждении Нобелевской премии по литературе 2015 года в том, что оно стало классическим примером психотерапевтического выговаривания.
Большая часть споров происходит от элементарного невежества и больше объясняет не то, как устроены книги нового лауреата, а то, как устроены мозги русского человека. Ну, хорошо — русскоговорящих людей на разных континентах.
Во-первых, это спор о русофобии, о том, что шведка гадит, и всё — заговор. (И наоборот — что это глоток свободы). На это нужно ответить, что подобные страхи — мания преследования, совмещённая с манией величия. Никто особенно никого не любит, это да, ну так это мир так устроен. Проблема в том, что все люди — идиоты. (Кроме, разумеется, нас с тобой, дорогой читатель). И внутри у каждого связующая нить с биркой — вынешь его, и человек распадётся, как связка баранок.
Стержни эти абсолютно одинаковые, только на одних по недосмотру продавца в магазине остались бирки, на которых написано «бандупутинаподсуд», а на других «крымнаш». Есть там ещё «всемужикикозлы» и «всебабысволочи».
И люди постоянно сверяют окружающую действительность со своими бирками — иногда, правда, когда люди ебутся, бирки могут запутаться и поменяться местами, но это случается нечасто.
Тот феномен, о котором я говорю, обсуждать тяжело — столкнувшись с чем-то непонятным, люди начинают изгибаться, смотреть на свою бирку и думать, совпадает ли она с феноменом.
И если совпадёт — радоваться, а как не совпадает, вскипать.
Господь велел любить их всех, и я с трудом, но стараюсь следовать этому совету, но сейчас я хочу разобраться, как, условно говоря, сделан «Бушлат» Алексиевич.
Ждать справедливости от литературных премий (и вообще от мироздания) — не очень умное занятие. Упрекать шведов в чём-то вовсе бессмысленно — Анна Ахматова говорила, по поводу, правда, Государственной премии СССР: «Их премия, кому хотят, тому и дают». Что, дескать, вы волнуетесь?
Что есть негласные национальные квоты, они исчерпаны и теперь не дадут премию Евтушенко?
Да много кто её избежал, перестаньте.
Меня нисколько не интересует престиж Нобелевской премии, какие-то внутренние мучения Нобелевского комитета (нет, пизжу — интесуют, конечно, но довольно вяло — если какие-то их остроумные мемуары бы появились — я бы их почитал).
Меня интересует ответственность читателя (ну и писателя) перед собой.
Во-вторых, спорят о том, кому же дали премию — белорусской писательнице или русской. На это следует отвечать, что литература — не Олимпиада. Да и на спортивных Олимпиадах, превратившихся в соревнования фармакологов, отвратительно соревнование медалей. Оно, это соревнование, не даёт никакого представления ни о спортивном состоянии граждан государства, ни о здоровье самих спортсменов — ни о чём. Более того — оно противоречит индивидуальности спортсмена, то есть — писателя. Так и здесь — что гордости в том, что Генрик Сенкевич когда-то был подданным Российской империи?
В-третьих, это слова о том, что премию дали «не за литературу».
Ничего удивительного — эту премию дали историку Моммзену. Дали и политику Черчиллю — не только за многотомную историю Второй мировой войны, но и за ораторское искусство. И это совершенно заслуженно — несомненна поэтическая сила речей человека, что сказал в Палате Общин в июне сорокового года, когда Англия воевала с Гитлером один на один: «Мы пойдем до конца, мы будем биться во Франции, мы будем бороться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш Остров, какова бы ни была цена, мы будем драться на пляжах, мы будем драться на побережьях, мы будем драться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах; мы никогда не сдадимся, и даже, если так случится, во что я ни на мгновение не верю, что этот Остров или большая его часть будет порабощена и будет умирать с голода, тогда наша Империя за морем, вооружённая и под охраной Британского Флота, будет продолжать сражение, до тех пор, пока, в благословенное Богом время, Новый Мир, со всей его силой и мощью, не отправится на спасение и освобождение старого».
Но разговор о том, как устроена литература, как раз и есть самый интересный.
И у нас начался он не с «документальной прозы» Светланы Алексиевич, а с обсуждения огромной книги «Архипелаг ГУЛАГ» другого нобелевского лауреата — Александра Солженицына.
Беда в том, что стороны свой вывод, как правило, не аргументируют, а руководствуются революционным или контрреволюционным сознанием. Правильная фраза звучала бы как: «Тексты Имярек (не) являются литературой потому что…» — причём, суждение о том, что литература — это всё, что написано буквами, заведомо непродуктивно.
Если всё — литература, то надо заканчивать разговор.
Точка общественного интереса сместилась от сопереживания жизням выдуманных персонажей к тексту, из которого понятно (или кажется, что понятно), как устроен мир.
И благодаря всем этим нобелевским движениям, у нас есть возможность обсудить несколько важных вопросов жанра «verbatim», иначе говоря, документально-художественного жанра.
Новая документальность
Книги Алексиевич, как мы знаем, состоят из «микроинтервью» с разными людьми.
Относиться к ним как к интервью, или как к части художественного произведения, собственности автора книги? Вот, к примеру, появляется человек, который обращается в суд и говорит, что в книге использована рассказанная им история и требует части гонорара. В западной традиции, а жанр документалистики там освоен давно — книга обставлена множеством документов, с каждым интервьюируемым подписывают специальное соглашение (с фотомоделями происходит то же самое) — и проч., и проч.
Как будет решаться этот потенциальный юридический конфликт — пока непонятно.
Дополню это тем, что мне всегда очень интересен вопрос о юридических обстоятельствах в искусстве.
Искусство всегда идёт впереди, и тут же вступает в конфликт с закреплённой в законах практикой.
С разной степенью успешности этот вопрос решается — в своё время на нью-йоркской таможне задержали абстрактную скульптуру и начался процесс о том, что считать предметом искусства (вопрос о таможенной пошлине).
Тексты-документы появлялись всегда. Я давно занимаюсь литературой двадцатых, так это явление там было в изрядном, даже теоретическом фаворе. И вот вопрос, где заслуга, и где грань между литературным текстом и журналистским (или социологическим).
Это вовсе не явление последнего времени.
Вот был чрезвычайно интересный проект
Артёма Драбкина с серией «Я воевал на Т-34» (целая серия того, кто на чём воевал — от лётчиков до сапёров), где живая речь стариков-танкистов (лётчиков и пехоты), читалась куда сильнее, чем современная проза.
Однако Драбкин не позиционировал себя как писателя.
Но есть и более радикальный пример. Был такой очень интересный человек — Александр Николаевич Афанасьев (1826–1871). Человек он был с хорошей карьерой (он дослужился до должности правителя дел комиссии печатания государственных грамот и договоров при Министерстве иностранных дел). Но известен он стал благодаря тому, что сделал сперва книжку «Русские народные легенды», (её тут же запретила цензура), а потом — сборник «Русские заветные сказки», который напечатали за границей. Александра Николаевича тут же выпездовали со службы, но он, правда, несмотря на бедствования, издать три тома «Поэтических воззрений славян на природу».
И вот вопрос — должен ли был Афанасьев делиться с неизвестными народными сказителями прибытком? Или славой (чего он физически не смог бы сделать)?
Полтора века прошло, как мы повторяем «Сказки Афанасьева» — и будем помнить о нём Бог весть сколько. А имён сказателей мы не знаем (ну каких-то знает, но они уж точно ничего не получили.
Афанасьев просто яркий пример славы.
Но он называется этнографом, фольклористом, собирателем, а не писателем — вот в чём штука. Это был бы простой вопрос, если мы можем чётко разделить позиции документалиста и писателя, но в нагем случае это не ситуация триггера, а ситуация плавного вереньера, что делает непрерывным отрезок между крайними позициями.
А в современной литературе есть популярный пласт подслушанных разговоров, подсмотренных историй и вообще всякого «из жизни».
И получается, что, если ты воспринимаешь текст вместе с сознанием того, что он «настоящий», «несёт подлинное знание из жизни», ты его ценишь (как бы вынуждаем обществом ценить) выше, чем если бы он целиком был выдуман.
При этом происходит игра, как в своё время в художественной оценке явления «лучший бард среди физиков, лучший физик среди бардов» — при этом то, что мимо нот, извиняется точными науками, а то, что не защитился, извиняется вокалом. Но теперь это явление современного рынка, и я как раз хочу понять, как оно сопрягается с литературой.
Именно поэтому важен казус Михаила Шишкина, что вставлял в романы раскавыченные куски дневников, случай Антона Понизовского, что интервьюировал людей на рынке и в больнице для книги «Обращение в слух», Линор Горалик, что собирала короткие анекдотические истории из жизни окружающих её людей и многих других авторов и собирателей.
Бормотограф
Случай Алексиевич ведь, по сути, феномен публикатора.
Была традиционная литература, уважение к которой нам вбивали в школе — долго сидеть, кусать перо, выбежать на двор в одной рубашке, выебать дворовую девушку, забежать обратно и написать стихотворение.
А тут предлагается текст нового (для нас) рода.
Не феномен не старой литературы постоянного мытья полиэтиленовых пакетиков, а нового типа, когда ты ставишь магнитофон и — вуаля!
Эта надежда отражена в одном известном произведении 1953 года, где писатель Смекайло был обладателем бормотографа, который сам называл ещё «говорильной машиной». Бормотограф имел сбоку небольшое отверстие: «Достаточно вам произнести перед этим отверстием несколько слов, а потом нажать кнопку, и бормотограф в точности повторит ваши слова. Писатель без такого прибора — как без рук», — утверждал Смекайло. — «Я могу поставить бормотограф в любой квартире, и он запишет всё, о чем говорят. Мне останется только переписать — вот вам повесть или даже роман».
Гости этому удивлялись: «А я где-то читал, что писателю нужен какой-то вымысел, замысел…
Смекайло им отвечал: «Э, замысел! Это только в книгах так пишется, что нужен замысел, а попробуй задумай что-нибудь, когда все уже и без тебя задумано! Что ни возьми — всё уже было. А тут бери прямо, так сказать, с натуры — что-нибудь да и выйдет, чего ещё ни у кого из писателей не было».
Оказалось, впрочем, что Смекайло как бы случайно забывал бормотограф в гостях и потом слушал, что говорят хозяева. Но хозяева оказались тоже не лыком шиты и ржали и кукарекали в отверстие бормотографа.
Но Смекайло не терял надежды, хоть за этими заботами и не написал ни одной книги.
Правда фотографии
К вопросу о подлинности примыкает знаменитая история со снимком фотографа Дуано «Влюблённые» (1950).
В 1993 году произошёл суд (судились персонажи) и попутно выяснилось, что снимок постановочный.
То есть, то, что было сорок лет (правда, долгое время фотография пролежала под спудом) «подлинной жизнью» оказалось жизнью срежиссированной.
Дело не в том, что решения судебной системы особенно взвешены и окончательны (вовсе нет), но именно в зале суда традиция обычно выясняет свои отношения с новацией.
Может, успешный автор в жанре «вербатим» в будущем будет похож на режиссёра, у которого на фильме работает команда юристов, регулирующих все отношения с актёрами — то есть, с персонажами). Но продолжая экскурс в историю фотографии, я должен расстроить людей, которые не знают, что часть фотографических свидетельств Отечественной войны — тоже суть кадры постановочные.
Чтобы не удлинять текст фотографиями — вот она, рядом. Именно — художественной, а не достоверности.
Мы понимаем, что нет ничего более манипулятивного, чем военный репортаж, потому что он всегда обращён к смеси логики и эмоций. Между 1939 и 1945 годом ни в одном из воюющих государств не возможна была точка зрения, в рамках которого достоверность — превыше всего. Во времена отчаяния и ужаса, когда мир стоит на краю, подлинность изображения уступает его функциональности. Среди советских женщин-фотографов известны прекрасные профессионалы Галина Санько (1904–1981) и Наталья Боде (1914–1996).
Обе оставили поразительное фотографическое наследие времён войны (не говоря уже о снимках других лет). Но хотелось бы проанализировать наши ощущения от трёх фотографий.
Часто обыватель требует подлинности, сам не понимая зачем, не зная, как он будет оперировать с этой подлинностью — и современная цивилизация предоставляет ему подлинность.
Обыватель, впрочем, может превратиться в исследователя — не отвергая ничего, он может разобраться если не в тайнах мироздания, то в самом себе.
Понять, что именно вызывает в нём горе и ненависть, желание взяться за оружие.
Забегая вперёд, скажу, что подлинность сама по себе не всегда исчерпывающее достоинство свидетельства.
Есть известный снимок Галины Санько «Групповое фото узников лагеря № 5. Петрозаводск. 28 июня 1944 года», изображающий детей за колючей проволокой финского концлагеря — понятно, что Петрозаводск был осовобождён в этот день и пока он был оккупирован финскими войсками, никто бы не дал фронтовому корреспонденту Санько снимать там что бы то ни было. Однако у нас остаётся впечатление, что узники ещё внутри, за колючей проволокой, и выйти не могут. В какой-то мере это фото — постановочное, но именно что — «в какой-то мере».
Дети ещё вчера были узниками и сохраняют своё положение, смотря в объектив.
Второй пример со снимками Натальи Боде — вот убитый солдат под дорожным указателем (Это снято под Сталинградом), и ещё один снимок, который называется «Немцы ушли», который изображает одну сохранившуюся стену дома с надписью, оставленной детьми "Мама! Мы с папой каждый день приходим сюда…»
Меж тем, есть такой вполне фильм «Две женщины и “Тигр”», заподозрить который в недоброжелательстве к двум фронтовым фотографам невозможно. И вот в нём, безо всякого смущения рассказывается, как автор снимка на вопрос «Где же нашлась такая надпись?» отвечает: «А мы сами это написали». А немецкий солдат под указателем оказался перетащенным с другого места. Если кому неинтересно пересматривать этот фильм, то он может услышать эти истории, начиная с 23'50''.
Не верить этим словам вовсе нет никакого резона.
Что из этого следует?
А то, что мы вправе задуматься, что мы понимаем под фотодокументом или документом вообще.
То есть, вопрос ставится не как «Что имеет право на существование?» — мы понимаем, что имеет право на существование всё.
Но это вопрос нашего личного художественного восприятия.
Хороши бы мы были, спрашивая, не выдумал ли Эренбург какое из цитируемых им писем немецких солдат — это просто другой жанр.
Тут есть двойственность — одно и то же изображение оказывается и документальным, и художественным.
Ничего не поделаешь — таково его свойство.
Масса эмоциональных доводов в спорах, где из кармана вытаскивается кистень «Да вот документ!» упирается в то, что ничто не документ, без объяснения времени, места, значения и расшифровки.
А художественное произведение и вовсе на то и художественное, что призвано апеллировать не к разуму, а к сердцу.
Документ сам по себе не является «документом». В исторических работах объясняется, откуда он взялся, оценивается степень доверия к нему, возможности фальсификации и неточностей, и, наконец, он помещается в концепцию учёного.
В жанре художественной
документалистики всё находится внутри художественного пространства. Автор может не только использовать сомнительное свидетельство, но и подобрать саму последовательность свидетельств и документов так, что они создают другую реальность, противоположную существующей. Свидетели истории в воспоминаниях руководствуются десятками мотивов — свойствами своей памяти, желанием переиграть свою жизнь, гордостью и стыдом — всё это превращает народные воспоминания в род белого шума, из которого можно выделить любые гармоники.
Но наш читатель интуитивно доверяет слову «документ», потому что документ — «правда», а в романе мало ли что напишут.
Показательна история с «Войной и миром» — представление о войне с Наполеоном в народном сознании основывается именно на нём, меж тем, претензии к Толстому в антиисторизме стали высказываться сразу после публикации.
В 1928 году в журнале «Новый ЛЕФ» Шкловский опубликовал исследование «Матерьял и стиль в романе Льва Толстого “Война и мир”». Осип Брик писал об этой работе так: «Какая культурная значимость этой работы? Она заключается в том, что если ты хочешь читать войну и мир двенадцатого года, то читай документы, а не читай “Войну и мир” Толстого: а если хочешь получить эмоциональную зарядку от Наташи Ростовой, то читай “Войну и мир”».
Пока не заключён общественный договор об ожиданиях, ситуацию нельзя назвать устоявшейся.
Договор этот, правда, пересматривается.
Идеальной «подлинности» не бывает, но есть ли у читателя исследовательский аппарат, чтобы понять, из чего состоит текст перед ним.
Но потребитель хочет подлинности, будто пришёл в магазин фермерских продуктов. И перед ним невозможны отвлекающие манёвры: правда или вы всё же отфотошопили? И если да, то сколько?
Или он согласен на вымысел, но тогда не прощает неловкого стиля.
Может быть, в литературе будущего на задней стороне обложки (вернее, в уведомлении о скачке файла) будут писать список ингредиентов, будто на банках с консервами: «Е*** — усилители эмоций, Е** — вкрапления городских легенд, Е* — небольшая доля елейного масла».
Промежуточный жанр — всё равно что промежуточный патрон, завоёвывающий мир.
Больше всего он похож на собрание городских легенд, по равной удалённости от точности журналистики, что мнится нам в теории, и литературной поэтики.
Вот, кстати, хорошее трезвое суждение.
Монтаж
Оказывается, что проблема комбинации подлинного и желаемого заметнее, чем где бы то ни было, была поставлена и решена в кинематографе — там раньше поняли, что такое «искусство монтажа» — и многие, наверняка знают про законы Кулешова.
Первый закон Кулешова (собственно, и второй — о том же) о том, как монтаж меняет смысл происходящего, позволяет зрителю додумать и создать свой неаналитический мир и есть правила жизни для этого вербатима (извините, блядь, вырвалось).
Иногда (и не только в нашем случае) вставки публикатора хочется выкинуть, потому что они — сплошной стон актрисы Ахеджаковой, а самое интересное там, наоборот, тексты как бы простых людей. Причём так про авторские вставки говорят не политические оппоненты, а
люди, вполне разделяющие позицию автора.
Проведём эксперимент — уберём их вовсе: получился просто текст из десятков исповедей.
Так кто перед нами — писатель или монтажёр?
А, может, автор тут что-то вроде фольклориста — мы благодарны ему за то, что он шёл по просёлкам, ночевал в деревнях, расшифровывал записи, а не за то, что он придумал сюжет и шлифовал стиль.
Он, будто путешественник Сенкевич, говорит urbi et orbi о жизни аборигенов далёкого Архипелага.
И в этом течении тоже много подводных камней.
Множество книг написано на островах и заезжими путешественниками. Иногда папуасы безудержно хвалят свои порядки, иногда заезжий писатель ночует в тени развесистой клюквы, или рассказывает о том, что бараны в этой местности возят свой курдюк на специальной тележке, а киты проникают из Тихого океана в Атлантический по подземному тоннелю.
Неравнодушие и информированность — базовые условия работы нового Сенкевича, базовые, значит, необходимые, но отнюдь не достаточные.
Вот какой неравнодушный мудрец начнёт рассуждать о том, что слон похож на змею, он сам его ощупывал (вместе с товарищами, которые, впрочем, утверждают, что слон похож на лопух, колонны и шар — смотря, что щупать) — и что с ним делать?
Монтаж документов даёт простор для мягкой манипуляции.
Есть, конечно, простые подлоги, известные или распознаваемые сразу.
Но куда более реальна опасность манипуляции читателем или зрителем с помощью того, что им (читателем или зрителем) считается документом, а на самом деле олицетворяет собой неполное знание. Или иначе, городская легенда — документ?
С одной стороны да, но без объяснения границ её реальности — вовсе нет.
В знаменитом романе Хемингуэя «По ком звонит колокол» советский журналист Карков рассказывает историю о зимних и летних дураках. Прямые фейки и подлоги — это летние дураки.
А вот манипуляция в газетном заголовке — это уже зимние, более опасные дураки.
А то и вовсе манипуляция фактами ради благого дела (которая оборачивается дискредитацией этого благого дела).
Из некоего полного набора документов в том самом нашем конвенциальном смысле можно сделать такой монтаж, что окажется — то ли он шубу украл, то ли у него шубу украли, но явно что за Имярек тянется криминальный след.
И вот этот, трудно распознаваемый феномен, опасен куда более прочего — именно он размывает не просто этические нормы, но и систему нашего познания.
Жизнь жёстче именно там, где зимние дураки.
Данте разделил обманувших доверившихся и обманувших не доверившихся и первых разместил ближе к Коциту.
Если зло открыто и просто, то оно не так страшно.
А вот когда Светлая сторона начинает тобой манипулировать, то тебя (то есть, меня) охватывает тоска — куда деваться? К кому прислониться?
Оно дело — манипуляция в «истой конвенциональной» литературе.
Мы договорились, что это литература, и на её пространстве будем эмоционально сопереживать предложенной конструкции — и играть с автором в игру «поманипулируй, поманипулируй».
Сейчас настало междисциплинарное время и если мы подходим к книге с надеждой, что там заключён конвенциональный документ, то это совсем другой подход.
Мы невидимым образом пользуемся публичной офертой «мы не манипулируем, мы даём вам возможность прикоснуться к подлинности, и за это вы простите нам внесюжетность, косноязычие, etc».
Лекция
В интервью Алексиевич, столь многих расстроившие, мы как раз видим нормальный авторский текст, как в её книгах Алексиевич — нормальный монтаж.
Ну, не то, что бы нормальный, чтобы он меня удовлетворял, но, в общем, отвечающий поставленной задаче.
Нобелевская лекция как раз вариант интервью — только с самим собой.
Собственно, в Нобелевской лекции нашего лауреата это как раз видно — если не смущаться ужасным пафосом этого текста.
Конструкция этой речи построена так — сначала автор самоназначает себя представителем всего народа СССР и говорит: я тут на трибуне не одна, со мной миллионы страдальцев. (И она зачитывает три, что ли, фрагмента своих книг от лица танкистки, чернобыльской вдовы и партизана).
Это и есть монтаж, при том, что ты, дорогой читатель, как, впрочем, и я, никакого удовольствия в ужасах войны не находим, хотим, чтобы никто никого не убивал, и вообще не мучил.
Но тут вступает в силу первый закон Кулешова — собственно эти рассказы о поломанных судьбах, ребёнке, умершем во чреве матери от радиации и прочее — должны вызвать эмоциональный отклик, и если они не вызывают, то нужно сомневаться — человек ли перед тобой.
Это как с военными фотографиями плачущих детей. Фотографы, помнится, порицали эту манипулятивную практику фотографирования детей в военных интерьерах (она приводит к тому, что зритель невольно принимает сторону каких-нибудь комбатантов), но понятно, чем это кончилось.
Так и вообще со страданием.
Затем лектор говорит на понятном для западного читателя языке: вот у нас тут был социальный эксперимент, и я знаю как его объяснить, чтобы вы поставили где-нибудь у себя галочку «explained».
Потом сообщается: «Сразу после войны Теодор Адорно был потрясен: “Писать стихи после Освенцима — это варварство”. Мой учитель Алесь Адамович, чье имя хочу назвать сегодня с благодарностью, тоже считал, что писать прозу о кошмарах XX века кощунственно» — и в эту пафосный абзац можно добавить только, что, когда Адорно говорил это с трибуны (ну, что «стихи после Освенцима писать нельзя»), кто-то выкрикнул из зала «А завтракать можно?»
То есть, этот пафос был давно изжит, человечество не отказалось от памяти, но научилось работать с травматическим прошлым.
Однако спрос на простые эмоции остаётся.
Мне говорили, что лауреат в своей речи обращается не к русскоязычной публике и имеет на это право. Что нельзя на это обижаться, а высказывание эффективно — но не по нашу честь.
Я с этим не могу согласиться. В общем случае Нобелевская речь довольно важное высказывание. Мы знаем десятки чрезвычайно интересных Нобелевских лекций (про сакраментальный пример речи Бродского я и не говорю).
Если действительно «лауреат в своей речи обращается не к русскоязычию» — это беда. Если это осознанно (я не верю в это) — то это ужасная ошибка в рамках именно просветительской позиции Нобелиата — я следую классическому завету судить художника по законам им и составленным.
Если неосознанно, то это и подавно беда.
Из Нобелевской речи можно почерпнуть довольно много — и то, если Нобелиат хочет маркировать «Only for Foreigners», и то (мне это недавно говорили), что Нобелевская лекция Алексиевич отражение метода, которым созданы её книги.
Вот, к примеру,
история с обнаруженной в этой речи автоцитатой из книги «Время сэкондхенд»: «Что я слышала, когда ездила по России: <…>
— Не поротых поколений нам не дождаться; русский человек не понимает свободу, ему нужен казак и плеть».
Есть параллель (не я обнаружил её, но ей воспользуюсь) между этой фразой и словами Максима Горького из статьи «“Механические граждане” СССР»: «За четыре месяца, прожитых мною в Союзе Советов, я получил свыше тысячи писем и, среди них, сотни две посланий от граждан противосоветского умонастроения. Многие из авторов писем требуют ответа, но я физически не могу ответить каждому и отвечаю всем сразу <…>
… вот несколько образцов чёрного словесного дыма, исходящего из глубины обывательских душ: <…>… И, наконец, четвёртый, как говорится, «ставит точку над i» — которое, напомню, уже выкинуто из алфавита, — четвёртый пишет: “Русский народ не понимает свободу, ему нужны казак и плеть”».
«Механическими гражданами», к слову сказать, Горький называет обывателей, что «механическим» образом стали жить в новом обществе и защищает от них Советскую власть. Понятно, что кто-то из собеседников Светланы Алексиевич был начитан (или же память подсказала её эту фразу — эта статья Горького из первого ряда и входила в обязательный список филологического чтения на филологических специальностях), но в результате её метод оказывается совершенно постмодернистским.
Лекция Нобелиата — традиционный экзамен, и если человек на нём валится (как кому-то кажется), то разве это не обстоятельство, которое дано нам в назидание и размышление.
Нет, можно поступить с этим экзаменом как Сартр — но тут надо быть Сартром.
В общем, этот феномен чрезвычайно интересен.
Не в том дело, что это делается на деньги Госдепа (надеюсь, ты, дорогой читатель, вырос из плоских шуток про это), а в том, что трагедии тут перечислены настоящие, но тебе (и мне) об этом рассказывает такая взволнованная Ахеджакова — мы убийцы, у нас страдание, Достоевский-Шаламов, афганские дети без рук, и мы им руки оторвали — то есть, это фейсбучный набор ужаса.
Ты ждёшь обобщения, мудрости, наконец — обещанного объяснения про заявленного «красного человека», а тебе вываливают неструктурированные эмоции.
Но тут самое время оборотиться на себя — что нас заводит, то, что бирка на голове Алексиевич не той системы (или той системы), что все прыгают, как белки-истерички?
Или нас должно занимать, как сделана «Шинель» Гоголя, то есть «Бушлат» Алексиевич?
И как вообще формируется городская легенда (а это в прямой связи), как устроена граница нашего восприятия?
Одним словом, пора завтракать и приниматься за дело.
После Освенцима.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
23 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-25)

…В прежней русской литературе был Гоголь, Жуковский, ну и ближе занавес, которым отделился старый мир от нового — знаменитый рассказ Куприна «Чудесный доктор», в котором хирург Пирогов, будучи неузнанным, лечил бедняка и давал ещё сам денег на лекарства.
Никакого ангела не возникало — чудо было рукотворно. Оно придумало гипсовые повязки и лечило солдат в Севастополе.
Серийных газетных рассказов были сотни — даже Чехов пародировал их.
Советский рождественский рассказ тоже не обошёлся без ангелов.
Ленин приходит на Новый, 1920-й год, к детям в рассказе Бонч-Бруевича «Ленин на ёлке в школе» будто существо высшего мира.
Но всё же, главный советский рождественский рассказ был напечатан во втором номере журнала «Красная новь» за 1939 год и назывался «Телеграмма».
Этот рассказ начинался «Жил человек в лесу возле Синих гор». Это звучит будто зачин библейской книги — «Жил человек в земле Уц».
Если внимательно читать этот рассказ, который потом поменял название на «Чук и Гек», то становится понятно, что он устроен мистическим образом.
Вообще, Гайдар из тех писателей, что передают сам стиль времени, мелкие его детали. Отец героя из «Судьбы барабанщика» — сел за растрату и работает за зачёты на Беломорканале — это указано в тексте, включая топографию. Гайдар очень точно расставляет акценты, расставляет мелкие детали и следит за каждым словом в диалогах.
Мир Гайдара абсолютно связен и совершенно непротиворечив. Это мобилизационный мир накануне большой войны с очень чёткой расстановкой героев, как во всяком мобилизационном эпосе.
Собственно, разбор — дальше.
И, чтобы два раза не вставать — автор ценит, когда ему указывают на ошибки и опечатки.
Извините, если кого обидел.
25 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-27)
 Извините, если кого обидел.
27 декабря 2015
(обратно)
Извините, если кого обидел.
27 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-28)
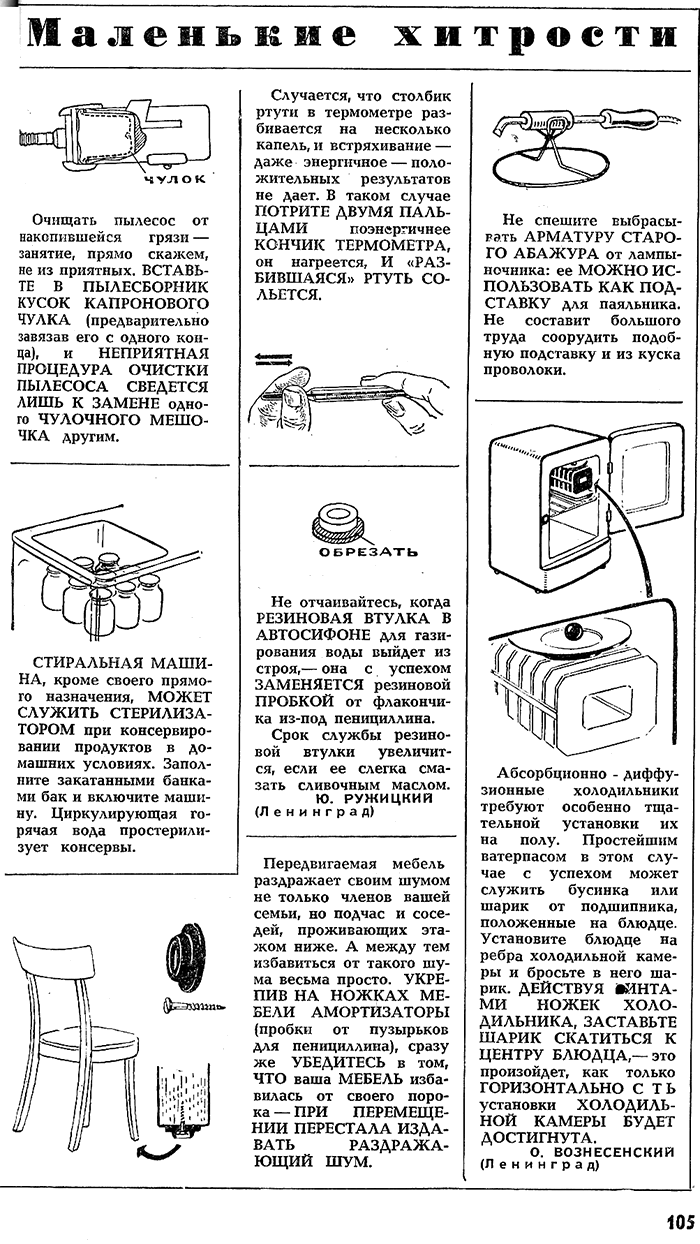
Наличие такого количества крышечек от пенициллина меня не удивляет — в моём детстве на детей его не жалели. Я во дворе видел мальчиков, обсыпанных будто мукой. Гораздо интереснее совет со стерилизацией банок — непонятно, отчего они не будут перемешиваться до состояния мелких фрагментов — там же внутри на стенке — ротор.
Совет с капроновым чулком, который нужно засунуть в пылесос для сбора пыли — это понятно, Предчувствие.
Это практически одноразовый мешок, только чулки должны быть не рваные.
А вот насчёт ртути в градуснике — совет годный, полезный.
Извините, если кого обидел.
28 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-29)

Вот меня что тут поражает — можно защитить лампочку в ванной, накрутив вместо плафона банку 0,8 — "резьба в точности соответствует арматуре.
Нет, ну это ведь совершенно гениальные люди: ходит человек с банкой 0,8 и прикладывает её к разным отверстиям — к дымоходу, унитазу, фановой трубе, и — оппа! — подходит в ванной. Ну, или наоборот: суёт в гнездо что ни попадя — бутылки, картонные стаканчики, консервные банки — и оппа! — резьба подходит.
Понятно, что у нас как-то напряжённо с игрой "Клаустрофобия".
"Стершиеся угольные электроды электробритвы временно заменят кусочки грифеля, напоминает москвич Л. Афанасьев". Помните, да? Электроды электробритвы? Я проблемный сигейтовский диск не понимаю, как из коробочки выковырять, а тут должен вспомнить, где там электроды. Хорошо хоть простой карандаш есть — ведь его грифель подойдёт.
Нет, я вообще-то верю, что среди моих друзей есть такие, что прочинят современную электробритву — старинную точно починят, их двое. Но рисковать, предлагая им запаянный филлипс для установкуи грифелей, я бы не стал.
Ср.: "Однажды Петрушевский сломал свои часы и послал за Пушкиным. Пушкин пришёл, осмотрел часы Петрушевского и положил их обратно на стол. «Что скажешь, брат Пушкин?» — спросил Петрушевский. «Стоп машина», — сказал Пушкин". Вот современный цивилизационный подход.
Ну и, конечно, неизбывный оптимизм — "Если вам кажется, что крюк от люстры вас не выдержит, не расстраивайтесь. Это не проблема — сообщает нам пенсионерка из Елабуги, — есть надёжный способ крепления на косяке".
Извините, если кого обидел.
29 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-30)

Тут чемпион — самодельная занавеска для ванной. И правда, я вспомнил, что в моём детстве занавесок в ванной не было. Ума не приложу почему — не было их в моей жизни — впрочем, ни покупных, ни самодельных.
Вот фокус с пробкой, смоченной в расплавленном парафине, что очищает кафель, мне не очень понятна.
Про соединение трубки с медной проволокой и припоем я и не говорю — непонятно, что они паяли — могли и водонагреватель — отчаянный у нас народ.
Извините, если кого обидел.
30 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-31)

Вот тут чемпион — совет про уголь. Это настоящая физическая задачка, годная для собеседования на вступительных экзаменах на физтех.
Извините, если кого обидел.
31 декабря 2015
(обратно)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-31)
Несколько молодых людей, что праздновали новый год ровно сто лет назад.
Сто лет назад, вот как жизнь обернулась-то.
Извините, если кого обидел.
31 декабря 2015
(обратно)
Примечания
1
Правда, был фильм «Первые на Луне» (2004) — чистый шедевр. Но это был фильм осмысленный, стилистически выверенный. Я ещё помню, как на встрече с авторами космонавт Леонов вился ужом и причитал: «Не так ведь всё было, не так! Спросили бы у нас!»
А создатели фильма глаза прятали. И сопели сдержанно.
(обратно)
2
Я этого персонажа одно время путал с таким неординарным человеком Бажановым. Героический в своём роде был человек этот Борис Бажанов. Он служил помощником у Сталина в Политбюро, а потом в 1928 году перешёл иранскую границу, какое-то время там жил, а потом сбежал от выдачи к англичанам, в Индию. Потом перебрался во Францию и написал там мемуары (несколько заполошные, правда), а помер только в 1982 году, на Пер-Лашез лежит.
Вот это я понимаю, школа выживания. А этот только в татуировках весь.
(обратно)
3
Педиконе П. Тарковские: отец и сын в зеркале судьбы. — М.: ЭНАС,2008. С. 55.
(обратно)
Оглавление
Новый год (1 января) (2015-01-02)
Кошачий король (Рождество. 7 января) (2015-01-07)
Роковые шары (День работника прокуратуры, 12 января) (2015-01-09)
История про то, что два раза не вставать (2015-01-12)
Диалог CCLXVI (2015-01-22)
Захер (День инженерных войск. 21 января) (2015-01-22)
Встреча выпускников (Татьянин день. 25 января) (2015-01-25)
История про то, что два раза не вставать (2015-01-28)
Диалог СCCXСIII (2015-01-30)
История про то, что два раза не вставать (2015-01-30)
История про то, что два раза не вставать (2015-02-02)
История про то, что два раза не вставать (2015-02-07)
Царь обезьян (День российской науки. 8 февраля) (2015-02-08)
История про то, что два раза не вставать (2015-02-09)
Аэропорт (День гражданского воздушного флота. 9 февраля) (2015-02-09)
Снукер (День дипломатического работника. 10 февраля) (2015-02-11)
Два желания (11 февраля) (2015-02-12)
Диалог CDXXI (2015-02-13)
Повесть о Герде и Никандрове (День святого Валентина. 14 февраля) (2015-02-14)
История про то, что два раза не вставать (2015-02-14)
История про то, что два раза не вставать (2015-02-16)
Голем (День Советской армии. 23 февраля) (2015-02-23)
История про то, что два раза не вставать (2015-02-23)
История про то, что два раза не вставать (2015-02-27)
История про то, что два раза не вставать (2015-03-02)
История про то, что два раза не вставать (2015-03-04)
История про то, что два раза не вставать (2015-03-05)
Партизаны (Женский день. 8 марта) (2015-03-06)
Общество мёртвых поэтов (Всемирный день мира для писателя. 3 марта) (2015-03-09)
История про порнографические открытия (2015-03-11)
История про образец стиля (2015-03-11)
История про порнографические дискуссии (2015-03-12)
История про то, что два раза не вставать (2015-03-12)
История про первое порно (2015-03-13)
История про порнографов (2015-03-14)
История о групповом сексе (2015-03-15)
День Святого Патрика (17 марта) (2015-03-17)
История про псевдоидеологизацию (2015-03-18)
Предсказание (День весеннего равноденствия. 20 марта) (2015-03-20)
История про то, что два раза не вставать (2015-03-21)
Хорошая погода (День метеоролога. 23 марта) (2015-03-23)
В пуще (День заповедников. 13 января) (2015-03-24)
Диалог MCXVIII (2015-03-29)
История про то, что два раза не вставать (2015-04-06)
История про то, что два раза не вставать (2015-04-08)
Долгая, долгая жизнь (День здоровья. 7 апреля) (2015-04-08)
История про велосипедистов, часть I (2015-04-10)
История про велосипедистов. Часть II. Кто виноват? (2015-04-10)
Собачья кривая (День войск ПВО. Второе воскресенье апреля) (2015-04-12)
Семиструнка (День цыган. 8 апреля) (2015-04-13)
Бифуркация (День советской науки. Третье воскресенье апреля) (2015-04-18)
Разлив (День рождения В. И. Ленина. 22 апреля) (2015-04-22)
Рассказ непогашенной луны (День астронома. Суббота между серединой апреля и серединой мая, вблизи или перед 1-й четвертью луны) (2015-04-23)
Кошачье сердце (День биолога. Четвёртая суббота апреля) (2015-04-25)
€0,99 (День офисного работника. Последнее воскресенье апреля) (2015-04-26)
Чечётка (День песни и танца. 29 апреля) (2015-04-29)
Ночь при полной луне (День пожарной охраны. 30 апреля)(2015-04-30)
История про то, что два раза не вставать (2015-04-30)
Пентаграмма ОСОАВИАХИМа (День Международной солидарности трудящихся. 1 мая) (2015-05-01)
Радиостанция им. Коминтерна (День радио. 7 мая) (2015-05-07)
История про то, что два раза не вставать (2015-05-08)
Вкус глухаря (День Победы, 9 мая) (2015-05-09)
История про то, что два раза не вставать (2015-05-15)
Дом у моря (День музейного работника. 18 мая) (2015-05-18)
Диалог CDXL (2015-05-21)
Экзамен по русскому (День славянской письменности. 24 мая) (2015-05-24)
История про то, что два раза не вставать (2015-05-25)
С минимальными потерями личного состава (День пограничника. 28 мая) (2015-05-28)
Песочница (День защиты детей. 1 июня) (2015-06-01)
История про то, что два раза не вставать (2015-06-05)
Память воды (День мелиоратора. Первое воскресенье июня) (2015-06-08)
История про то, что два раза не вставать (2015-06-17)
История про то, что два раза не вставать (2015-06-18)
Год без электричества (День медицинского работника. Третье воскресенье июня) (2015-06-20)
История про то, что два раза не вставать (2015-06-26)
История про то, что два раза не вставать (2015-06-26)
История про то, что два раза не вставать (2015-06-27)
История про то, что два раза не вставать (2015-06-27)
Высокое небо Рюгена (День советской науки. Третье воскресенье апреля) (2015-06-28)
Память льда (День антарктиды. 21 июня) (2015-06-29)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-01)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-02)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-05)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-06)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-11)
Царь рыб (День рыбака. Второе воскресенье июля) (2015-07-13)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-20)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-25)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-25)
Восемь транспортов и танкер (День ВМФ. Последнее воскресенье июля) (2015-07-26)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-28)
История про то, что два раза не вставать (2015-07-29)
День десантника (2 августа) (2015-08-02)
Веребьинский разъезд (День железнодорожника. Первое воскресенье августа) (2015-08-03)
История про патриотические песни (2015-08-07)
Про новый дизайн френдленты (2015-08-11)
Ы (День народностей севера. 9 августа) (2015-08-11)
История про то, что два раза не вставать (2015-08-11)
Ночной самолёт в дачном небе (День ВВС. 12 августа) (2015-08-12)
Блистающий мир (День физкультурника. Вторая суббота августа) (2015-08-15)
Отрывок из черновика (2015-08-26)
День кино (27 августа) (2015-08-27)
История про то, что два раза не вставать (2015-08-31)
История про то, что два раза не вставать (2015-09-03)
День города (Первая суббота сентября) (2015-09-04)
Бифуркация (День нефтяника. Первое воскресенье сентября) (2015-09-06)
Победитель дракона (День танкиста. Второе воскресенье сентября)
(2015-09-13)
Балкер «Валентина Серова» (День работников санитарно-эпидемиологической службы. 15 сентября) (2015-09-16)
История про то, что два раза не вставать (2015-09-18)
Русский лес (День работника леса. Третье воскресенье сентября) (2015-09-19)
Пятницкая, 13 (День туриста. 27 сентября) (2015-09-29)
Сон мёртвого человека (День пожилых людей. 1 октября) (2015-10-01)
Дневник (День учителя. 5 октября) (2015-10-04)
История про то, что два раза не вставать (2015-10-07)
История про то, что два раза не вставать (2015-10-07)
История про то, что два раза не вставать (2015-10-21)
Перегон (День автомобилиста. Последнее воскресенье октября) (2015-10-25)
Начальник контрабанды (День таможенника. 25 октября) (2015-10-27)
Архивариус (День архивного работника. 28 октября) (2015-10-28)
Диалог CDLVI (2015-10-29)
… (2015-11-03)
Чёрный кофе (День милиции. 10 ноября) (2015-11-10)
История про то, что два раза не вставать (2015-11-12)
Москвич (День Ашура, десятый день месяца Мухаррам. 23 октября) (2015-11-23)
Из книги "Он говорит" (2015-11-24)
История про то, что два раза не вставать (2015-11-30)
з/к Васильев и Петров з/к (День космонавтики. 1 декабря) (2015-12-02)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-07)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-07)
Червонец (День русского казначейства. 8 декабря) (2015-12-08)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-08)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-09)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-10)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-11)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-12)
Станция (День радиотехнических войск. 15 декабря) (2015-12-17)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-19)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-21)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-21)
Сирены вольфрама (День электрика. 22 декабря) (2015-12-22)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-23)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-25)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-27)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-28)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-29)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-30)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-31)
История про то, что два раза не вставать (2015-12-31)
*** Примечания ***





















 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
 Маленькая история о сегодняшнем празднике третьего плана:
Маленькая история о сегодняшнем празднике третьего плана:



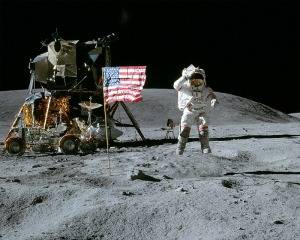









 Только что мне перепоказали фильм Хуциева «Июльский дождь».
С ним, с этим фильмом, очень интересная история.
Часто говорят, что современного зрителя в нём стали захватывать не сюжет, а съёмки Москвы шестидесятых годов прошлого века, ставшие антикварными.
Исчезнувшие улицы и дома, причудливые магазины и киоски, другие люди.
Но только ещё интереснее в этой картине 1966 года, что она послесловие к фильму «Застава Ильича» (1964).
Про «Заставу Ильича» (и её вариант 1965 года «Мне двадцать лет») написано довольно много, история «Июльского дождя» описана куда скромнее, хотя его сравнивают с французской «Новой волной», и вообще много с чем сравнивают. Нет, довольно хорошо известно, что после выхода фильма в газете «Советская культура» было напечатано «Открытое письмо к режиссёру Марлену Хуциеву», где картину ругали — не так, конечно, как ругали картины лет за пятнадцать до этого, но всё же ругали в стиле «установочной статьи».
То есть, с последующими оргвыводами и прочими неприятностями.
Герои нетипичны, фильм растянутый и унылый, ну и «Слабость и <…> мелочность драматургии сценария вы пытались скрыть режиссерскими изысками».
При этом драматургия в фильме как раз очень интересна и сложна.
То есть, я вовсе не хочу всю эту конструкцию защищать — теперь уже непонятно от кого и перед кем, а только хочу сказать, что чрезвычайно интересно, как это всё сделано. Как склеен этот многослойный пирог, что там происходит, и как передаётся от кадра к кадру действие.
Дело в том, что это как бы последний фильм «оттепели» (в соревновании за этот титул участвует много картин, но, тем не менее, «Июльский дождь» — самая известная).
Среди прочего, в фильме все мотивы повторены — история одной любви оттенена историей другой любви, телефонной. Одни персонажи — другими.
И наконец, Хуциев там показывает две сцены посиделок — одни, как мы бы сказали недавно, в «хипстерской» квартире, где гости сидят на тахте и поют под гитару на кухне; и второй — где часть тех же персонажей приехала на шашлыки в лес.
Они приехали туда на машинах, а это знак немаловажный — для того, конечно, времени.
И понятно, что в первой сцене хипстеры хоть и бестолковы, но искренни. А вот потом они, сдавшиеся судьбе, но накормленные, сидят у костра и перспектив у них нет. Только уверенность в завтрашнем дне.
Бард, что пел на кухне, в лесу петь не может — он там, удивительным образом, как птичка в клетке (метафора).
У этого костра они играют в «пти жё», аналог того, что описано Достоевским в известном романе, только вспоминают они не самый гадкий поступок, а самый страшный.
И режиссёр со сценаристом делают знак: «Вот посмотрите, эти новые люди в компании, успешные, со своими заграничными командировками, считают самым страшным событием своей жизни, что у них сломалась машина по дороге на дипломатический приём».
И тут же это побивается гитарным человеком, который, когда до него до него доходит очередь рассказывать, сообщает: «Однажды я пролежал четыре дня в кустах зарослях сирени. Только было одно маленькое неудобство — кругом были их танки, а впереди — наше минное поле. А сирень была крупная, вот такие грозди болтались в прицеле. С тех пор я не люблю запах сирени. А заодно и черёмухи».
Ну и зрителю становится понятно, что бард-фронтовик своей духовностью побивает всех этих дипломатов и успешных учёных.
Под конец этого фильма Визбор обнимается с однополчанами у колонн Большого театра, а мимо в толпе протискивается героиня. На пиджаке у Визбора орден Боевого Красного Знамени, и понятно, что вот он — арбитр правды и всего прочего.
У Хуциева в фильмах эта тема фронтовика, как арбитра всего была постоянной — от «Заставы Ильича» до довольно схематичного «Послесловия», где бездуховный зять стоит против возвышенного старика, в прошлом военного врача.
Но тут, мне кажется, общее свойство всей стилистики шестидесятников, если и есть святое, то это война, и отсыл идёт не к пресловутым «ленинским нормам», а к «фронтовым нормам», к тем людям, которым в середине шестидесятых было совсем немного лет — чуть больше сорока.
Это были очень деятельные люди, многие из которых не только стали начальниками, но бегали за девками и вообще были не чужды всякой жизни. Их авторитет не был съеден, рассказы о сирени близ минного поля не могли ещё показаться пошлостью — это рассказывалось наперво, это было рядом и ощутимо.
Но герои «Июльского дождя» (и это очень хорошо видно) сдавались времени.
А время — вещь даже более безжалостная, чем чужие танки.
«ZOO, или Письма не о любви» Виктора Шкловского кончаются одной историей (в советских переизданиях её часто опускали) — Шкловский пишет:
«Я поднимаю руку и сдаюсь.
Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж <…>
Не повторяйте одной старой эрзерумской истории: при взятии этой крепости друг мой Зданевич ехал по дороге.
По обеим сторонам пути лежали зарубленные аскеры. У всех них сабельные удары пришлись на правую руку и в голову.
Друг мой спросил:
“Почему у всех них удар пришелся в руку и голову?”
Ему ответили:
“Очень просто, аскеры, сдаваясь, всегда поднимают правую руку”».
Суть в том, что эти шестидесятнические конструкции как бы говорили: «Я поднимаю руку и сдаюсь».
Да только спасу им не было.
Более того, теперь пафос барда в лесу проходит гораздо более жестокую проверку.
А Москва в этом фильме и правда красивая, чего уж там.
Только что мне перепоказали фильм Хуциева «Июльский дождь».
С ним, с этим фильмом, очень интересная история.
Часто говорят, что современного зрителя в нём стали захватывать не сюжет, а съёмки Москвы шестидесятых годов прошлого века, ставшие антикварными.
Исчезнувшие улицы и дома, причудливые магазины и киоски, другие люди.
Но только ещё интереснее в этой картине 1966 года, что она послесловие к фильму «Застава Ильича» (1964).
Про «Заставу Ильича» (и её вариант 1965 года «Мне двадцать лет») написано довольно много, история «Июльского дождя» описана куда скромнее, хотя его сравнивают с французской «Новой волной», и вообще много с чем сравнивают. Нет, довольно хорошо известно, что после выхода фильма в газете «Советская культура» было напечатано «Открытое письмо к режиссёру Марлену Хуциеву», где картину ругали — не так, конечно, как ругали картины лет за пятнадцать до этого, но всё же ругали в стиле «установочной статьи».
То есть, с последующими оргвыводами и прочими неприятностями.
Герои нетипичны, фильм растянутый и унылый, ну и «Слабость и <…> мелочность драматургии сценария вы пытались скрыть режиссерскими изысками».
При этом драматургия в фильме как раз очень интересна и сложна.
То есть, я вовсе не хочу всю эту конструкцию защищать — теперь уже непонятно от кого и перед кем, а только хочу сказать, что чрезвычайно интересно, как это всё сделано. Как склеен этот многослойный пирог, что там происходит, и как передаётся от кадра к кадру действие.
Дело в том, что это как бы последний фильм «оттепели» (в соревновании за этот титул участвует много картин, но, тем не менее, «Июльский дождь» — самая известная).
Среди прочего, в фильме все мотивы повторены — история одной любви оттенена историей другой любви, телефонной. Одни персонажи — другими.
И наконец, Хуциев там показывает две сцены посиделок — одни, как мы бы сказали недавно, в «хипстерской» квартире, где гости сидят на тахте и поют под гитару на кухне; и второй — где часть тех же персонажей приехала на шашлыки в лес.
Они приехали туда на машинах, а это знак немаловажный — для того, конечно, времени.
И понятно, что в первой сцене хипстеры хоть и бестолковы, но искренни. А вот потом они, сдавшиеся судьбе, но накормленные, сидят у костра и перспектив у них нет. Только уверенность в завтрашнем дне.
Бард, что пел на кухне, в лесу петь не может — он там, удивительным образом, как птичка в клетке (метафора).
У этого костра они играют в «пти жё», аналог того, что описано Достоевским в известном романе, только вспоминают они не самый гадкий поступок, а самый страшный.
И режиссёр со сценаристом делают знак: «Вот посмотрите, эти новые люди в компании, успешные, со своими заграничными командировками, считают самым страшным событием своей жизни, что у них сломалась машина по дороге на дипломатический приём».
И тут же это побивается гитарным человеком, который, когда до него до него доходит очередь рассказывать, сообщает: «Однажды я пролежал четыре дня в кустах зарослях сирени. Только было одно маленькое неудобство — кругом были их танки, а впереди — наше минное поле. А сирень была крупная, вот такие грозди болтались в прицеле. С тех пор я не люблю запах сирени. А заодно и черёмухи».
Ну и зрителю становится понятно, что бард-фронтовик своей духовностью побивает всех этих дипломатов и успешных учёных.
Под конец этого фильма Визбор обнимается с однополчанами у колонн Большого театра, а мимо в толпе протискивается героиня. На пиджаке у Визбора орден Боевого Красного Знамени, и понятно, что вот он — арбитр правды и всего прочего.
У Хуциева в фильмах эта тема фронтовика, как арбитра всего была постоянной — от «Заставы Ильича» до довольно схематичного «Послесловия», где бездуховный зять стоит против возвышенного старика, в прошлом военного врача.
Но тут, мне кажется, общее свойство всей стилистики шестидесятников, если и есть святое, то это война, и отсыл идёт не к пресловутым «ленинским нормам», а к «фронтовым нормам», к тем людям, которым в середине шестидесятых было совсем немного лет — чуть больше сорока.
Это были очень деятельные люди, многие из которых не только стали начальниками, но бегали за девками и вообще были не чужды всякой жизни. Их авторитет не был съеден, рассказы о сирени близ минного поля не могли ещё показаться пошлостью — это рассказывалось наперво, это было рядом и ощутимо.
Но герои «Июльского дождя» (и это очень хорошо видно) сдавались времени.
А время — вещь даже более безжалостная, чем чужие танки.
«ZOO, или Письма не о любви» Виктора Шкловского кончаются одной историей (в советских переизданиях её часто опускали) — Шкловский пишет:
«Я поднимаю руку и сдаюсь.
Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж <…>
Не повторяйте одной старой эрзерумской истории: при взятии этой крепости друг мой Зданевич ехал по дороге.
По обеим сторонам пути лежали зарубленные аскеры. У всех них сабельные удары пришлись на правую руку и в голову.
Друг мой спросил:
“Почему у всех них удар пришелся в руку и голову?”
Ему ответили:
“Очень просто, аскеры, сдаваясь, всегда поднимают правую руку”».
Суть в том, что эти шестидесятнические конструкции как бы говорили: «Я поднимаю руку и сдаюсь».
Да только спасу им не было.
Более того, теперь пафос барда в лесу проходит гораздо более жестокую проверку.
А Москва в этом фильме и правда красивая, чего уж там.

 Он говорит: «Нам-то с вами это не актуально, но я всё же расскажу про сандалии. Оставим в стороне разницу между сандалиями и сандалетами, чёрт с ними, не в этом дело.
Я с молодости не мог понять, отчего сандалии нельзя было носить с носками. В детстве-то я видел, что все носят, и — ничего. То есть, нет, в моём детстве все только так и носили. Я не то, что с носками, на колготки эти сандалии надевал (вот тоже битва при этих глаголахе, как при Марафоне — скоро учёные люди эту разницу отменят, но я бы вот не стал — о чём говорить тогда, на что вскинуться образованному человеку, как суслику в степи, встать столбиком, засвистеть протяжно?.. Но я о носках — попробовал бы кто из нас, малолетних кандальников, эти сандалики на босу ногу надеть.
Но вот вопрос, который меня всегда мучил, — когда началась эта война модников против носков?
Что это за шибболет метросексуальный, выискивать людей в носках и сандалиях?
Где корни этой охоты на ведьм?
Где истоки?
Зачем?
По что?
Вот как-то спросили одного знатного чиновника по делам молодёжи, прямо в телевизоре спросили, откуда взялась эта вещь про носки с сандалиями?
Спросили оттого, что он запретил молодым людям их носить совместно и норовил отчислить из-за этого всякого из своего молодёжного лагеря.
Отвечал на это руководитель так:
— Есть вещи, которые человек должен чувствовать. Вот не нужно майку внутрь тренировочных штанов одевать или там надевать, если ты не Чак Норрис. Вот Чак Норрис может себе позволить себе рубашку одеть под ремень в джинсы. Но если твоя фамилия какая-то другая, то не надо этого делать. Я вообще на эту тему долго думал. Вот мужчине в трусах вообще не надо ходить. Ну, не надо, если он не на приеме у врача, может быть, на пляже. А у нас люди сидят на лекциях в трусах. На лекциях! Это означает, что у него нет мозга. Такие вещи люди просто должны чувствовать. И вот эта — одна из них. Я это давно почувствовал, и в свое время, еще на первом Селигере, когда я наблюдал этот ужас — вот такие сандалии, черные отвратительные сандалии (они на пляже обычно продаются турецкие, разваливающиеся), вот такой же черный отвратительный носок… Если один такой человек пройдет по форуму, форум можно закрывать. Любой профессор Стендфорда, любой уважающий себя человек, увидев такое в носках и сандалиях, может сразу развернуться и уехать. Значит, здесь что-то не так…
Вот как говорил чиновник, да правда, сразу после этой речи куда-то сгинул.
Победили его носки. Или сандалии победили — не знаю.
Я не диссидент, а циник. Если слало чуть прохладнее, но не настолько, чтобы надеть туфли — отчего нет? Мне в моём цинизме сложно поддаться общественному давлению.
Однако, одни мне говорили, что метросексуалы в этой войне показывают свою мужественность, дескать, не натрут нам сандалии ноги, как каким-нибудь неженкам. Другие же товарищи рядом увязывали проблему с необходимостью предъявить педикюр. Впрочем, достаточно толстый слой лака может снять необходимость использования как носков, так и самих сандалий.
Спрашивают так же: “Апостолы носили сандалии. Носили ли апостолы носки?” — на это мы отвечаем: “Наверняка! Холодны ночи в Галилее. И если бы Пётр носил, как все они, носки, не пришлось бы ему выходить к костру и отрекаться”.
Современные израильтяне уверяли, что по этому шибболету отличали неадаптировавшихся русских эмигрантов, стоящих в самом конце пищевой цепочки.
Но потом вышло, что по этому принципу можно опознать любую нацию.
Очевидно, что первым марафон пробежал человек в сандалиях.
Скажу иначе — бегать в сандалиях с перевязанными веревочками, сандалиях третьего срока, действительно не сахар. А вот новенькие сандалии отлично приспособлены для бега.
Вон, Меркурий, он же Гермес — толк понимал. По хозяйственной части служил. Так он в сандалиях не то что бегал — летал. Неизвестно, носил ли он носки, но мы знаем наверняка только то, что он не носил носки из синтетики. И это, я скажу, совершенно правильный выбор.
Маршал Жуков и вовсе носил портянки.
А воевал не хуже марафонцев.
Оказалось, что большинство европейских наций считает сандалоносочников неудачниками и растяпами, и именно по этой черте одежды отличает своих — немцев, французов, русских. Впрочем, говорит, и лоха-американца легко отличить именно по этому сочетанию.
Мне подсказывают, что Валентин Катаев в беллетризованных мемуарах “Трава забвения” описывал Бунина весьма примечательно: “Бунин был дачник столичный, изысканно-интеллигентный, в дорогих летних сандалиях, заграничных носках…” В аристократизме Бунина сомневаться как-то не принято, как и в интеллигентности его собеседников, которым было всё равно: “…на стуле и заложив ногу за ногу, он весьма светски беседовал с папой, одетым почти так же, как Бунин, с той лишь разницей, что холщовая вышитая рубаха отца была более просторна, застирана и подпоясана крученым шелковым поясом с махрами, а сандалии были рыночные, дешевые и надеты на босу ногу”.
Сдаётся мне, что сандалоносочное безумие в современной России было связано вот с чем — отцы моего поколения вполне себе никого не стесняясь, носили носки с сандалиями (если не работали в горячем цеху). А для человека в НИИ это было спасением от целого букета ножных болезней.
Потом пришла Перестройка и состарившиеся отцы из НИИ, со своими кульманами и ватманами, с учёными степенями и званиями стали синонимов лузеров.
Причём и в моём Отечестве, и в странах, куда многие работники рейсфедеров и рейсшин перебрались. Привычки они свои, конечно, не меняли. Именно поэтому нынешние сорокалетние с таким ужасом глядели на это сочетание. Пятнадцатилетним на всё наплевать — они знают, что можно носить всё со всем и видели в телевизоре не только молодёжного начальника, но и показы Живанши и Прада, где по подиуму рассекают модели в золочёных сандалиях и чёрных носках с искрой.
Я, кстати, с пониманием отношусь к людям, подозревающим носки с сандалиями в общественной опасности для обоняния. Я видал случаи, когда фраза “Наденьте же ботинки, и так дышать нечем!” была вполне уместной. Однако ж, с другой стороны, всяк может ощутить, как ужасна немытость голых ног в открытой обуви!
Меня тут стали уверять, что и мокасины нужно носить на босу ногу. Ну так про мокасины мне ничего неизвестно. Мокасины для меня что-то из джекалондона. Их надо с трудом стянуть с натруженных ног, предварительно срезав обледеневшие завязки. Я только знаю, что в тяжёлый час, в трудную годину, их нужно сварить и съесть, или просто съесть, как съел героический сержант Зиганшин — сапоги. Сначала гармонь, а потом — сапоги. Одним словом: “Когда я услыхал, как Калтус Джордж орет на перевале на своих собак, эти чертовы сиваши уже слопали мои мокасины, и рукавицы, и все ремни, и футляр от моего ножа, а кое-кто уже стал и на меня посматривать этакими голодными глазищами… понимаете, я ведь потолще их”.
Я как раз думал об обстоятельствах вкуса. И в связи с этим вспомнил какого-то малолетнего певца, эстрадную знаменитость, подростка, что принципиально вышел на сцену во фраке и белых кроссовках. Я рассуждал о нём вполне академически (певца этого я за человека не считал совершенно по иным причинам), и вот канва размышлений была такая: есть некий костюм, который, по сути, неразрывен, просто носится в несколько частей. Разрывать его нельзя, вроде как нельзя носить неверную, неуставную форму. И общественное раздражение как раз возникает, когда форма нарушена. Но сейчас в разные части и подразделения приказы спускаются несвоевременно. Одни по-прежнему ходят в грачёвских аэродромах, другие уже нацепили каракулевые береты от Юдашкина. Где-то и вовсе ополоумевшего инспектора встречает часовой в будёновке. Интуитивно наблюдателя пугает генерал в полной форме и чешках, точно так же, как и концертный костюм с кроссовками. Такой генерал подобен бегущему по улице человеку его же звания — он сеет панику.
Но когда выясняется, что войны нет, то включается нормальная ксенофобия по признаку: “Нет, я ничего против не имею, у меня даже один друг носил носки с сандалиями, но всё-таки, лучше их всех, вместе со всей их обувью — в Дахау”.
Но придёт директива из Prada, что нужно носки под сандалии носить, пройдёт пара-тройка лет и все будут говорить, как в тридцатые и сороковые у них, и как в пятидесятые-шестидесятые у нас “Без носков? Фу…”
Люди стадны и мычат.
Уже пишут: “Носки с сандалиями, туфлями встречаются в свежих коллекциях Prada, Mark Jacobs, Ferragamo, Dior, Galliano, Dolce & Gabbana и других”, и я сразу верю. Всеми фибрами.
Пару лет назад даже журнал “Сноб” разрешил нам носить одновременно и то и другое.
А уж он-то ого-го.
Не забыть, ещё, кстати, купить сандалии. Носки у меня уже есть».
Он говорит: «Нам-то с вами это не актуально, но я всё же расскажу про сандалии. Оставим в стороне разницу между сандалиями и сандалетами, чёрт с ними, не в этом дело.
Я с молодости не мог понять, отчего сандалии нельзя было носить с носками. В детстве-то я видел, что все носят, и — ничего. То есть, нет, в моём детстве все только так и носили. Я не то, что с носками, на колготки эти сандалии надевал (вот тоже битва при этих глаголахе, как при Марафоне — скоро учёные люди эту разницу отменят, но я бы вот не стал — о чём говорить тогда, на что вскинуться образованному человеку, как суслику в степи, встать столбиком, засвистеть протяжно?.. Но я о носках — попробовал бы кто из нас, малолетних кандальников, эти сандалики на босу ногу надеть.
Но вот вопрос, который меня всегда мучил, — когда началась эта война модников против носков?
Что это за шибболет метросексуальный, выискивать людей в носках и сандалиях?
Где корни этой охоты на ведьм?
Где истоки?
Зачем?
По что?
Вот как-то спросили одного знатного чиновника по делам молодёжи, прямо в телевизоре спросили, откуда взялась эта вещь про носки с сандалиями?
Спросили оттого, что он запретил молодым людям их носить совместно и норовил отчислить из-за этого всякого из своего молодёжного лагеря.
Отвечал на это руководитель так:
— Есть вещи, которые человек должен чувствовать. Вот не нужно майку внутрь тренировочных штанов одевать или там надевать, если ты не Чак Норрис. Вот Чак Норрис может себе позволить себе рубашку одеть под ремень в джинсы. Но если твоя фамилия какая-то другая, то не надо этого делать. Я вообще на эту тему долго думал. Вот мужчине в трусах вообще не надо ходить. Ну, не надо, если он не на приеме у врача, может быть, на пляже. А у нас люди сидят на лекциях в трусах. На лекциях! Это означает, что у него нет мозга. Такие вещи люди просто должны чувствовать. И вот эта — одна из них. Я это давно почувствовал, и в свое время, еще на первом Селигере, когда я наблюдал этот ужас — вот такие сандалии, черные отвратительные сандалии (они на пляже обычно продаются турецкие, разваливающиеся), вот такой же черный отвратительный носок… Если один такой человек пройдет по форуму, форум можно закрывать. Любой профессор Стендфорда, любой уважающий себя человек, увидев такое в носках и сандалиях, может сразу развернуться и уехать. Значит, здесь что-то не так…
Вот как говорил чиновник, да правда, сразу после этой речи куда-то сгинул.
Победили его носки. Или сандалии победили — не знаю.
Я не диссидент, а циник. Если слало чуть прохладнее, но не настолько, чтобы надеть туфли — отчего нет? Мне в моём цинизме сложно поддаться общественному давлению.
Однако, одни мне говорили, что метросексуалы в этой войне показывают свою мужественность, дескать, не натрут нам сандалии ноги, как каким-нибудь неженкам. Другие же товарищи рядом увязывали проблему с необходимостью предъявить педикюр. Впрочем, достаточно толстый слой лака может снять необходимость использования как носков, так и самих сандалий.
Спрашивают так же: “Апостолы носили сандалии. Носили ли апостолы носки?” — на это мы отвечаем: “Наверняка! Холодны ночи в Галилее. И если бы Пётр носил, как все они, носки, не пришлось бы ему выходить к костру и отрекаться”.
Современные израильтяне уверяли, что по этому шибболету отличали неадаптировавшихся русских эмигрантов, стоящих в самом конце пищевой цепочки.
Но потом вышло, что по этому принципу можно опознать любую нацию.
Очевидно, что первым марафон пробежал человек в сандалиях.
Скажу иначе — бегать в сандалиях с перевязанными веревочками, сандалиях третьего срока, действительно не сахар. А вот новенькие сандалии отлично приспособлены для бега.
Вон, Меркурий, он же Гермес — толк понимал. По хозяйственной части служил. Так он в сандалиях не то что бегал — летал. Неизвестно, носил ли он носки, но мы знаем наверняка только то, что он не носил носки из синтетики. И это, я скажу, совершенно правильный выбор.
Маршал Жуков и вовсе носил портянки.
А воевал не хуже марафонцев.
Оказалось, что большинство европейских наций считает сандалоносочников неудачниками и растяпами, и именно по этой черте одежды отличает своих — немцев, французов, русских. Впрочем, говорит, и лоха-американца легко отличить именно по этому сочетанию.
Мне подсказывают, что Валентин Катаев в беллетризованных мемуарах “Трава забвения” описывал Бунина весьма примечательно: “Бунин был дачник столичный, изысканно-интеллигентный, в дорогих летних сандалиях, заграничных носках…” В аристократизме Бунина сомневаться как-то не принято, как и в интеллигентности его собеседников, которым было всё равно: “…на стуле и заложив ногу за ногу, он весьма светски беседовал с папой, одетым почти так же, как Бунин, с той лишь разницей, что холщовая вышитая рубаха отца была более просторна, застирана и подпоясана крученым шелковым поясом с махрами, а сандалии были рыночные, дешевые и надеты на босу ногу”.
Сдаётся мне, что сандалоносочное безумие в современной России было связано вот с чем — отцы моего поколения вполне себе никого не стесняясь, носили носки с сандалиями (если не работали в горячем цеху). А для человека в НИИ это было спасением от целого букета ножных болезней.
Потом пришла Перестройка и состарившиеся отцы из НИИ, со своими кульманами и ватманами, с учёными степенями и званиями стали синонимов лузеров.
Причём и в моём Отечестве, и в странах, куда многие работники рейсфедеров и рейсшин перебрались. Привычки они свои, конечно, не меняли. Именно поэтому нынешние сорокалетние с таким ужасом глядели на это сочетание. Пятнадцатилетним на всё наплевать — они знают, что можно носить всё со всем и видели в телевизоре не только молодёжного начальника, но и показы Живанши и Прада, где по подиуму рассекают модели в золочёных сандалиях и чёрных носках с искрой.
Я, кстати, с пониманием отношусь к людям, подозревающим носки с сандалиями в общественной опасности для обоняния. Я видал случаи, когда фраза “Наденьте же ботинки, и так дышать нечем!” была вполне уместной. Однако ж, с другой стороны, всяк может ощутить, как ужасна немытость голых ног в открытой обуви!
Меня тут стали уверять, что и мокасины нужно носить на босу ногу. Ну так про мокасины мне ничего неизвестно. Мокасины для меня что-то из джекалондона. Их надо с трудом стянуть с натруженных ног, предварительно срезав обледеневшие завязки. Я только знаю, что в тяжёлый час, в трудную годину, их нужно сварить и съесть, или просто съесть, как съел героический сержант Зиганшин — сапоги. Сначала гармонь, а потом — сапоги. Одним словом: “Когда я услыхал, как Калтус Джордж орет на перевале на своих собак, эти чертовы сиваши уже слопали мои мокасины, и рукавицы, и все ремни, и футляр от моего ножа, а кое-кто уже стал и на меня посматривать этакими голодными глазищами… понимаете, я ведь потолще их”.
Я как раз думал об обстоятельствах вкуса. И в связи с этим вспомнил какого-то малолетнего певца, эстрадную знаменитость, подростка, что принципиально вышел на сцену во фраке и белых кроссовках. Я рассуждал о нём вполне академически (певца этого я за человека не считал совершенно по иным причинам), и вот канва размышлений была такая: есть некий костюм, который, по сути, неразрывен, просто носится в несколько частей. Разрывать его нельзя, вроде как нельзя носить неверную, неуставную форму. И общественное раздражение как раз возникает, когда форма нарушена. Но сейчас в разные части и подразделения приказы спускаются несвоевременно. Одни по-прежнему ходят в грачёвских аэродромах, другие уже нацепили каракулевые береты от Юдашкина. Где-то и вовсе ополоумевшего инспектора встречает часовой в будёновке. Интуитивно наблюдателя пугает генерал в полной форме и чешках, точно так же, как и концертный костюм с кроссовками. Такой генерал подобен бегущему по улице человеку его же звания — он сеет панику.
Но когда выясняется, что войны нет, то включается нормальная ксенофобия по признаку: “Нет, я ничего против не имею, у меня даже один друг носил носки с сандалиями, но всё-таки, лучше их всех, вместе со всей их обувью — в Дахау”.
Но придёт директива из Prada, что нужно носки под сандалии носить, пройдёт пара-тройка лет и все будут говорить, как в тридцатые и сороковые у них, и как в пятидесятые-шестидесятые у нас “Без носков? Фу…”
Люди стадны и мычат.
Уже пишут: “Носки с сандалиями, туфлями встречаются в свежих коллекциях Prada, Mark Jacobs, Ferragamo, Dior, Galliano, Dolce & Gabbana и других”, и я сразу верю. Всеми фибрами.
Пару лет назад даже журнал “Сноб” разрешил нам носить одновременно и то и другое.
А уж он-то ого-го.
Не забыть, ещё, кстати, купить сандалии. Носки у меня уже есть».

 Летом Москва пахнет бензином и асфальтом — днём этот запах неприятен, раздирает лёгкие и дурманит голову, но поздним вечером пьянит и дразнит. Город, выдохнув смрад днём, теперь отдыхает.
Проезжает мимо что-что чёрное и лакированное, несётся оттуда ритмичное и бессловесное, на перекрёстке можно почуять запах кожи — от дорогих сидений и дорогих женщин.
Интересно в Москве жарким летом, когда ночь прихлопывает одинокого горожанина, как ведро зазевавшуюся мышь.
Чтобы спрямить дорогу домой, Раевский пошёл через вокзал, где тянулся под путями длинный, похожий на туннель под Ла Маншем, переход.
В переходе к нему подошёл мальчик с грязной полосой на лбу.
— Дядя, — сказал мальчик, — дай денег. А не дашь (и он цепко схватил Раевского за руку), не дашь — я тебя укушу. А у меня СПИД.
Отшатнувшись, Раевский ударился спиной о равнодушный кафель и огляделся. Никого больше вокруг не было.
Он залез в карман, и мятый денежный ком поменял владельца. Мальчик отпрыгнул в сторону, метко плюнул Раевскому в ухо и исчез. Снова вокруг было пусто — только Раевский, пустой подземный коридор, да бумажки, которые гонит ветром.
Раевский детей любил — но на расстоянии. Он хорошо понимал, что покажи человеку кота со сложенными лапками — заплачет человек и из людоеда превратится в мышку, сладкую для хищного котика пищу. И дети были такими же, как котята на открытках — действие их было почти химическое.
И с этим мерзавцем тоже — пойди пойми — заразный он на самом деле или просто обманщик.
Не проверишь.
Летом Москва пахнет бензином и асфальтом — днём этот запах неприятен, раздирает лёгкие и дурманит голову, но поздним вечером пьянит и дразнит. Город, выдохнув смрад днём, теперь отдыхает.
Проезжает мимо что-что чёрное и лакированное, несётся оттуда ритмичное и бессловесное, на перекрёстке можно почуять запах кожи — от дорогих сидений и дорогих женщин.
Интересно в Москве жарким летом, когда ночь прихлопывает одинокого горожанина, как ведро зазевавшуюся мышь.
Чтобы спрямить дорогу домой, Раевский пошёл через вокзал, где тянулся под путями длинный, похожий на туннель под Ла Маншем, переход.
В переходе к нему подошёл мальчик с грязной полосой на лбу.
— Дядя, — сказал мальчик, — дай денег. А не дашь (и он цепко схватил Раевского за руку), не дашь — я тебя укушу. А у меня СПИД.
Отшатнувшись, Раевский ударился спиной о равнодушный кафель и огляделся. Никого больше вокруг не было.
Он залез в карман, и мятый денежный ком поменял владельца. Мальчик отпрыгнул в сторону, метко плюнул Раевскому в ухо и исчез. Снова вокруг было пусто — только Раевский, пустой подземный коридор, да бумажки, которые гонит ветром.
Раевский детей любил — но на расстоянии. Он хорошо понимал, что покажи человеку кота со сложенными лапками — заплачет человек и из людоеда превратится в мышку, сладкую для хищного котика пищу. И дети были такими же, как котята на открытках — действие их было почти химическое.
И с этим мерзавцем тоже — пойди пойми — заразный он на самом деле или просто обманщик.
Не проверишь.





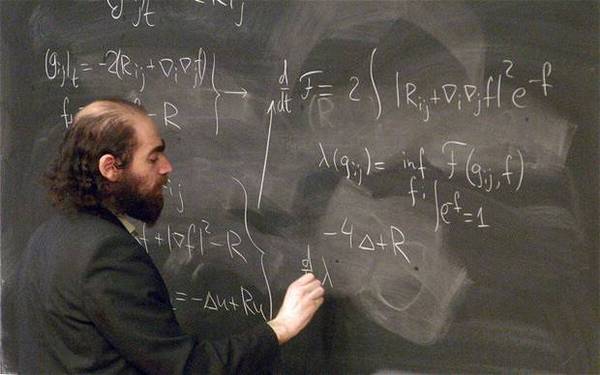

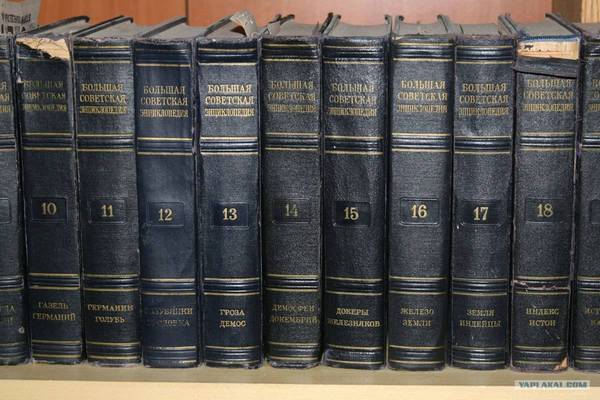 У меня был тесть.
Эко невидаль, скажете вы. Но дело в том, что у меня был тесть-шахматист. Ну, в прочей жизни он был математик, но речь идёт о шахматах.
Дело в том, что мы с ним как-то завели разговор о стратегической роли шахмат, и об особых навыках шахматиста. Я играл в детстве, и даже имел детский разряд (теперь, кажется, это понятие кануло в бездну вместе с октябрятскими звёздочками). И вот он сказал мне веско, что если человек хорошо играет в шахматы, это означает только то, что он хорошо играет в шахматы. Это не означает того, что он выдающийся стратег или лучше соображает.
Это означает только то, что он хорошо играет в шахматы.
С эрудитами ровно тоже самое — это состояние значит только то, что человек помнит многое из прочитанного.
Это не означает даже, что он может хорошо обрабатывать информацию.
Меня давно занимала история с Вассерманом.
Казус Вассермана действительно очень интересен.
И для меня он заключается в том, что он совершенно не может спекулировать своей эрудицией.
А ведь он обладает именно не знаниями, которые предполагают систему и методы обработки, а эрудицией.
То есть, любой другой мало-мальски начитанный человек использует свои знания как инструмент. Некоторые — так, будто шулеру открылась возможность видеть сквозь рубашку карты, другие, для убыстрения работы. Наконец, можно использовать эрудицию для обольщения.
В общем, можно с ней что-то делать.
Ну, или отстаивать свои химерические построения на фоне неполного знания других, применяя нехитрые риторические приёмы.
Меж тем Вассерман городит какую-то хуйню и пользуется только урожаем на первом ходе. При первом же возражении он становится в тупик, вращает глазами и жужжит наподобие застрявшего робота.
Причём это возражение (не только от специалиста, не об этом речь), но просто от логически размышляющего человека, не так сложно отбить, будучи человеком циничным.
Игроком, даже не обязательно шулером.
Другой бы уже улыбнулся публике, кинул на лопате говна в оппонента, снова улыбнулся, присыпал бы сказанное новой химерой, а Вассерман стоит, будто ему ещё не посчитали очки в «Своей игре».
То есть, я скажу проще — Вассерман работает с невежественным слушателем, который в силу каких-то, быть может, уважительных причин, не прочитал Второе издание Большой Советской Энциклопедии насквозь, и он, этот слушатель, испытывает закономерное уважение к прочитавшему и запомнившему.
Но дальше вступает закон интерпретации и порождения новых смыслов, а Вассерман никаких смыслов не порождает, а является просто энциклопедией с устройством вывода через гортань и голосовые связки.
Оттого он и проигрывает узкому специалисту, или просто специалисту в конкретном вопросе — будь это истории польских пленных в Катыни или мировая экономика.
То есть, это такой человек, что оснащён памятью Википедии.
Вот, кстати, с Википедией в этом случае — хороший пример.
Потому как наша, русская Википедия суть пространство неожиданностей, как сама Россия.
И гипотетический Вассерман-2, состоящий из обычного человека, оснащённого мобильником с Интернетом, оказывается транслятором иногда нормальных вещей, а иногда — невообразимой хуеты и даже стиль этой трансляции совершенно непредсказуем.
И действует не хуже Вассермана — с поправкой, разумеется, на быстроту интернет-соединения.
А спроси этого человека что-то поперёк, так он зажужжит, глазами завращает — будто застрявший робот колёсиками.
У меня был тесть.
Эко невидаль, скажете вы. Но дело в том, что у меня был тесть-шахматист. Ну, в прочей жизни он был математик, но речь идёт о шахматах.
Дело в том, что мы с ним как-то завели разговор о стратегической роли шахмат, и об особых навыках шахматиста. Я играл в детстве, и даже имел детский разряд (теперь, кажется, это понятие кануло в бездну вместе с октябрятскими звёздочками). И вот он сказал мне веско, что если человек хорошо играет в шахматы, это означает только то, что он хорошо играет в шахматы. Это не означает того, что он выдающийся стратег или лучше соображает.
Это означает только то, что он хорошо играет в шахматы.
С эрудитами ровно тоже самое — это состояние значит только то, что человек помнит многое из прочитанного.
Это не означает даже, что он может хорошо обрабатывать информацию.
Меня давно занимала история с Вассерманом.
Казус Вассермана действительно очень интересен.
И для меня он заключается в том, что он совершенно не может спекулировать своей эрудицией.
А ведь он обладает именно не знаниями, которые предполагают систему и методы обработки, а эрудицией.
То есть, любой другой мало-мальски начитанный человек использует свои знания как инструмент. Некоторые — так, будто шулеру открылась возможность видеть сквозь рубашку карты, другие, для убыстрения работы. Наконец, можно использовать эрудицию для обольщения.
В общем, можно с ней что-то делать.
Ну, или отстаивать свои химерические построения на фоне неполного знания других, применяя нехитрые риторические приёмы.
Меж тем Вассерман городит какую-то хуйню и пользуется только урожаем на первом ходе. При первом же возражении он становится в тупик, вращает глазами и жужжит наподобие застрявшего робота.
Причём это возражение (не только от специалиста, не об этом речь), но просто от логически размышляющего человека, не так сложно отбить, будучи человеком циничным.
Игроком, даже не обязательно шулером.
Другой бы уже улыбнулся публике, кинул на лопате говна в оппонента, снова улыбнулся, присыпал бы сказанное новой химерой, а Вассерман стоит, будто ему ещё не посчитали очки в «Своей игре».
То есть, я скажу проще — Вассерман работает с невежественным слушателем, который в силу каких-то, быть может, уважительных причин, не прочитал Второе издание Большой Советской Энциклопедии насквозь, и он, этот слушатель, испытывает закономерное уважение к прочитавшему и запомнившему.
Но дальше вступает закон интерпретации и порождения новых смыслов, а Вассерман никаких смыслов не порождает, а является просто энциклопедией с устройством вывода через гортань и голосовые связки.
Оттого он и проигрывает узкому специалисту, или просто специалисту в конкретном вопросе — будь это истории польских пленных в Катыни или мировая экономика.
То есть, это такой человек, что оснащён памятью Википедии.
Вот, кстати, с Википедией в этом случае — хороший пример.
Потому как наша, русская Википедия суть пространство неожиданностей, как сама Россия.
И гипотетический Вассерман-2, состоящий из обычного человека, оснащённого мобильником с Интернетом, оказывается транслятором иногда нормальных вещей, а иногда — невообразимой хуеты и даже стиль этой трансляции совершенно непредсказуем.
И действует не хуже Вассермана — с поправкой, разумеется, на быстроту интернет-соединения.
А спроси этого человека что-то поперёк, так он зажужжит, глазами завращает — будто застрявший робот колёсиками.









 Вот сегодня день рождения поэтессы Софьи Парнок.
Непростой, юбилейный.
Известна она, правда, не сколько своими стихами, а женской любовью.
Но это не беда — могла бы какой ужасной смертью быть известна.
Я был довольно долго её соседом.
Я жил неподалёку от дома, где родился Пастернак — в странном небольшом доме. Дом этот когда-то был служебным у военного ведомства, и в нём расстреляли несколько составов жильцов — волнами.
Единственная квартира, в которой никого не расстреляли, была квартира моей родственницы.
Её муж счастливо умер в 1936 году.
А вот в соседнем доме жила поэтесса Парнок.
Она жила у меня за стенкой фактически, только на полвека раньше.
Эти дома были маленькие и стояли стена к стене.
Известно, что дом, где жила Парнок строил знаменитый архитектор Нирензее. В Москве что-то лихо снесли за последнее время много его домов, и поэтому проектировщикам велели, когда они это снесут, сохранить в новом здании форму старого фасада.
Но потом это разудалое дело сноса замедлилось, меня, впрочем, оттуда уже давно выселили.
Я к государственной машине сноса и разрушений относился философски, помня фразу Шкловского: «Когда мы уступаем дорогу автобусу, то мы делаем это не из вежливости».
Но вот старухи из моего дома боролись.
И соседские — тоже.
Однажды я пришёл к старухам, что пытались отстоять эти дома, на собрание.
Я сказал им:
— Старухи! Давайте повесим тут мемориальную доску: «Здесь в 1914 году Марина Цветаева потеряла невинность с Софьей Парнок». Дом станет выявленным памятником, на угол даже собаки ссать побоятся — и всё такое.
Но старухи обиделись и меня больше не звали.
Впрочем, дом Парнок, кажется, отстояли.
Вот сегодня день рождения поэтессы Софьи Парнок.
Непростой, юбилейный.
Известна она, правда, не сколько своими стихами, а женской любовью.
Но это не беда — могла бы какой ужасной смертью быть известна.
Я был довольно долго её соседом.
Я жил неподалёку от дома, где родился Пастернак — в странном небольшом доме. Дом этот когда-то был служебным у военного ведомства, и в нём расстреляли несколько составов жильцов — волнами.
Единственная квартира, в которой никого не расстреляли, была квартира моей родственницы.
Её муж счастливо умер в 1936 году.
А вот в соседнем доме жила поэтесса Парнок.
Она жила у меня за стенкой фактически, только на полвека раньше.
Эти дома были маленькие и стояли стена к стене.
Известно, что дом, где жила Парнок строил знаменитый архитектор Нирензее. В Москве что-то лихо снесли за последнее время много его домов, и поэтому проектировщикам велели, когда они это снесут, сохранить в новом здании форму старого фасада.
Но потом это разудалое дело сноса замедлилось, меня, впрочем, оттуда уже давно выселили.
Я к государственной машине сноса и разрушений относился философски, помня фразу Шкловского: «Когда мы уступаем дорогу автобусу, то мы делаем это не из вежливости».
Но вот старухи из моего дома боролись.
И соседские — тоже.
Однажды я пришёл к старухам, что пытались отстоять эти дома, на собрание.
Я сказал им:
— Старухи! Давайте повесим тут мемориальную доску: «Здесь в 1914 году Марина Цветаева потеряла невинность с Софьей Парнок». Дом станет выявленным памятником, на угол даже собаки ссать побоятся — и всё такое.
Но старухи обиделись и меня больше не звали.
Впрочем, дом Парнок, кажется, отстояли.









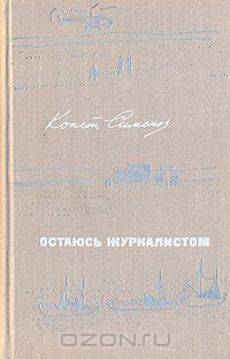 Есть такая забытая ныне книга Симонова "Остаюсь журналистом".
Это очень интересный феномен советских журналистов, которые собирали в книгу свои очерки и статьи.
Традиция эта, в общем, довольно давняя, и сейчас популярная персона распоряжается не только своими текстами, но и сценариями своих телепередач по безотходному принципу.
Но если сейчас это диктуется законами рынка, то в прежние времена этими сборниками управляли свои, особенныек законы.
Что тут интересного?
А то, что Симонов в эти годы (вернее, в части тех лет, когда писались эти очерки, находился в опале.
Автор не просто всенародно любимых стихов, а всенародно помнимых стихов, лауреат шести Сталинских премий, главный редактор "Нового мира" и "Литературной газеты" оказался жителем Ташкента.
Он, хоть и был специальным корреспондентом газеты "Правда" — должность очень сильная, но это всё-таки изменения радикальные.
В книгу, впрочем, вошли путевые очерки, написанные в 1958–1967 годах.
То есть, и те, что он написал, уже вернувшись в Москву.
Там есть истории про поездки на Север, Дальний Восток и, конечно, по Средней Азии. Но тут современный читатель делает неприятное открытие.
В большинстве этих журналистских материалов ничего интересного нет.
Это типовые газетные очерки, которые только и могли появиться в довольно скучной, хоть и влиятельной газете "Правда". То есть, да — одна статья в этом официальном органе ЦК КПСС, могла решить не только судьбу человека, но и целого учреждения или части территории страны. Но вот при этом (если не читать специальные указания между строк), оставалась газетой именно скучной.
Одни названия чего стоят — рядом с тем текстом, про который я хочу говорить — статья "Штрихи эпопеи".
Нужно сделать оговорку — у главных советских газет было разное назначение. "Правда" была, как я сказал, главным официальным органом, чем-то вроде списка приказов — и он в идеальной стране не должен вызывать развлекательного читательского, интереса, так тут и подавно.
То есть, это сборник отшлифованных несколькими слоями партийной цензуры текстов.
Да, можно было читать между строк или гадать по перемещению портретов о изменениях в Политбюро, но в остальном это вроде как требовать от приказа по полку литературных достоинств (в истории такие приказы бывали, но это, скорее, исключения).
б) как я уже говорил — очень жёсткая система согласований. И в газете, и в соответствующих отделах ЦК, и на местах, где собкор "Правды" был представителем Вот, кажется, главный редактор местной газеты должен был быть членом бюро обкома По-моему, и собкор "Правды" (это хорошо бы проверить). У Симонова было вообще особое положение, не знаю, входил ли он в республиканскую номенклатуру.
В результате — какая уж тут занимательность?
Наконец — происходило своего рода распределение ролей: "Правда" — партийная жизнь, "Известия" — жизнь общественная, "Комсомольская правда" — молодёжная с примесью путешествий Василия Пескова, ну и отдельно — "Труд", в котором кроме жизни профсоюзов как-то выбил себе монополию на НЛО, говорящие руины и проч.
Это, кстати, великая загадка, почему именно орган профсоюзов был самой жёлтой газетой.
Так что в "Правде" не только не были нужны писатели, они этому послевоенному стилю были противопоказаны (Эту ситуацию как раз хорошо сравнить с той, когда Ортенберг накануне войны, а вернее во время начавшейся необъявленной войны с Японией на Халхин-голе позвал в свою газету "Красная звезда" именно писателей и поэтов.
Не только писатели, но хорошо пишущие журналисты типа Аграновского и Дороша там были не нужны.
Итак, что очерки Симонова в этой книге вообще невозможно читать.
То есть, и так-то он не был в своей прозе похож на Бабеля и Олешу, но тут уж вообще язык лишён всякой индивидуальности.
Можно читать как раз только материалы, сделанные им для западных газет.
А они там есть, — к примеру, один текст, очень интересный — "Письмо господину Уиксу". Это не просто письмо, а очерк жизни в Ташкете, написанный Симоновым о его жизни в Ташкете — том Ташкенте, ещё до землетрясения.
Симонов пишет письмо-очерк главному редактору журнала "Атлантик Моксли" Уиксу и помечает его 2-м февраля 1960 года.
Есть такая забытая ныне книга Симонова "Остаюсь журналистом".
Это очень интересный феномен советских журналистов, которые собирали в книгу свои очерки и статьи.
Традиция эта, в общем, довольно давняя, и сейчас популярная персона распоряжается не только своими текстами, но и сценариями своих телепередач по безотходному принципу.
Но если сейчас это диктуется законами рынка, то в прежние времена этими сборниками управляли свои, особенныек законы.
Что тут интересного?
А то, что Симонов в эти годы (вернее, в части тех лет, когда писались эти очерки, находился в опале.
Автор не просто всенародно любимых стихов, а всенародно помнимых стихов, лауреат шести Сталинских премий, главный редактор "Нового мира" и "Литературной газеты" оказался жителем Ташкента.
Он, хоть и был специальным корреспондентом газеты "Правда" — должность очень сильная, но это всё-таки изменения радикальные.
В книгу, впрочем, вошли путевые очерки, написанные в 1958–1967 годах.
То есть, и те, что он написал, уже вернувшись в Москву.
Там есть истории про поездки на Север, Дальний Восток и, конечно, по Средней Азии. Но тут современный читатель делает неприятное открытие.
В большинстве этих журналистских материалов ничего интересного нет.
Это типовые газетные очерки, которые только и могли появиться в довольно скучной, хоть и влиятельной газете "Правда". То есть, да — одна статья в этом официальном органе ЦК КПСС, могла решить не только судьбу человека, но и целого учреждения или части территории страны. Но вот при этом (если не читать специальные указания между строк), оставалась газетой именно скучной.
Одни названия чего стоят — рядом с тем текстом, про который я хочу говорить — статья "Штрихи эпопеи".
Нужно сделать оговорку — у главных советских газет было разное назначение. "Правда" была, как я сказал, главным официальным органом, чем-то вроде списка приказов — и он в идеальной стране не должен вызывать развлекательного читательского, интереса, так тут и подавно.
То есть, это сборник отшлифованных несколькими слоями партийной цензуры текстов.
Да, можно было читать между строк или гадать по перемещению портретов о изменениях в Политбюро, но в остальном это вроде как требовать от приказа по полку литературных достоинств (в истории такие приказы бывали, но это, скорее, исключения).
б) как я уже говорил — очень жёсткая система согласований. И в газете, и в соответствующих отделах ЦК, и на местах, где собкор "Правды" был представителем Вот, кажется, главный редактор местной газеты должен был быть членом бюро обкома По-моему, и собкор "Правды" (это хорошо бы проверить). У Симонова было вообще особое положение, не знаю, входил ли он в республиканскую номенклатуру.
В результате — какая уж тут занимательность?
Наконец — происходило своего рода распределение ролей: "Правда" — партийная жизнь, "Известия" — жизнь общественная, "Комсомольская правда" — молодёжная с примесью путешествий Василия Пескова, ну и отдельно — "Труд", в котором кроме жизни профсоюзов как-то выбил себе монополию на НЛО, говорящие руины и проч.
Это, кстати, великая загадка, почему именно орган профсоюзов был самой жёлтой газетой.
Так что в "Правде" не только не были нужны писатели, они этому послевоенному стилю были противопоказаны (Эту ситуацию как раз хорошо сравнить с той, когда Ортенберг накануне войны, а вернее во время начавшейся необъявленной войны с Японией на Халхин-голе позвал в свою газету "Красная звезда" именно писателей и поэтов.
Не только писатели, но хорошо пишущие журналисты типа Аграновского и Дороша там были не нужны.
Итак, что очерки Симонова в этой книге вообще невозможно читать.
То есть, и так-то он не был в своей прозе похож на Бабеля и Олешу, но тут уж вообще язык лишён всякой индивидуальности.
Можно читать как раз только материалы, сделанные им для западных газет.
А они там есть, — к примеру, один текст, очень интересный — "Письмо господину Уиксу". Это не просто письмо, а очерк жизни в Ташкете, написанный Симоновым о его жизни в Ташкете — том Ташкенте, ещё до землетрясения.
Симонов пишет письмо-очерк главному редактору журнала "Атлантик Моксли" Уиксу и помечает его 2-м февраля 1960 года.






 Verbatim
Verbatim





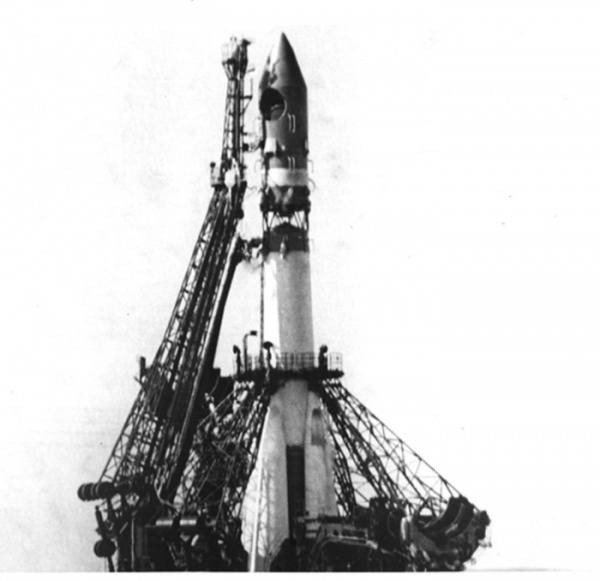


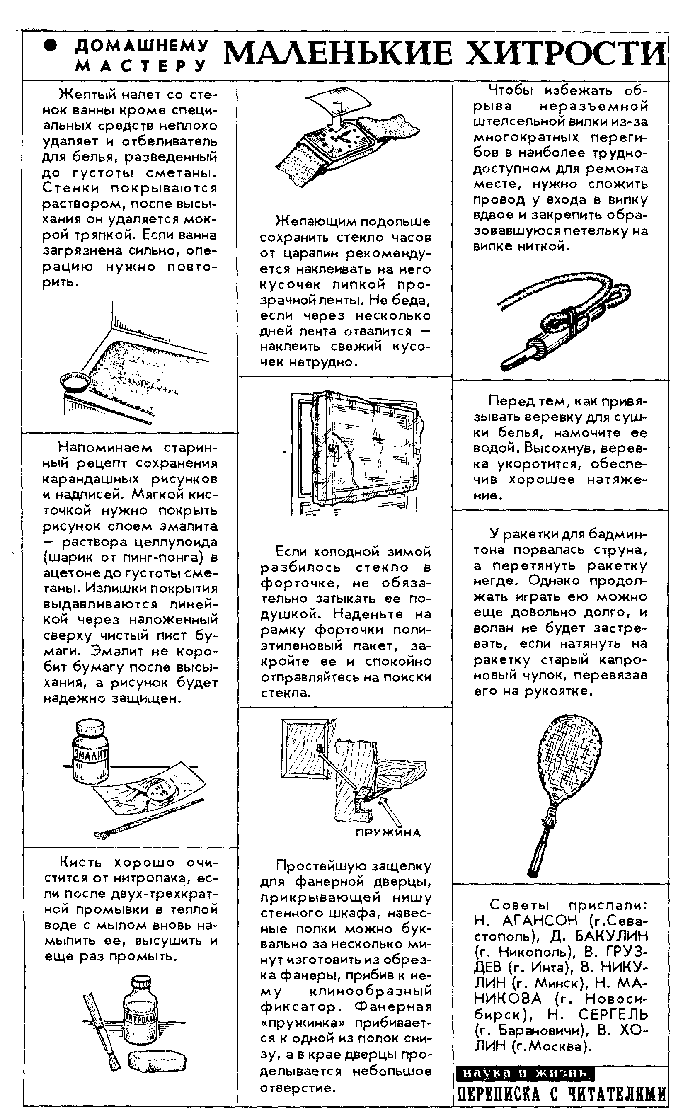
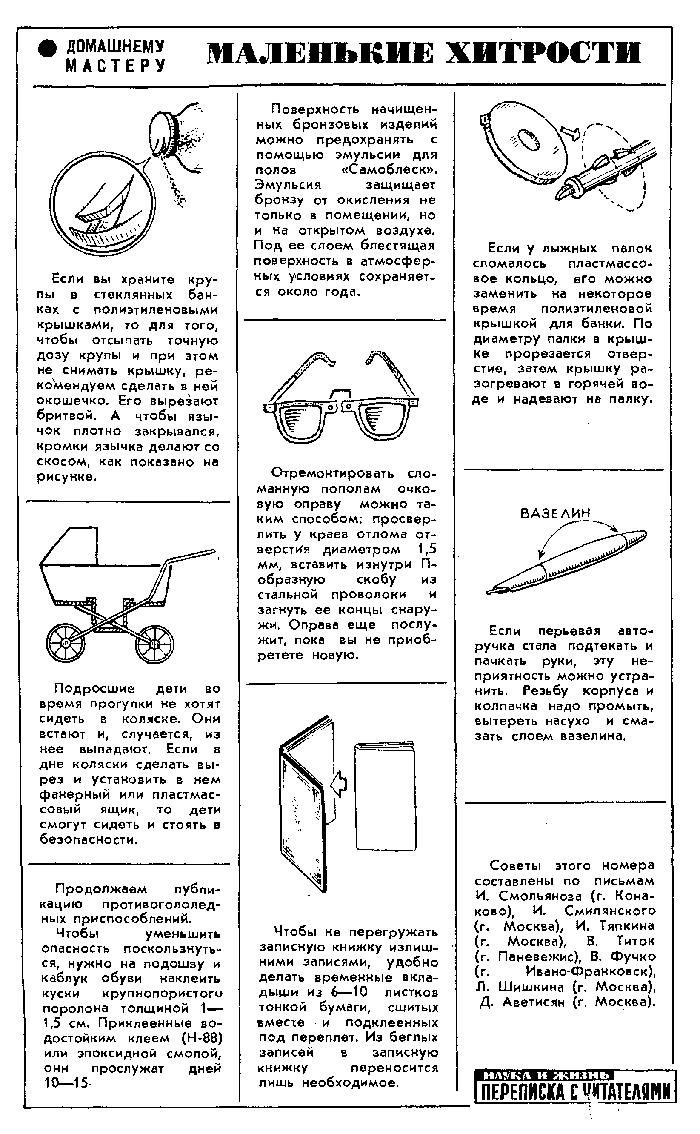
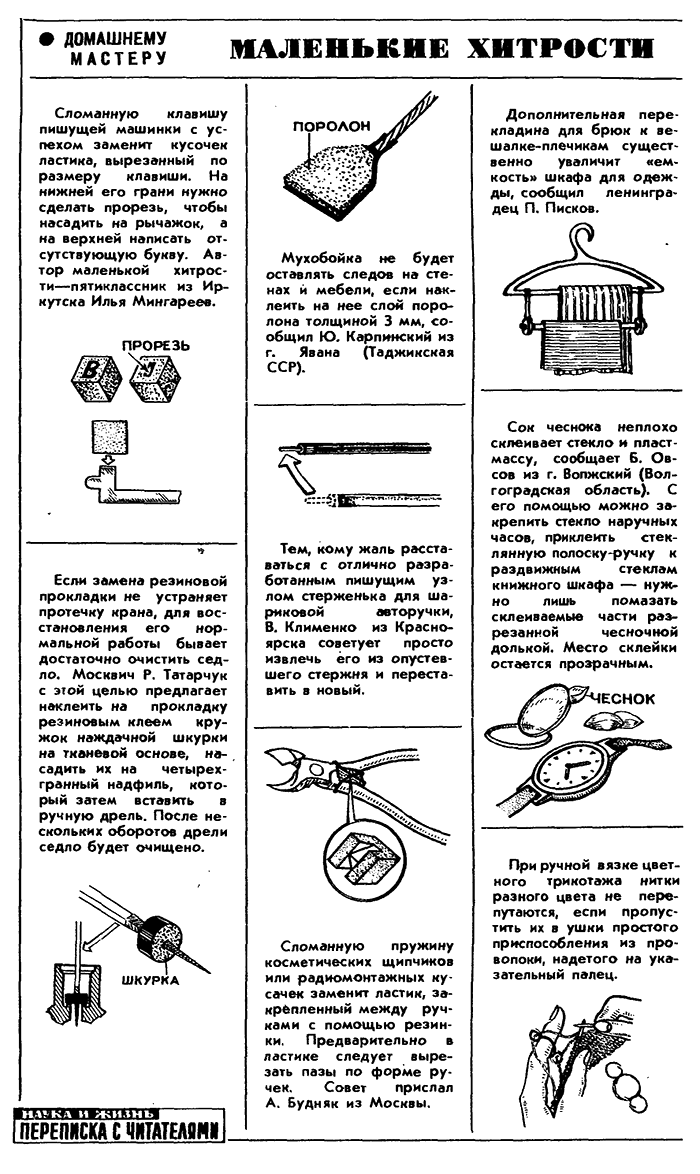
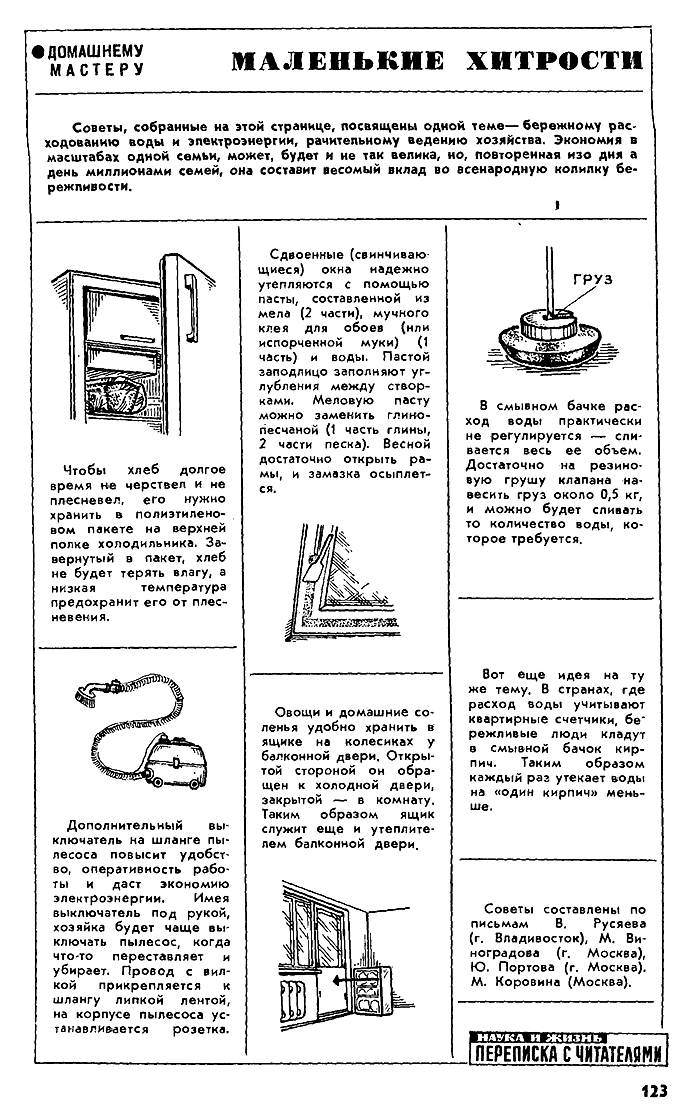




 Первая — это снимок Галины Санько "Групповое фото узников лагеря № 5. Петрозаводск. 28 июня 1944 года" — понятно, что Петрозаводск был осовобождён в этот день и пока он был оккупирован финскими войсками, никто бы не дал фронтовому корреспонденту Санько снимать детей в концентрационном лагере. Однако у нас остаётся впечатление, что узники ещё внутри, за колючей проволокой и выйти не могут. В какой-то мере это фото — постановочное, но именно что — "в какой-то мере".
Дети ещё вчера были узниками и сохраняют своё положение, смотря в объектив.
Первая — это снимок Галины Санько "Групповое фото узников лагеря № 5. Петрозаводск. 28 июня 1944 года" — понятно, что Петрозаводск был осовобождён в этот день и пока он был оккупирован финскими войсками, никто бы не дал фронтовому корреспонденту Санько снимать детей в концентрационном лагере. Однако у нас остаётся впечатление, что узники ещё внутри, за колючей проволокой и выйти не могут. В какой-то мере это фото — постановочное, но именно что — "в какой-то мере".
Дети ещё вчера были узниками и сохраняют своё положение, смотря в объектив.
 Вторая история — со снимками Натальи Боде — вот убитый солдат под дорожным указателем.
Это Сталинград.
Вторая история — со снимками Натальи Боде — вот убитый солдат под дорожным указателем.
Это Сталинград.
 Есть ещё один снимок, который называется "Немцы ушли", который изображает одну сохранившуюся стену дома с надписью, оставленной детьми "Мама! Мы с папой каждый день приходим сюда…".
Меж тем, есть такой вполне апологетический фильм «Две женщины и «Тигр»", заподозрить который в недоброжелательстве к двум фронтовым фотографам невозможно.
И вот в нём, безо всякого смущения рассказывается, как автор снимка на вопрос "Где же нашлась такая надпись?" отвечает: "А мы сами это написали".
Немецкий солдат под указателем оказался перетащенным с другого места. Если кому неинтересно пересматривать этот фильм, то он может услышать эти истории, начиная с 23'50''.
Не верить этим словам вовсе нет никакого резона.
Что из этого следует?
Есть ещё один снимок, который называется "Немцы ушли", который изображает одну сохранившуюся стену дома с надписью, оставленной детьми "Мама! Мы с папой каждый день приходим сюда…".
Меж тем, есть такой вполне апологетический фильм «Две женщины и «Тигр»", заподозрить который в недоброжелательстве к двум фронтовым фотографам невозможно.
И вот в нём, безо всякого смущения рассказывается, как автор снимка на вопрос "Где же нашлась такая надпись?" отвечает: "А мы сами это написали".
Немецкий солдат под указателем оказался перетащенным с другого места. Если кому неинтересно пересматривать этот фильм, то он может услышать эти истории, начиная с 23'50''.
Не верить этим словам вовсе нет никакого резона.
Что из этого следует?